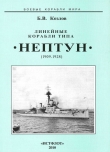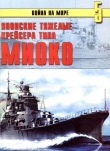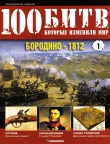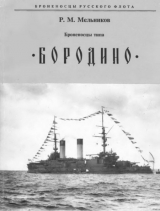
Текст книги "Броненосцы типа "Бородино" "
Автор книги: Рафаил Мельников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Достройка кораблей и реорганизация системы казенного судостроения
Отстав в сроках спуска кораблей на воду от Балтийского завода, казенные верфи в очередной раз проявили свою неспособность конкурировать с частным предприятием. И как прежде, это отставание увеличивалось в достроечный период, когда и номенклатура контрагентских поставок, и возможности их задержки резко увеличивались. И без того запоздав с развертыванием программы постройки кораблей, министерство оказалось наконец перед необходимостью реорганизации системы казенного судостроения. Первым ощутимым толчком к преобразованиям было скандальное разоблачение этой системы в статье и Искалеченные броненосцы", опубликованной в марте-апреле 1898 г. журналом «Русское судоходство». Оперируя попавшим ему в руки отчетом контр-адмирала В. П. Мессера об испытаниях кораблей в 1897 г., автор статьи приводил факты халтуры и недоделок, обличавшие казенную постройку, от которой частные заводы отличались и меньшим сроком работ, и лучшим качеством.
Тогда в сентябре 1898 г. докладом управляющего Морским министерством № 3525 председатель МТК вице-адмирал И. М. Диков впервые прямо указал на вред совершившейся в предшествующий период (речь,очевидно, шла о И. А. Хлестакове) сверхцентрализации управления судостроением. В результате получилось, что "портовые техники, являясь второстепенными лицами в порту и не распоряжаясь самостоятельно своим делом, не могут за него и отвечать". Для обсуждения предлагавшихся адмиралом коренных и неотложных мер (повышение уровня подготовки инженеров, придание им большей ответственности и самостоятельности, расширение штата МТК за счет двух помощников председателя и др.) была создана особая комиссия.
Первые итоги ее деятельности подвели журналом № 152 от 20 декабря 1899 г., когда МТК предложил оставить за собой решение лишь принципиальных вопросов новой техники, а все остальное, вроде рассмотрения спецификаций или ведомостей окраски, передать в непосредственное ведение строителей. Казенное судостроение предлагалось вывести из подчинения портовым службам и замкнуть его непосредственно на МТК. Отмечалась и сомнительная роль наделенного слишком большой властью, но не отвечающего за технику ГУКиС. Из-за этого МТК часто оказывался в зависимости от "финансовых соображений" этого учреждения, что служило источником "не только задержки, но иногда и не соответствующих распоряжений". Высказывавший это мнение и. о. главного инспектора артиллерии генерал-майор А. С. Кротов считал "единственным, притом вполне правильным и не требующим большой ломки выходом из этого положения" слияние МТК и ГУКиС в единое учреждение. Это мнение подтверждал и большой объем взаимной переписки: в ГУКиС из МТК шло 37% его исходящих бумаг, в МТК поступал – 41% всех бумаг ГУКиС.
И хотя П. П. Тыртов к столь революционной мере оказался не готов ("нигде этого нет, чтобы и техника и хозяйственная часть были ведением одного учреждения", – гласила одна из его резолюций), все же некоторые преобразования в пользу судостроения совершились. Важнейшим из них стало выделение нового судостроения в Петербурге (другие регионы решили пока не трогать) по примеру Балтийского завода в самостоятельную производственную структуру под руководством главного корабельного инженера порта. В его штате предусматривалось два помощника главного корабельного инженера, два инженера-механика, артиллерийский и минные офицеры. Заготовки, заказ материалов и оборудования, оснащение и развитие производства осуществляла особая комиссия под председательством командира порта при участии главного корабельного инженера и представителя государственного контроля. Положение о новом судостроении существенно облегчило работу строителям петербургских казенных верфей. В других портах, даже таких, как постоянно занятый судостроением Николаевский, прежняя архаичная система осталась без изменений.
Удачным был и подбор кадров нового судостроения. Помощником главного корабельного инженера Петербургского порта назначили К. П. Боклевского, вернувшегося из Франции, где он был наблюдающим за постройкой "Цесаревича" и "Баяна". Выдающийся инженер и педагог, он в 1902 г. стал первым деканом созданного в составе Политехнического института кораблестроительного отделения. Опыт работы на "Ретвизане" имел прибывший из Америки артиллерийский офицер полковник В. А. Алексеев – автор изданного накануне войны, но не оцененного современниками исследования "Скорость стрельбы". Крупным специалистом был и минный офицер по новому судостроению лейтенант П. П. Азбелев, за плечами которого было 10 лет плаваний на крейсерах. Под его руководством были разработаны системы проводки электрического тока на строившихся портом кораблях и оснащение их электрическим оборудованием и минным вооружением.
Все достроечные работы по механизмам кораблей обеспечивал инженер-механик В. П. Ведерников, который после 5 лет службы старшим механиком императорской яхты "Штандарт", с 1901 г. по 1911 г. работал в Петербургском порту, а затем возглавил механический отдел ГУК. Многоопытными инженерами были и строители кораблей: броненосца "Бородино" – Д. В. Скворцов, "Орла" – М. К. Яковлев (он первым готовил к нефтяному отоплению построенный им в Николаеве "Ростислав"). Не уступали им в опыте и строители "Императора Александра III" – В. X. Оффенберг и "Князя Суворова" – К. Я. Аверин.
Но ни талант и энергия строителей, ни частичное улучшение условий их работы не могли превозмочь продолжавший неумолимо действовать фактор технико-экономической отсталости, задержек решений МТК и мало согласованной с ним деятельности ГУКиС. Вместе с постоянными задержками сроков контрагентских поставок все это отодвигало сроки готовности кораблей, усугубляло их отставание от начатых лишь немногим раньше "Ретвизана" и "Цесаревича".
С трудом налаживавшийся порядок постройки броненосцев едва не был сорван проявленной в январе 1900 г. инициативой великого князя Александра Михайловича. Увлеченный новыми идеями в судостроении, великий князь, командовавший в это время броненосцем "Ростислав", предложил на базе броненосцев типа "Бородино" создать новый тип с артиллерией единого калибра из 16 203-мм орудий в 8 башнях. Сверх того, предполагалось установить 4 152-мм, 16 75-мм, 14 47-мм и 4 37-мм пушки. Проект, разработанный Д. В. Скворцовым, предусматривал увеличенные до 14000 т водоизмещение и до 19 уз (при форсированной тяге) скорость. В нем предвосхищались характеристики построенных в 1904 г. по проекту В. Куниберти итальянских 22-узловых броненосцев типа "Витторио Эмануэле", которые, правда, чтобы пробивать любую броню противника, были вооружены еще двумя 305-мм орудиями в концевых башнях. Ввиду необходимости технического обоснования проект было решено вынести на специальное обсуждение в собрание адмиралов. Это обсуждение 31 января 1900 г. (журнал № 6) показало уровень мышления тех, в чьих руках были судьбы судостроения, флота и всей России.

Балтийский завод. 21 июля 1901 г. Через несколько минут корпус броненосца «Император Александр III» сойдет на воду.
Непонимание значения скорости и абсолютное нежелание и неумение ее использовать, столь ярко проявленные в Цусиме З. П. Рожественским, с определенностью просматривается в этом обсуждении. Повышенную на 1 узел скорость (17,4 уз вместо 16,4 уз при натуральной тяге) существенным достоинством не признали, так как для эскадренного хода, определяемого худшим ходоком, один лучший ходок не имеет значение. Использование скоростной маневренной группы, охват головы противника силами ударного ядра, разведка -все эти, вполне элементарные уже в то время понятия (японцы их сумели реализовать еще в 1895 г.) собравшихся почему-то не занимали. Вопрос о скорости стал лишь поводом к очередной перепалке по поводу котлов Никлосса, ярым сторонником которых по-прежнему оставался В. П. Верховский.
Превратно истолковано было и мнение председателя МТК о том, что предложенная в проекте однородная артиллерия в принципе, конечно, лучше и в боевом отношении выгоднее. Поддержав мнение о пользе однородности, которая позволяла добиться повышения процента попаданий, В. П. Верховский добавил, что еще лучше было бы остановиться на 152-мм пушках, которые за счет повышенной скорострельности обеспечат еще больший процент попаданий. Это ведь главное – процент попаданий. А много ли попаданий дает стрельба только из четырех 305-мм пушек? – задавался саркастическим вопросом В. П. Верховский. Мысль о том, что процент попаданий можно повысить и другим, более отвечающим задачам боя способом – увеличением числа 305-мм пушек – адмиралу, чьим девизом уже давно стало одно слово "экономия", не могла, конечно, прийти в голову.
Так преломлялась в русском флоте извечная проблема "отцов и детей". Только "отцы" мыслили совсем иначе: "Трудно попасть с большого расстояния, но попавши, можно нанести огромный вред", – писал в 1855 г. Г. А. Бутаков. "Корабли строятся для пушек", – вторил ему в 1862 г. А. А. Попов, разумея, конечно, пушки наибольшего калибра -те, которые могли нанести противнику действительное поражение. Но эти мысли остались невостребованными и в новом, созванном в апреле и значительно расширенном собрании адмиралов. Вариантов обсуждения было лишь три: вооружение только из 203-мм пушек, смешанная артиллерия 305– и 203-мм калибров, смешанная артиллерия из 305– и 152-мм пушек. Конец дискуссии положила справка ГУКиС о том, что из– за "весьма ограниченных" финансовых возможностей строить новый броненосец можно только вместо уже заказанных Балтийскому заводу броненосцев №№ 7 или 8 (будущие "Князь Суворов" и "Слава"), на всю артиллерию и башни которых заказы уже даны.

Корпус «Императора Александра III» в эллинге перед спуском на воду.
Последний шанс вырваться из порочного круга рутинных догм и понятий (что, впрочем, уже не могло помочь усилению флота перед надвигавшейся войной) представился адмиралам в 1903 г., когда потребовалось решить, как рациональнее использовать только что представленный министерству особый, но, увы, запоздалый, кредит. Вопрос стоял так повторять ли проект типа «Бородино», заняться ли текущим усовершенствованием строившихся кораблей этого типа, создать ли на их базе обновленный проект (отнеся, в частности, броневую внутреннюю переборку от борта вместо 1,98 м на 4,88 м и заменив 152-мм пушки на 203-мм) или «составить совершенно новый проект линейного броненосца, вполне отвечающий всем современным требованиям, а также обладающий значительными преимуществами по сравнению с проектами, принятыми в других флотах».
На совещании в ГМШ 17 января 1903 г. выяснилось, что повторить тип "Бородино" невозможно по той причине, что строительная перегрузка этих кораблей достигла уже 600 т, поэтому потребовалось бы довести их проектное водоизмещение до 15 330 т, т. е. превысить на 1800 т. И поскольку новый проект, как и корректировка прежнего заняли бы по расчетам главного корабельного инженера один и тот же, примерно 3-месячный срок (о способах кардинальной разгрузки думать тоже не стали), вопрос решился в пользу составления проекта улучшенного броненосца типа "Бородино". Его водоизмещение должно быть не больше 16500 т, скорость не менее 18 уз и углубление не более 7,93 м (как у "Бородино"). Названное водоизмещение получилось путем уточнения и корректировки основных статей нагрузки при условии замены 152-мм орудий более мощными, но еще пока не выпускавшимися 203– мм пушками с длиной ствола в 50 калибров.
Другим напоминанием о приобщении к техническому прогрессу было предложение о применении автоматических и полуавтоматических пушек противоминной артиллерии. Их, прямо сказать, удручающий набор, свидетельствовавший, видимо, не о тактических обоснованиях, а о технической наличности, включал двадцать 75-мм полуавтоматических (за 76-мм броневым прикрытием), двадцать 47-мм полуавтоматических, шесть 37-мм автоматических, две 75-мм десантных пушки и 8 пулеметов. На какой дистанции и против какого противника рассчитывали действовать этой артиллерией, что от нее останется после серьезного боя – об этом, видимо, не задумывались. Кроме того, предполагалось иметь 5 подводных и один кормовой надводный минный аппарат.
Таков в канун войны, до которой оставалось уже менее года, был тактический и стратегический багаж собранных в ГМШ адмиралов. Он свидетельствовал о том, что эти "флотоводцы" и знать не хотели о той огромной дальности и резко выросшей скорострельности 305-мм орудий, которые, благодаря уже появившимся оптическим прицелам (американцы их применили уже в войне с Испанией в 1898 г.) и базисным дальномерам, вот-вот должны были стать определяющим оружием морских сражений. Им будто и в голову не приходило, что в этих сражениях на большой дистанции уже наверняка не останется места минным аппаратам, а для борьбы с резко увеличившимися в размерах миноносцами окажутся негодными не только 37-мм или 47-мм, но также и 75-мм пушки, те самые, которые еще 4 года назад З. П. Рожественский, бывший первым претендентом на пост начальника ГМШ, не признавал за оружие и справедливо относил в разряд бесполезного балласта.
Показательно и строгое ограничение водоизмещения величиной 16500 т, хотя даже по весьма произвольной прикидке МТК получалось, что усовершенствование проекта типа "Бородино" и притом без всякого запаса выльется в водоизмещение 16 200 т. Перевалив наконец через соблюдавшийся мистический 12 000-тонный порог, собравшиеся сочли это, видимо, столь большой уступкой не умеющим укладываться в рамки инженерам, что вопрос о проектировании некоего принципиально нового корабля со "значительными преимуществами" перед иностранными образцами даже не поднимался.
Ничего оригинального не предлагали и отвыкшие от конкурсных проектов корабельные инженеры. Ведь к ним, в отличие от шестаковских времен, теперь с такими заданиями уже давно не обращались. Испытывая огромный некомплект, неся в порту сразу несколько служебных "нагрузок", корабельные инженеры задыхались под гнетом убивавшей творчество казенной системы. Половинчатые меры организационной перестройки и заклинания МТК о недопустимости перегрузок (по сему случаю еще 13 декабря 1900 г. состоялся приказ управляющего Морским министерством) не могли изменить характер казенного судостроения, и новые корабли почти во всем продолжали повторять тот же мучительный путь постройки, каким создавались их предшественники. Никаких изменений в порядке постройки и сроках готовности пяти броненосцев, главнейших из всех прежних программ судостроения, не произошло.


Корпуса «Императора Александра III» (вверху) и «Славы» спущены на воду.
Война. Ускорение работ
Испытания строившихся броненосцев планировали начать в конце навигации 1904 г., а завершение сдачи -в 1905 г. Война, начатая японцами 27 января 1904 г., ни в чем эти планы не изменила. Режим, оказавшийся неспособным ни оценить надвигавшуюся на него опасность, ни принять мер по ее предупреждению, обрекал себя на поражение с первого дня войны. Флот пожинал плоды бездарного распределения средств и выбора приоритетности заказов, отчего в опережающей готовности находилась большая группа не имевших в эскадренном бою решающего значения бронепалубных крейсеров. В результате из кораблей новой программы, имевших 305-мм артиллерию, в Порт-Артур до начала войны успели попасть только построенные за границей «Ретвизан» и «Цесаревич». Задача же ускоренной переброски на Восток новых броненосцев,
похоже, даже не ставилась. И, снаряжая летом 1903 г. к походу в Тихий океан последний из броненосцев-крейсеров "Ослябю", Морское министерство не предприняло никаких шагов к ускорению готовности "Императора Александра III", который мог бы войти в состав отряда под командованием А. А. Вирениуса. Работы на нем продолжались в соответствии с оставшимися неизменными планами министерства. В том же "плановом" порядке продолжались на кораблях работы и после начала войны.
Правда, спустя неделю после японского нападения МТК (журналом № 19 от 5 февраля 1904 г.) представил на усмотрение начальства ряд мер по ускорению готовности кораблей, а управляющий Морским министерством Ф. К. Авелан "во исполнение Высочайшей его императорского Величества воли" своей резолюцией предписал "безотлагательно организовать экстренные работы по скорейшей достройке" не только четырех эскадренных броненосцев типа "Бородино" (пятый "Слава" из списка на ускорение почему-то выпадал), но также и крейсера "Олег". Все эти корабли, а также броненосец "Сисой Великий" требовалось подготовить к дальнему плаванию не позже 1 июля. Но, как вспоминал лично участвовавший в этих работах В. П. Костенко, все эти предписания в течение первых двух месяцев войны никакого ускорения не вызвали. Строгий приказ, как это часто происходило в бюрократических структурах, был лишь имитацией "распорядительности" и, не будучи подкреплен дополнительным финансированием, просто повис в воздухе. Хуже того, когда в конце марта 1904 г. обеспокоенный медлительностью работ (на "Орле" тогда работало лишь 300 человек) Д. В. Скворцов подал рапорт о необходимости выделения средств на их форсирование, из ГУКиС последовало разъяснение, что за неимением специального кредита испрашиваемые главным корабельным инженером сверхурочные работы разрешены быть не могут.
Между тем корабли готовились к переходу для достройки в Кронштадт, где им предстоял неизбежный и всегда болезненный (со времен Петра Великого) период "акклиматизации" в чужом порту, когда из-за отрыва от своего завода-строителя работы во многом приходилось налаживать заново. Для новых броненосцев, отличавшихся особой сложностью конструкции и техники, да еще приходивших в Кронштадт не поодиночке, как бывало прежде, перебазирование грозило особенно многообразными и тягостными задержками. И поэтому строители прилагали все усилия, чтобы как можно больше работ успеть выполнить до того, как корабль оторвется от заводской стенки.
Но в ГУКиС не задумывались над тем, что в Кронштадте эти работы потребуют и сил и времени в несколько раз больше и что отказ в сверхурочных работах на заводе означает заведомую дополнительную задержку готовности кораблей.
Именно так уже и происходило с "Императором Александром ИГ, который находился в Кронштадте со времени осенних испытаний 1903 г. Обнаруженная на испытаниях (как это было с "Цесаревичем" во Франции) рыскливость усугублялась чувствительностью корабля к перекладке руля на борт, отчего при 17-уз скорости появился большой крен, и от катастрофы спасла лишь быстрая перекладка руля и уменьшение скорости. Но МТК в силу своей вечной чиновной медлительности по-прежнему был не способен опережать события. Решение о предотвращении подобных явлений посредством срезания части боковых килей, заделки той самой по-французски изысканной прикильной части кормового дейдвуда и окна в нем *
[Закрыть]состоялось только 30 января 1904 г. К работам в доке смогли приступить в июле.
Состоявшийся с началом навигации перевод в Кронштадт одного за другим броненосцев привел Кронштадтский порт почти в состояние паралича, а работы на кораблях-к их глубокой дезорганизации. Этому способствовала нехватка местных рабочих рук, неустроенность прибывших с кораблями рабочих, потери времени на их ежедневные перевозки из Петербурга в Кронштадт, запутанность отношений портовых структур, строителя и уже назначенного на корабль экипажа. Ощутимо сказались ограниченные производственные мощности порта, и без того обремененного всегда большим объемом ремонтных работ.
Абсурд этой архаичной системы доходил, по свидетельству В. П. Костенко, до того, что постоянно занятый при достройке "Орла", приписанный к нему, петербургский буксир "Охта" периодически совершал рейсы для бункеровки в Петербург, так как в "чужом" Кронштадтском порту получить уголь было нельзя. Этот буксир, в ущерб работам у борта броненосца постоянно ходил в Петербург с деталями для обработки их на станках "своего" завода, так как в Кронштадте многие из этих работ выполнить не могли или не хотели. Как писал В. П. Костенко, броненосцы, переведенные в Кронштадт, оказались "оторваны от своих заводов и брошены на произвол судьбы у пустых стенок Кронштадтского порта".
Для броненосца "Орел" все эти обстоятельства были усугублены еще и огромным объемом работ по устранению последствий нелепой, но по-своему логической, прямо вытекающей из условий работ в Кронштадтском порту аварии. Она произошла первой же ночью после прихода корабля в Кронштадт 3 мая 1904 г. Стоявший у наружной стенки Кронштадтской гавани броненосец неожиданно для всех, оборвав швартовы, повалился на борт и не опрокинулся лишь потому, что до потери остойчивости сел днищем на грунт. Корабль оказался целиком (из-за множества монтажных отверстий в переборках) заполнен водой, вровень с ее горизонтом гавани. К двухнедельным работам по осушению отсеков и подъему корабля добавились расходы на переборку всех оказавшихся в воде электродвигателей и множества других механизмов.
Авария вызвала много толков и подозрений в диверсиях со стороны японских шпионов или рабочих, выбивших будто бы несколько заклепок в днище корабля. Этой сомнительной версии даже в 1917 г. придерживались авторы изданной МГШ официальной истории русско-японской войны. В действительности, как выяснилось сразу после аварии, все было гораздо проще. Из-за достроечной неразберихи и затянувшегося на корабле "двоевластия" должный надзор за состоянием швартовов, уровнем воды в гавани и глубиной под днищем организован пе был. В результате схода воды корабль сел на грунт. Оставленные не заделанными для работ на следующий день, низко расположенные отверстия для крепления снятых при переходе броневых плит начали принимать воду, которая и затопила все отсеки. Достройка и восстановление заняли еще полгода, и корабль сумел присоединиться к эскадре З. П. Рожественского только 22 сентября – за 6 дней до выхода ее из России.
*Все это по опыту «Цесаревича» можно было, проведя предварительные испытания а опытном бассейне, осуществить в 1903 году.
Хроника и судьбы отечественных броненосцев, типы которых создавались накануне русско-японской войны




«Бородино» на достройке. Кронштадт, 1903 г.

«Бородино» перед ходовыми испытаниями. Кронштадт, 1904 г.
Катастрофа 31 марта 1904 г. броненосца «Петропавловск» под Порт-Артуром и гибель на нем командующего флотом С. О. Макарова вынудили Морское министерство отказаться от надежд справиться с японцами наличными силами эскадры Тихого океана и всерьез взяться за формирование 2-й Тихоокеанской эскадры. Ее ядро должны были составить четыре новейших броненосца типа «Бородино». На ускорение их достройки были направлены объединенные усилия командира Кронштадтского порта А. А. Бирилева и строителей кораблей. Хорошо, видимо, помня свои достроечные злоключения в должности командира броненосца «Гангут» и отвечая карьерой за ускорение готовности кораблей, А. А. Бирилев на устроенном им большом совещании руководителей двух портов позволил главному корабельному инженеру Петербургского порта Д. В. Скворцову с полной откровенностью раскрыть картину тормозящих на каждом шагу все работы портовых «порядков».
Стало ясно, что "экономическая" система, созданная В. П. Верховским и основанная на полном лишении технической и хозяйственной самостоятельности, пришла к полному краху. И как прежде (при организации 50 лет назад постройки винтовых канонерских лодок), снова потребовалось ради экстренного выполнения работ отступать от норм дискредитировавшей себя системы. Только после совещания 10 июля 1904 г., считал В. П. Костенко, когда строители получили значительную свободу действий, можно было сказать, что "работа начинается по-настоящему". "Потребовалось с начала войны пять месяцев, – добавлял он, – чтобы раскачать заржавевшую машину нашей портовой организации".
Но время, потерянное в предвоенные годы, и прошедшие с начала войны месяцы нельзя было вернуть уже никакими экстренными мерами. Оставалось хотя бы успеть подготовить к сроку уход в плавание 2-й эскадры.
И судостроители сделали почти невозможное: вместо 750 рабочих, имевшихся на "Орле" в середине июня 1904 г., их число довели до 1200 человек от завода. Еще свыше 400 человек работало от контрагентов по механизмам, артиллерии и оборудованию и до 100 человек матросов-специалистов были привлечены к работам за плату наравне с рабочими. К 20 июня полностью был готов и после дока вышел на рейд "Император Александр III". "Князь Суворов" готовился к испытаниям. Иными словами, полный цикл постройки этих кораблей составил почти столько же времени, сколько заняла постройка "Ретвизана", и оказался существенно короче, чем у "Цесаревича". Тем самым наши инженеры еще раз подтвердили, что при наличии свободы действий они ни в чем не уступают западным. Уверенный в своем предприятии, С. К, Ратник выступил с инициативой к осени 1904 г. подготовить к плаванию и пятый корабль серии – "Славу", спущенный на воду в августе 1903 г.
Но Ф. К. Авелан и З. П. Рожественский, рассчитывая на скорую отправку эскадры, сочли предложение С. К. Ратника нереальным и тем самым совершили очередной из просчетов, которыми были переполнены события, связанные с русско-японской войной. Не поверив в возможность отечественной промышленности, руководители Морского министерства бросились в другую крайность. Чуть ли не в продолжение всей войны они возлагали надежды на не имевшую никаких перспектив покупку так называемых "Экзотических крейсеров". Эти надежды сорвали включение "Славы" в состав эскадры, помешали своевременно перевооружить старые корабли новой артиллерией и в то же время способствовали задержке ухода из России 2-й эскадры.