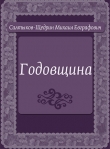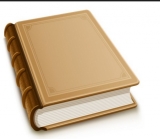
Текст книги "М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество"
Автор книги: Р. в. Иванов-Разумник
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Все это непосредственно касается социальнопсихологических повестей конца сороковых годов, а в том числе и повести „Запутанное дело“, – недаром же именно за нее Салтыкову пришлось поплатиться восьмилетней ссылкой в Вятку. Социальные элементы были и в „Противоречиях“, и в этом отношении связь между первыми двумя повестями Салтыкова не возбуждает сомнения. Уже в „Противоречиях“ была ясно намечена тема социального неравенства; уже там Нагибин спрашивал: „Скажи ты мне, отчего бы это люди в каретах ездят, а мы с вами пешком по грязи ходим?.. В основании этих жалоб лежит нечто высшее, нежели мой личный эгоизм: этим порядком вещей оскорбляется идея справедливости, врожденная мне“ (стр. 88–90). Тема „кареты“ и социального неравенства становится основной с первых же страниц „Запутанного дела“ и проходит до конца этой повести. Для нас теперь совсем не интересен реальный комментарий к ней, хотя, по указанию С. Кривенко, „находили некоторое сходство между лицами, изображенными в повести, и лицами действительными“ [43]43
С. Н. Кривенко, «М. Е. Салтыков», Биографический очерк (П. 1915 г.), стр. 19. В статье «Социологическая сатира» («Вестник Воспитания» 1914 г., № 4) П. Н. Сакулин высказал очень вероятное предположение, что тип недоросля из дворян Алексиса Звонского метит в приятеля Салтыкова, петрашевца и поэта А. Н. Плещеева; мысль эту повторил и В. И. Семевский в статье «М. К. Салтыков-петрашевец» («Русские Записки» 1917 г., № 1, стр. 39). Укажу заодно, что столь же подробное исследование, как о «Противоречиях», мы находим и о «Напутанном деле» в уже указанной книге того же П. Н. Сакулина «Русская литература и социализм» (стр. 374–382)
[Закрыть]; но тем интереснее тот основной социальный мотив, который проходит через всю эту повесть от начала и до конца. Этот мотив мало назвать социальным, – его надо назвать социалистическим; именно на этой повести Салтыкова несомненно отразилась влияние того „безвестного кружка“ петрашевцев, с которым он был связан в эти дни своей юности.
Надо еще раз подчеркнуть то, на что было обращено внимание уже выше: Салтыков и в те годы увлечения утопическим социализмом иронически оценивал, повидимому, целый ряд конкретных частностей, заставлявших его даже бороться с невозможными „утопиями“. Но утопии эти, которые надо отвергнуть, Салтыков видел только в некоторых несообразных выводах, а не в общем направлении мыслей. Нагибин, за которым, конечно, нельзя видеть автора и которого автор, наоборот, безжалостно „вскрывает“, говорит о себе, что был бы счастлив, если бы мог отдаться одной из двух крайностей: „Был бы или нелепым утопистом, в роде новейших социалистов, или прижимистым консерватором – во всяком случае, я был бы доволен собою. Но я именно посередке стою между тем и другим пониманием жизни: я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь“ (стр. 64). Иронические снова Нагибина в другом месте о Фурье и СенСимоне (стр. 87) еще нагляднее показывают, что между сенсимонистом автором и его печальным героем здесь нельзя ставить знака равенства. Интересно впрочем, что даже этот герой высказывает ряд мыслей, идущих от тех же „утопистов“, с которыми он несогласен; такова, например, мысль о частной собственности на землю, как высшем социальном зле и социальной несправедливости (стр. 27–28). Одного этого места, случайно ускользнувшего от красного цензорского карандаша, вполне достаточно было бы в те годы для ссылки Салтыкова.
В „Запутанном деле“ автор старается скрыть от бдительного ока начальства свои мысли о социализме тем, что выводит на сцену нелепого и смешного сторонника идей утопического социализма. Это некий господин Беобахтер, страшный революционер, злоупотребляющий буквой „р“ и все время делающий отрывистые жесты ладонью сверху вниз, точно отрубающий головы на гильотине. „Тут буква р посыпалась в таком изобилии, что у слушателей даже в ушах затрещало“, – говорит о нем автор в одном месте; и в другом: „…любовь после, а прежде то прочь всё, прррочь… – господин Беобахтер, повидимому, с особенною нежностью любил слова, заключающие в себе букву р“ (по журнальному тексту стр. 61–62, в позднейшем тексте этих фраз нет). Этот Беобахтер снабжает Мичулина революционными французскими брошюрами, требует полного „ррразрррушения“, гильотины, полного уничтожения буржуазного строя („ведь ты „буржуазия“, я тебя знаю…“, – говорит он своему другу): „Разрушить, говорю тебе, ррразрушить – вот что нужно! А прочее всё вздор!.. Прочь их! с лица земли их! Нет им пощады!..“. И он кончает громогласным рррр… – которым автор, вероятно, хотел намекнуть читателю на слово революция. Но этот комический тип – только цензурный громоотвод, впрочем не достигший своей цели, как не достигли цели и другие подобные же выпады, – например, издевательства беспутного помещика Пережиги над Бруно Бауэром и Фейербахом, о которых он что-то слышал и которых называет обоих вместе почемуто одним именем „Бинбахтер“. Все эти выпады не могли закрыть ни от читателей, ни от поздно спохватившейся цензуры взглядов самого автора на проблему социального неравенства, – а этому вопросу и посвящена вся повесть Салтыкова [44]44
В известном нам показании от 25 сентября 1849 г. на вопросные пункты III Отделения Салтыков, однако, очень рассчитывал на действительность столь наивно построенных им громоотводов и, «как особой милости», просил о пересмотре своего дела и о новом рассмотрении своей повести. «Я вполне убежден, – писал он в своем показании, – что в ней скорее будет замечено направление, совершенно противное анархическим идеям, нежели старание распространить эти идеи» («Русские Записки» 1917 г., № 1, стр. 48). Говоря это, Салтыков несомненно имел в виду комическую фигуру Беобахтера, упуская из вида, что она совершенно покрывается теми сценами повести, о которых сейчас будет сказано
[Закрыть].
Достаточно указать только на три сцены повести, в которых действуют не комические Беобахтер и Пережига, а униженный и оскорбленный герой повести Мичулин, устами которого часто говорит сам автор. Первая из этих сцен была отчасти приведена выше: голодная семья, продающая себя богатому старику мать, ужин на эти деньги падения. Мать утешает голодного ребенка: „потерпи, дружок, – говорит мать: – потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке всё голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!“. И на ответ ребенка, что другие же дети сыты и играют – мать, поникнув головою, говорит: „это дети голодных волков играют, это они сыты!“. И заключительный разговор:
„Мама! когда же убьют голодных волков? – снова спрашивает ребенок.
– Скоро, дружок, скоро…
– Всех убьют, мама? Ни одного не останется?
– Всех, душенька, всех до одного… Ни одного не останется“ (Цитата по журнальному тексту, стр. 75–77).
И чтобы подчеркнуть ясный псевдоним этих „волков“, автор тут же намекает на раскрытие его, называя богатого развратника по созвучию – дряхлым „волокитой“; мать, возвращаясь от него с едой, говорит сыну: „это волк прислал“. Знак равенства между „волками“ и „буржуазией“ ставится здесь автором уже совсем ясно.
Вторая сцена еще более характерна, хотя немного более завуалирована – но не для петербургских читателей той эпохи. Говорю „петербургских“ потому, что только они могли знать, о какой это речь идет опере, которую Мичулин уже в конце повести смотрит в театре и которая производит на него потрясающее и именно революционное впечатление. „Давали какую-то героическую оперу“, – сообщает читателям автор и далее на трех страницах подробно рассказывает (с точки зрения Мичулина) о содержании этой оперы. Сначала музыка: „Посреди всеобщего безмолвия вдруг послышался отдаленный горный рожок… Но вот рожку начинает вторить флейточка, к флейточке нерешительно присоединяется скрипка, и вдруг звуки начинают расти, расти“. – Совершенно несомненно, что Салтыков имеет здесь в виду вполне определенную оперу, звуки увертюры которой оказывают на его героя потрясающее действие: „вот это так хорошо! так их! руби их! мошеникки, христопродавцы! – шептал он“. Дальше начинается действие, очень туманно рассказываемое автором, но во всяком случае из рассказа этого вполне ясно, что на сцене действует революционная толпа („да и какая еще толпа!“) и что дело заканчивается народным восстанием. „Да! делото было бы лучше! – думал Мичулин, прогуливаясь в антракте по коридору: – тогда бы, может быть, и я…“ Он не оканчивает фразы, потому что она не цензурна: тогда бы и я примкнул к восставшей толпе, если бы она была не на сцене, а в жизни.
Надо прочесть три-четыре страницы, посвященные этой „опере с перчиком“, как называет ее один из слушателей, чтобы увидеть и всю нецензурность этого места, и отношение автора не к комическим персонажам „утопизма“, а к униженным и оскорбленным людям, для которых выходом из социального неравенства является только революция. Отсюда понятен диалог между Мичулиным и другим слушателем, хотя и комическим персонажем:
– А ведь с перчиком операто? а? как вы насчет этого?
– Да; я думаю, что, если б… – процедил Иван Самойлыч сквозь зубы.
– Уж и не говорите! я сам об этом много думал, да вот насто мало… вот что! (По журнальному тексту, стр. 101).
И, наконец, совершенная нецензурность всего этого места становится ясной, если раскрыть скобки и назвать ту оперу, о которой здесь все время идет речь. Это – опера Россини «Вильгельм Телль», которая в виду своего революционного содержания (восстание народа против притеснителей) была запрещена в то время николаевской цензурой под этим своим названием, но считалась обезвреженной, когда ей дали заглавие «Карл Смелый». Все детальные описания Салтыкова как нельзя более подходит к этой опере; между прочим надо отметить, что она была возобновлена на петербургской сцене как раз в сезон 1846/47 г. [45]45
А. И. Вольф, «Хроника петербургских театров», т. II, стр. 130. – Ниже, в главе X, мы еще увидим, как подробно и уже не завуалированно излагал Салтыков содержание этой же оперы в статье 1863 года, подчеркивая революционность этой оперы и вспоминая про впечатления от нее в сороковых годах
[Закрыть]. Достаточно было бы уже всего этого, чтобы характеризовать социальные и политические взгляды Салтыкова конца сороковых годов; но есть и третья сцена, которой по существу заканчивается повесть и которая, не говоря уже об ее нецензурности, бросает яркий свет на взгляды молодого Салтыкова-петрашевца.
Я говорю о предсмертном бреде Мичулина, в котором перед ним из тумана начинает выделяться бесчисленное множество наклонных колонн, соединяющихся в одной общей вершине и составляющих собою пирамиду. Всматриваясь, Мичулин видит, что колонны все составлены из людей и что сам он находится в самом низу этой живой пирамиды, полураздавленный ее тяжестью.«…Он с силою устремился, чтобы вырвать своего страждущего двойника изпод гнетущей его тяжести. Но какаЯ-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он со слезами на глазах и гложущею тоскою в сердце обратил взор свой выше. Но чем выше забирался этот взор, тем оконченнее казались Ивану Самойловичу люди. (Цитата по журнальному тексту, стр. III). После этих слов следует полторы строки точек, поставленных, очевидно, в виду совершенной невозможности цензурно сказать о высших слоях этой социальной пирамиды.
Образ социальной пирамиды родился в утопическом социализме и был ходячей фигурой в те годы, когда Салтыков писал эту свою повесть [46]46
В цитировавшейся выше статье В. Семевского указано, из какого места произведений СенСимона взята эта социальная пирамида («Oeuvres de St.Simon et d'Enfantin», t. XXXIX (Р. 1873), р. 131–132). СенСимон говорит о социальной пирамиде, в основании которой – фабричные рабочие, следующий ряд – интеллигенция, выше – бюрократия; вершина пирамиды – королевская власть. «Настоящее положение вещей представляет зрелище мира, перевернутого вверх дном: те, кто правят общественными делами, сильно нуждаются в том, чтобы ими самими управляли; высшие способности находятся среди управляемых, а управляющие – люди весьма посредственные»
[Закрыть]. Нечего и говорить о том, что на ряду с „волками“ эта картина давящей массы социальной пирамиды должна была оказаться одним из главных обвинительных пунктов против Салтыкова, когда повести его обратили на себя неблагосклонное внимание начальства. Достаточно было трех указанных выше сцен из „Запутанного дела“, чтобы тяжкий обвинительный приговор оказался несомненным.
Но если стать на точку зрения властей предержащих, то этот суровый приговор был вполне справедливым. Действительно, Салтыков написал „революционную“ по тем временам повесть – и должен был понести за это возмездие. Совершенно непонятно, каким образом повесть эта могла пройти сквозь цензурные теснины; единственным, но и то мало убедительным объяснением может служить предположение, что Салтыкову удалось обмануть наивных цензоров (ими были Л. Крылов и А. Мехелин) теми „громоотводами“, о которых пришлось упомянуть выше. Но все насмешки над комическими последователями „утопического социализма“ не могли скрыть от читателей, что этот же самый социализм является и исходной точкой, и конечным выводом автора. Мало того, в повести явно намекалось не только на несправедливость социального строя, но и на необходимость насильственного социального переворота. Петрашевский в показании, данном через несколько дней после своего ареста, заявил, что он и его товарищи желали „только мирного развития общественного быта“; как видим однако, некоторые из петрашевцев, а в числе их и Салтыков, мечтали не столько о мирном развитии, сколько о народном восстании, которое разрушило бы до основания всю социальную пирамиду. Мы уже видели выше, что в позднейшей повести „Тихое пристанище“ (написанной в 1858–1865 гг.) Салтыков вспоминал о своем юношеском „безвестном кружке“, как кружке политическом, подпольном и революционном. Во всякой случае „Запутанное дело“ – повесть революционная, насколько она могла быть ею в цензурных рамках того времени [47]47
О том, что именно таково было мнение читающей публики, свидетельствует хотя бы следующее место из письма Плетнева к Гроту от 27 марта 1848 г., т. е. немедленно вслед за выходом книжки журнала с повестью Салтыкова: «Вчера был у меня кн. Вяземский. Он указал мне в № 3 „Отечественных Записок“ 1848 г. на повесть „Запутанное дело“. Теперь я читаю ее. Не могу надивиться глупости цензоров, пропускающих подобные сочинения… Тут ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных» («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», Спб. 1896 г., т. I, стр. 209)
[Закрыть].
„Утопия для утопии – тридцатью годами позднее говорил в „Дворянских мелодиях“ Салтыков, – разве это не одно из „приятств“ жизни? Очевидно, что не только об деле, но и об отношении к делу тут речи быть не могло. Порывы наши были смутны, почти беспредметны, и, как я сказал уже выше, ограничивались экскурсиями в область униженных и оскорбленных – область до того бесформенную и уныло однообразную, что мысль и чувство разбегаются по ней, не находя поводов для проверки даже самих себя“… И еще одно замечательное вместо из тех же очерков, в которой Салтыков метко вскрывает социальную основу этих „дворянских мелодий“, так увлекавших его в конце сороковых годов. „Хотя мелодии эти зародились очень давно, в самом начале сороковых годов, но память о них до сих пор так жива и так полна, что мне чудится, что они раздались только вчера. Это было время, когда крепостное право царствовало в полном разгаре, обеспечивая существование избранных и доставляя все удобства для украшения их досугов. И между тем – странная вещь! – молодые дворяне тосковали… Они не могли не почувствовать себя умиленными зрелищем общих симпатий к угнетенным и обделенным, которыми обуревались тогда лучшие умы Запада… Экскурсии в область униженных и оскорбленных, которыми так богата была европейская литература того времени и под влиянием которых уже растворились молодые дворянские сердца, представлялись в этом смысле пищею почти идеальною. Они располагали сердца к чувствительности и вместе с тем не нарушали привычек. Отсюда – дворянские мелодии. Отличительные свойства этих мелодий: елейность, хороший слог, обилие околичностей (обстановок) и в то же время отсутствие конкретного объекта. И, как естественный результат всех этих свойств, взятых вместе – неуловимость“…
В своем месте мы увидим, что все эти выпады направлены, главным образом, против Тургенева и его романа „Новь“; но совершенно несомненно, что Салтыков говорил здесь и pro domo sua, вспоминая „дворянские мелодии“ своей юности – повести „Противоречия“ и в особенности „Запутанное дело“. Как видим, Салтыков склонен был очень иронически отнестись к этим пробам пера своей юности и к вызвавшему их настроению, не сопровождавшемуся конкретными поступками. Но это нисколько не зачеркивает факта действительно революционного настроения молодого Салтыкова и его повестей; мало того, это нисколько не мешает признать, что само это революционное настроение было глубоко положительным фактом в русской литературе сороковых годов. Недаром, как мы знаем, Салтыков даже в семидесятых годах видел в нем единственный луч света, освещавший его молодые годы. „Да, экскурсии в область униженных и оскорбленных не прошли для меня даром“, – говорил Салтыков в тех же очерках, указывая, что жизнь много раз пыталась растоптать эти юные утопии, а он – „всетаки возвращался к ним. И я не только не сожалею об этих возвратах, но даже горжусь ими“.
Глава IV
САЛТЫКОВ В ВЯТСКОЙ ССЫЛКЕ
I
В первой своей автобиографической записке Салтыков лаконически сообщил о своей литературной деятельности после 1848 года: «с 1848 по 1856 в литературной деятельности перерыв» [48]48
Рукописное отделение Публичной Библиотеки, Автобиография Салтыкова
[Закрыть]. Этот невольный перерыв явился, как это ни странно, результатом Февральской революции 1848 года во Франции.
«Я помню, это случилось на масленой 1848 года. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику проткала весть: министерство Гизо пало. Какоето неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми… И вот, вслед за возникновением движения во Франции, произошло соответствующее движение и у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте, я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат Вятского губернского правления. Все это, конечно, сделалось не так быстро, как во Франции, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился в Петербург лишь через семь с половиной лет, когда не только французская республика сделалась достоянием истории, но и у нас мундирные фраки уже были заменены мундирными полукафтанами» [49]49
«За рубежом», «Отеч. Записки» 1881 г., № 1, стр. 231
[Закрыть].
Так рассказывал сам Салтыков спустя тридцать с лишним лет после всех этих великих и малых событий конца сороковых годов. Само собою разумеется, что не случись Февральской революции во Франции, то, быть может, в России не было бы обращено внимания на «злокозненные» повести Салтыкова, тем более, что они так или иначе прошли уже через цензуру и что таким образом ответственность за появление их падала прежде всего на цензоров. Но как раз в то время (27 февраля 1848 г.) был учрежден под председательством кн. Меншикова временный секретный комитет, так и прозванный «меншиковским», для верховного надзора за цензурой. Комитет этот обратил внимание на «Запутанное дело» Салтыкова немедленно же вслед за появлением этой повести в мартовской книжке «Отечественных Записок». В заседании от 29 марта 1848 г. комитет подробно остановился на разборе повести Салтыкова, изложил ее содержание и особенно подчеркнул место о «волках» и аллегорические жесты Беобахтера, намекающие на гильотину. Однако никаких мер воздействия ни против журнала, ни против автора учинять еще, повидимому, не предполагалось; комитет лишь обратил «самое строгое внимание цензуры» на журнал «Отечественные Записки», за которым цензуре поручалось иметь особенное наблюдение [50]50
«Голос Минувшего» 1913 г., № 4, стр. 216–217
[Закрыть].
Эти официальные данные дополняет рассказ академика К. С. Веселовского, нуждающийся, однако, в некоторых поправках. По рассказу этому на повесть «Запутанное дело» обратил в конце марта внимание член меншиковского комитета статссекретарь Дегай. Главное внимание комитета было обращено на предсмертный «сон» Мичулина о социальной пирамиде; комитет решил, что «в этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла – изобразить в аллегорической форме Россию»… После этого рассмотрение повести Салтыкова и было внесено на заседание комитета от 29 марта 1848 года [51]51
К. С. Веселовский, «Отголоски старой памяти», «Русская Старина» 1899 г, № 10, стр. 15–17
[Закрыть]. Мы уже знакомы с протоколом этого заседания, но в нем как раз ничего нет о «пирамиде», а особенно инкриминируются Салтыкову два другие места его повести; поэтому рассказ К. С. Веселовского нуждается в некотором исправлении. Но главным образом надо подчеркнуть тот факт, что судьбу Салтыкова решил вовсе не «меншиковский», а основанный на его месте пресловутый «бутурлинский» комитет. Комитет этот, официально именуемый «Комитет 2 апреля 1848 года», был учрежден под председательством Бутурлина «для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением печатаемых в России произведений»; к нему перешли все дела его предшественника, «меншиковского» комитета, и был начат целый ряд новых дел о злокозненных произведениях русской литературы [52]52
О комитетах этих см. М. Лемке, «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» (Спб. 1904 г.), стр. 194
[Закрыть].
О повестях Салтыкова было сообщено военному министру кн. Чернышеву, так как именно в канцелярии этого министерства служил в то время, как мы знаем, Салтыков. В это же самое время чиновником особых поручений в чине действительного статского советника при военном министре состоял знаменитый в те годы писатель Нестор Кукольник, которому министр и поручил составить доклад о повестях Салтыкова. «Заклятый враг натуральной школы, Н. Кукольник, – говорит в известных уже нам воспоминаниях о Салтыкове А. Скабичевский, – представил доклад министру в таком роде, что гр. Чернышев только ужаснулся, что такой опасный человек, как Салтыков, служит в его министерстве». К сожалению, доклад этот не дошел до нас, хотя и сохранились писанные рукою Кукольника отношения военного министерства к шефу жандармов гр. А. Орлову и министру внутренних дел А. Перовскому [53]53
Отношения эти напечатаны в статье М. К. Лемке, «К биографии М. Е. Салтыкова», «Русская Мысль» 1906 г., № 1. См. также А. Александров, «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова», «Русский Библиофил» 1915 г.
[Закрыть]. Но и независимо от доклада Кукольника дело Салтыкова в это время было уже решено в «бутурлинском комитете» и в пресловутом III Отделении собственной его императорского величества канцелярии, которое тогда играло роль департамента полиции и охранного отделения.
Салтыков был немедленно «по высочайшему повелению» уволен со службы и арестован 20 апреля 1848 года. Через два дня судьба его была решена: его ссылали в Вятку. Рапортом от 28 апреля 1848 г. петербургский комендант барон Зальц сообщал директору канцелярии военного министерства, генераладъютанту Анненкову, бывшему непосредственному начальнику Салтыкова, что последний «имеет быть сдан сего числа в 9 часов вечера штабскапитану, Спб. жандармского дивизиона Рашкевичу для сопровождения в Вятку» [54]54
«Русский Библиофил» 1915 г., № 8, стр. 77, в указанной выше статье А. Александрова
[Закрыть]. Этот жандармский капитан вез с собою также и секретное «отношение за № 777 от 28 апреля 1848 года I экспедиции III Отделения собственной его императорского величества канцелярии» к вятскому губернатору А. И. Середе, сообщающее, что высочайше предписано«…служащего в канцелярии военного министерства титулярного советника Салтыкова, который в противность существующих узаконений, без дозволения и ведома начальства, помещал в периодических изданиях литературные свои произведения, обнаруживающие его вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие, – уволить из означенной канцелярии и отправить на службу тем же чином в Вятку»… На отношении этом (от графа Орлова) вятским губернатором Середою сделана пометка о получении бумаги и «препровожденного» при ней Салтыкова – 7 мая 1848 года [55]55
Бумаги Пушкинского дома, № 610Уб, «Дело о назначении на жительство в Вятку титулярного советника Салтыкова». См. также В. Алексеев, «Салтыков в Вятке», «Исторический Вестник» 1907 г., 11, и В. Емельянов, «Ссылка Салтыкова в Вятку и его освобождение», «Русская Старина» 1909 г., № 10
[Закрыть]. С этого дня началось вятское житие Салтыкова.
В те патриархальные времена можно было и быть сосланным в глухой губернский город, и в то же время служить в нем, занимая ответственные места при особе самого губернатора. Так было десятилетием раньше в той же Вятке с сосланным туда Герценом, так случилось теперь и с Салтыковым. В Вятку он был сослан под «особый надзор» губернатора, и последний, через несколько дней после доставления Салтыкова жандармом, предписывал отношением за № 481 от 11 мая 1848 г. вятскому полицеймейстеру: «…предписываю вам иметь лично за титулярным советником Салтыковым непосредственный строгий надзор и доставлять мне ежемесячно об образе жизни и поведении его подробные и верные сведения» [56]56
«Дело о назначении на жительство в Вятку титулярного советника Салтыкова» см. выше)
[Закрыть]. А на другой день после этого начато было в то же время официальное «дело об определении титулярного советника Салтыкова на службу» [57]57
«Дело вятского губернского правления за № 391 от 12 мая по 30 июня 1848 г.». Бумаги Пушкинского дома, № 612V
[Закрыть]; 3 июля он и был определен канцелярским чиновником Вятского губернского правления, о чем вскоре и было распубликовано в официальной части «Вятских Губернских Ведомостей: „Определен отправленный по высочайшему повелению в г. Вятку на службу, служивший в канцелярии военного министерства, титулярный советник Салтыков, в штат губернского правления по канцелярии присутствия канцелярских чиновников“ [58]58
«Вятские Губернские Ведомости» 1848 г., № 29 (17 июля)
[Закрыть].
Таким образом Салтыков должен был снова начинать с первых ступеней лестницы прохождение своей чиновничьей карьеры. Впрочем, на этот раз по лестнице этой он стал итти быстрыми шагами. Прошло всего лишь два месяца со времени начала вятской службы Салтыкова, как губернатор уже представил его к должности своего старшего чиновника особых поручений; еще через два месяца представление это было утверждено министерством внутренних дел [59]59
Представление губернатора от 18 сентября 1848 г., утверждение министерства внутренних дел от 12 ноября 1848 г. за № 5939. См. указанное выше дело о Салтыкове в бумагах Пушкинского дома
[Закрыть], и находившийся под особым надзором губернатора и полиции Салтыков занял одно из ближайших мест при особе этого самого губернатора.
Начались годы служебных скитаний Салтыкова по глухим местам и городишкам Вятской губернии, – скитаний, которые впоследствии дали ему так много материала для литературных произведений и в первую очередь, конечно, для появившихся почти десятилетием позднее „Губернских очерков“. Интересно следить по отделу „приехавших и выбывших“, который велся в местных губернских ведомостях, как часто Салтыков уезжал в служебные командировки и какие места Вятской губернии объехал он. „Приехал из Котельнича чиновник Салтыков“ (4 марта 1849 г.). „Выехал в г. Кай старш. чин. особ. пор. вят. гражд. губ. Салтыков“ (13 декабря 1849 г.). „Приехал из Кая старш. чин. особ. пор. вят. гражд. губ. Салтыкова (17 декабря 1849 г.). „Приехал из Уржума старший чиновник особых поручений Салтыков“ (14 июня 1850 г.) – вот что тоидело встречаем мы, перелистывая „Вятские Губернские Ведомости“ за годы пребывания Салтыкова в этом глухом краю [60]60
«Вятские Губернские Ведомости» 1849 г., No№ 11,51 и 52; 1850 г., № 25 и др.
[Закрыть]. О том, что наблюдал в этих своих служебных странствиях молодой чиновник, какие впечатления западали в его душу – вся читающая Россия узнала из „Губернских очерков“ десятилетней позднее. Сам же он неоднократно вспоминал впоследствии об этих годах своего странствия, вспоминал в целом ряде своих произведений.
„…Я вынужден был оставить Петербург и удалиться в глубь провинции… Впрочем, поездка в отдаленный край оказалась в этом случае пользительною. Связи с прежней жизнью разом порвались; редко кто обо мне вспомнил, да я и сам не чувствовал потребности возвращаться к прошедшему. Новая жизнь со всех сторон обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существование), о впоследствии и люди нашлись… Целых восемь лет я вел скитальческую жизнь в глухом краю. И возлежал на лоне у начальника края, и был отметаем от оного; был и украшением общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды – все испытал, что можно испытать на страже обязательной службы, среди не особенно брезгливых по служебной части коллег. Конца этому положению я не предвидел. Сначала делал некоторые попытки, чтобы высвободиться, но чем дальше шел вглубь, тем более и более обживался. Даже солонину и огурцы солил впрок и вообще зажил своим домом, хотя был совсем одинок. И теперь вспоминаю об этом времени с какимто сомнением, действительно ли оно было [61]61
Этюд «Счастливец» (1887 г.), вошедший в цикл «Мелочей жизни»
[Закрыть]. Так вспоминал Салтыков о своей вятской жизни ровно через сорок лет после начала его ссылки; но вспоминал он об ней и во многих других более ранних своих произведениях. В своей первой автобиографической записке сам он, говоря о себе в третьем лице, указывает: «для характеристики взгляда писателя, можно указать на следующие очерки: „Скука“, „Неумелые“ (конец), „Озорники“ и „Дорога“ [62]62
Автобиографическая записка 1857–1858 гг., Рукописное отделение Публичной Библиотеки
[Закрыть]. Все это – автобиографические места из „Губернских очерков“; места эти говорят нам не только о взгляде, но и о настроении будущего писателя, закинутого в гущу провинциальной жизни. Особенно характерным в этом отношения является двенадцатое „Письмо из провинции“ (1870 г.), в котором на протяжении десятка страниц Салтыков подробно рассказывает о мыслях и чувствах человека, при помощи некоего „волшебства“ перенесенного из Петербурга „в уездный город Ненасыть“ и водворенного там на жительство.
Не приходится удивляться, что „водворенный на жительство“ и отданный под надзор полиции Салтыков так быстро занял одно из видных мест в вятской губернской иерархии и, к слову сказать, немедленно по назначении на службу исправлял (с 30 мая по 20 августа 1848 г.) должность правителя канцелярии губернатора, а 5 августа 1850 г. был уже назначен советником Вятского губернского правления [63]63
«Формулярный список о службе советника Вятского губернского правления коллежского ассесора Салтыкова» (1851 и 1854 гг.), Бумаги Пушкинского дома, No№ 624626VIIб. См. также цитированный выше формулярный список Салтыкова рязанского вице-губернатора за 1859 г.
[Закрыть]. Повторилась та же самая история, как и с сосланным в Вятку Герценом десятилетием ранее: губернская администрация очень высоко ценила этих петербургских и московских политических ссыльных, „социалистов“ и „идеалистов“. Их высокая честность и сравнительно большое образование (чаще – самообразование) делали их незаменимыми исполнителями таких начинаний, которых нельзя было поручить местным чиновникам – или взЯ-точникам, или людям, лишенным почти всякого образования. Курьезно, что Салтыкову пришлось заниматься в Вятке буквально тем же самым, чем десятилетием раньше занимался в ней Герцен. Герцену пришлось в 1837 году организовывать в Вятке сельскохозяйственную выставку; Салтыков занялся организацией такой же выставки, имевшей место в Вятке с 15 августа по 1 сентября 1850 года. В официальном отделе местных ведомостей читаем: „распорядителем выставки и членом комиссии был назначен состоящий при вят. гражд. губерн. старш. чиновн. особ. поруч., ныне советник Вятского губерн. правд., титулярн. советн. Салтыков“ [64]64
«Вятские Губернские Ведомости» 1851 г., № 4
[Закрыть]. Ему пришлось по этому поводу написать и целую статью – „Вятская очередная выставка сельских произведений“, напечатанную в тех же местных ведомостях [65]65
«Вятские Губернские Ведомости» 1861 г., № 4–7
[Закрыть]. Статья эта анонимна, но в конце ее указано: „…Описание выставки было поручено комитетом распорядителю выставки, титулярному советнику Салтыкову“. Это – интереснейшая статья для характеристики тогдашних взглядов Салтыкова на вопросы крупного и мелкого землевладения, первому из которых отдается преимущество перед вторым. Статья эта заслуживала бы изучения в отдельном монографическом очерке, посвященном историк развития взглядов Салтыкова на вопросы землевладения, начиная от этой официальной статьи и вплоть до „Убежища Монрепо“ (1878–1879 гг.), в котором, четвертью века позднее, Салтыков подводит уже окончательные итоги поставленным самою жизнью вопросам. По каким же делам совершал Салтыков сперва в качестве чиновника особых поручений при губернаторе, а потом уже и советником Вятского губернского правления свои служебные странствования по уездам Вятской губернии? Мы узнаём об этом отчасти из данных цитированных выше формулярных списков Салтыкова (1851, 1854 и 1859 гг.), отчасти по сохранившимся копиям или черновикам рапортов его, напечатанных в извлечении в „Материалах“ К. Арсеньева, отчасти же из подлинников архивных дел, хранящихся ныне среди бумаг Пушкинского дома и до сих пор еще не напечатанных. Из формулярных списков мы узнаём, что в начале 1850 г. Салтыкову было поручено составление инвентарей недвижимых имуществ и статистических описаний различных городов Вятской губернии, а также „составление соображений о мерах к лучшему устройству общественных и хозяйственных дел“. Впрочем, от всей этой работы он был освобожден предписанием министерства внутренних дел от 11 декабря 1851 г. (за № 5515), при чем за ним была оставлена инвентаризация только по городу Вятке; а 20 мая 1852 г. новым предписанием министерства внутренних дел (за № 1465) ему вновь была поручена вся отнятая у него работа. Кроме того за эти годы Салтыков состоял членом и делопроизводителем целого ряда комитетов, а также неоднократно командировывался в уездные города для производства ревизий [66]66
Формулярный список 1859 г., см. выше
[Закрыть].
Эти ревизии составляют тоже еще совершенно неизученный материал и должны явиться предметом изучения в специальных работах. Нам известны два архивных дела, ныне хранящиеся среди бумаг Пушкинского дома: „Дело о последствиях ревизии Слободской градской думы, произведенной г. советником губернского правления, г. Салтыковым“ и „Дело о последствиях ревизии Орловской градской думы, произведенной советником Салтыковым“ [67]67
Бумаги Пушкинского дома, ММ 633VIIIб и 634 VIIIб
[Закрыть]. Первое из этих дел (за № 143) было начато 7 июля 1854 г. и закончено 17 марта 1855 г.; второе (за № 144) было начато 8 июня и закончено 23 декабря 1854 г. Изучение этих интереснейших дел могло бы дать ряд ценных страниц для характеристики бытового уклада глухой провинции начала пятидесятых годов и интересной для нас характеристики деятельности Салтыкова, как администратора. Но мы ограничиваемся здесь кратким знакомством с делом, еще более интересным и совсем другого рода, рисующим нам Салтыкова в совсем новой роли – в роли лица, ведущего сложное судебное следствие. Для нас это тем интереснее, что дело это теснейшим образом связано с комментарием к „Губернским очеркам“ и освещает целый ряд страниц этого произведения.