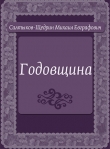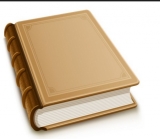
Текст книги "М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество"
Автор книги: Р. в. Иванов-Разумник
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Следующий отдел, «Юродивые», заключает в себе три рассказа, являющихся по форме психологическими очерками прежнего типа. Первый и третий очерки носят несомненные черты автобиографичности: представленный в очерке «Неумелые» Михайло Трофимыч Сертуков – если и не полностью, то в значительной степени рисует нам Михайлу Евграфыча Салтыкова, как об этом уже было упомянуто на предыдущих страницах. Рассказ о том, как этот Михайло Трофимыч производил следствия – особенно интересен для нас, знающих о роли Салтыковаследователя только с чистоформальной стороны. Здесь приведено много красочных случаев, которые если и нельзя все и целиком приложить к Салтыкову, то все же можно применить к нему хоть отчасти. Во всяком случае, в своей автобиографической заметке 1857 года Салтыков недаром указал среди других именно на этот очерк, как на такой, который может служить «для характеристики взгляда писателя». Точно также следователь Филоверитов, представленный в очерке «Озорники», и герой позднейшего рассказа «Матушка Мавра Кузьмовна» – конечно, не полностью Салтыков; однако не приходится сомневаться, что последний вложил в этот тип и многое из своей собственной «надорванности». Позднейшие авторские купюры в этом рассказе очень характерны и должны быть внимательно изучены при подробном анализе текста. Наконец, очерк «Озорники», средний очерк этого отдела, впервые дает в произведениях Салтыкова тип внешне лощеного, но глубоконевежественного чиновника, впоследствии мастерски обрисованного в «Господах ташкентцах» и целом ряде других салтыковских циклов.
В последнем очерке есть два злободневных места, нуждающихся в разъяснении для современного читателя.«…Говорят и волнуются, что чиновники взятки берут! – возмущается этот „озорник“. – Один какойто шальной господин посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию». Здесь речь идет о шумевшей в сезон 1856/57 года комедии «Чиновник» гр. Соллогуба, в которой добродетельный герой Надимов провозглашает, что «надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора, и действительно она пришла, искоренить зло с корнями». Последняя тавтология, как и вообще вся эта пьеса, вызвали в то время ядовитые насмешки Добролюбова. Другое место: «озорник» разражается горячей тирадой против грамотности, заявляя, что в случае всеобщей грамотности «наплодится целое стадо ябедников, с которым и не сладишь пожалуй»; по его мнению, «прежде нежели распространять грамотность, необходимо распространить „истинное просвещение“. Все это является злободневным выпадом против известного Даля, который прошумел тогда своей статьей против всеобщей грамотности („Русская Беседа“ 1856 г., кн. III); статья эта произвела сенсацию и вызвала ряд очень острых возражений, которые Даль напрасно пытался отвести, оправдываясь в своем ответе критикам („Спб. Ведомости“ 1857 г., № 245). Здесь впервые мы видим непосредственный отклик Салтыкова на злободневность, – прием, которым так часто пользовался он впоследствии и который делает ряд его позднейших циклов требующими самых подробных комментариев.
Четыре типа, нарисованные в следующем отделе „Талантливые Натуры“, снова являются возвращением Салтыкова и к старой форме психологического очерка, и к старому типу „лишнего человека“. Являясь подражанием психологическим этюдам Тургенева, очерки эти показывают однако, как далеко шагнул Салтыков вперед за эти десять лет после 1847–1848 гг., когда он впервые подошел к этой теме. Тема эта еще не устарела и в середине пятидесятых годов, доказательством чего может служить хотя бы критическая статья Добролюбова, посвященная „Губернским очеркам“. Тема „лишних людей“ была немаловажной в критическом творчестве Добролюбова, и ей были посвящены почти все его главнейшие статьи 1857–1859 гг. Анализ общественного значения типов талантливых натур, нарисованных Салтыковым, составляет все содержание статьи Добролюбова о „Губернских очерках“ [90]90
Еще за полгода до статьи Добролюбова, в заметке Студитского «По поводу „Очерков“ г. Щедрина» («Спб. Ведомости» 1857 г., № 118), указывалось на зависимость «талантливых натур» Салтыкова от «лишних людей» Тургенева. И если в заметке этой Салтыков признавался «главою литературного движения», то, конечно, не за эти психологические очерки старого типа
[Закрыть].
Маленькое замечание об одной характерной частности, связывающей эти последние психологические этюды Салтыкова с его позднейшими произведениями: в очерке „Лузгин“ мы впервые у Салтыкова встречаем фамилию действительного статского советника Стрекозы и княгини ОболдуйТаракановой. Тема о фамилиях в сатире Салтыкова заслуживает отдельного экскурса; здесь достаточно указать, что и со Стрекозой, и с ОболдуйТаракановым читатель еще неоднократно встретится в позднейших циклах Салтыкова. Другое замечание мимоходом: множество мелких авторских купюр (особенно в очерке „Горехвастов“) показывает, как тщательно правил Салтыков текст „Губернских очерков“», приводя их в окончательный вид для последних изданий.
Отдел «В остроге» снова переносит нас от психологических этюдов к жанровым «обличительным очеркам» Щедрина. Характерно в первом же из этих очерков («Посещение первое») отношение автора к тюрьме и к заключенным в ней, – отношение, которое оказалось даже «нецензурным» в ту эпоху, по своей либеральной тенденции. На первой же странице этого очерка цензурой был вычеркнут целый абзац, мысль которого характеризуется уже начальной фазой: «Нам слышатся из тюрьмы голоса, полные силы и мощи»… В нем, конечно, совершенно нецензурными для 1856 года (и не только 1856 года) были мысли и слова, что «свобода лучшее достояние человека», что «лишение свободы противоестественно само по себе», что слово «арестант» поднимает со дна души все ее лучшие инстинкты, «вcю жажду сострадания и любви к ближнему». Характерен и этот цензурный пропуск, и самые эти слова Салтыкова. Рука цензора прошлась и по второму очерку («Посещение второе»), где сильно искажен цензурой и впоследствии не мог быть восстановлен автором конец рассказа «ябедника» Перегоренского о причинах его ареста. Салтыков впоследствии мог восстановить только одну фразу об исправнике: «гнусность злодея, надменностью своею нас гнетущего и нахальством обуревающего». Из очерка «Неприятное посещение» ясно, что здесь речь идет об исправнике «Живоглоте». В обоих этих очерках выводится Перегоренский – первый набросок того «ябедника», который впоследствии так сильно был нарисован Салтыковым, как неизбежная принадлежность русского общественного быта.
Последний отдел, «Казусные обстоятельства», целиком посвящен расколу, но об очерках этого отдела здесь не придется много говорить, так как о них много упоминалось попутно с рассказом о дознаниях Салтыкова по делу Ситникова. Здесь достаточно указать, что очерк «Старец» носил сперва заглавие «Мельхиседек» – имя, хорошо известное нам по рапортам Салтыковаследователя [91]91
Вариант начала «Старца», озаглавленного «Мельхиседек», сохранился в черновом автографе Салтыкова (Бумаги Пушкинского Дома, из архива М. Стасюлевича) и был напечатан Вл. Кранихфельдом в «Русских Ведомостях» 1914 г., № 97
[Закрыть], и что целый ряд лиц из рапортов Салтыкова перешел на страницы этого очерка. Действие происходит в местности, «которая составляет как бы угол, где сходятся границы трех обширнейших и русском царстве губерний: Вологодской, Вятской и Пермской», – т. е. как раз там, где Салтыковследователь производил значительную часть своего дознания (Глазовский уезд Вятской губернии). Одним из главных лиц рассказа является «старица, или, попростому сказать, солдатская дочь… Прозывается она Натальей, происхождением от семени солдатского и родилась в Перми. Жила она, слышь, долгое время в иргизских монастырях, да там будто и схиму приняла». Все это возвращает нас к делу беглого раскольника Ситникова, в котором такую важную роль играла инокиня Тарсилла, она же унтерофицерская дочь Наталья Мокеева. В очерке «Старец» рассказывается про нее, что она выдавала себя за генеральскую дочь, кричала на мужиков, предъявляла им какую-то бумагу и заставила их «верстах в пяти от деревни» построить себе большущие хоромы, в которых укрывала беглых рекрутов: все это от слова и до слова взЯ-то из рапортов Салтыковаследователя вплоть до мельчайших мелочей. То же самое придется повторить и о рассказе «Матушка Мавра Кузьмовна», где город С*** – несомненно Сарапуль, а «лжепоп» Андрюшка – по всей вероятности Ситников. В своих рассказах из отдела «Казусные обстоятельства» Салтыков богатейшим образом использовал материал следственного дела, которое он вел годом и двумя годами ранее.
Но здесь интересно не это обстоятельство, а основной вопрос: как же теперь Салтыков, уже не следователь, а «обличительный» писатель, относился к вопросу о расколе и гонении на него? Ответ на этот вопрос дает большой эпиграф к рассказу «Матушка Мавра Кузьмовна» и первая страница очерка «Старец». Эпиграф взят из статьи гр. Н. С. Толстого «Заволжская часть Макарьевского уезда, Нижегородской губернии» («Московские Ведомости» 1837 г., № 3) и начинается строками: «Пропаганда, по моему, мнению, может быть отражена лишь пропагандою», – этим признанием сам Салтыков вынес обвинительный приговор недавним своим действиям и мероприятиям. Но это не значит, чтобы он в это время еще изменил свой взгляд на раскол, как на явление отрицательное [92]92
Это станет особенно ясно при изучении повести «Тихое пристанище» и ее первых набросков; см. ниже, гл. IX
[Закрыть]. В этом отношении характерна первая страница очерка «Старец», в которой старец этот устами автора говорит, что дело его «было неправое» и что просветила его только «благость», милосердие «великого монарха», прекратившего гонения на раскол. Интересно, что и эту страницу, и эпиграф к рассказу «Матушка Мавра Кузьмовна» Салтыков вычеркнул из позднейших изданий «Губернских очерков», начиная с 3го. Кроме того, из этих очерков, посвященных расколу, выброшено много мелочей, почти все то, что позволило рецензенту «Русского Инвалида» (1857 г., № 26) заявить, что в очерках этих разоблачаются «лицемерство и проделки раскольников». Цензура, наоборот, старательно вычеркнула из журнального текста те места, которые говорили о светлых сторонах раскола; так вычеркнут был абзац, начинающийся словами старца: «Сердце у меня сызмальства уже к богу лежало», и следующий за ним, в которых старецраскольник говорит о «неповинной крови мучеников» за раскол, о том, как «они, наши заступники, в лютых мучениях имя божие прославляли и на мучителей своих божеское милосердие призывали». В позднейших изданиях все эти места были восстановлены Салтыковым.
Мы подошли к концу «Губернских очерков», к «Дороге», замыкающей их «вместо эпилога» – и видим теперь, какой богатый и разнообразный материал своей провинциальной жизни отразил Салтыков в этих очерках, прославивших его имя. Он еще не проявил в них почти никакого литературного новаторства, пользовался старыми формами, выработаанными гоголевской школой, но впечатление от «Губернских очерков» было громадно именно потому, что в старые формы эти был вложен новый и свежий бытовой материал, вскрывавший язвы провинциальной и бюрократической жизни. Новый материал был подан красочно и ярко; старые формы не позволили, однако, этому циклу Салтыкова стать новой вехой на пути истории литературы. Новые формы для своего творчества Салтыков нашел не сразу, вырабатывал их мало-по-малу в течение целого десятилетия после «Губернских очерков», и мы об этом не раз еще будем говорить. Здесь же, в заключение этого краткого обзора первого цикла Салтыкова, необходимо подчеркнуть одно обстоятельство, связанное с позднейшей работой Салтыкова над этим первым своим «настоящим» литературным проиэведением. Мы видели, как многочисленны вставки, выпуски и варианты окончательного текста; гораздо больший интерес представляют те незначительные на первый взгляд изменения, которыми пестрит основной текст «Губернских очерков» по сравнению с их журнальным текстом. Сравнивая эти два текста, можно видеть, как тщательно обрабатывал стилистически Салтыков свои произведения. Путем упорного труда выработал он тот своеобразный стиль, который делает его одним из величайших мастеров русской прозы XIX века. Но и в этом отношении «Губернские очерки» дают только первые намеки, первые возможности, которые разовьются лишь позднее в последующих циклах Салтыкова.
Общий вывод: значение «Губернских очерков» в эпоху их появления было не столько литературное, сколько общественное. Литературно они были только завершением развития форм, созданных Гоголем и «натуральной школой». То «свое», что было в «Губернских очерках», независимо от их бытового материала, сказалось лишь в последующих циклах Салтыкова, мало-по-малу находившего, свой путь – и темы, и стиль, и форму произведений.
Но общественное значение этих «обличительных очерков», было громадно; рассказом о нем и надо заключить знакомство с первым произведением Щедрина, с этих пор в течение тридцати лет стоявшего на вершинах русской литературы.
«Губернские очерки» тесно связаны со своей эпохой, и головокружительный успех их объясняется не их литературными достоинствами, но темой их и временем появления. Тему эту русское общество той эпохи поняло как «раскрытие язв провинциального бюрократизма», что являлось как нельзя более своевременным в первый год пробуждающегося общественного самосознания после катастрофы Крымской войны, похоронившей под своими развалинами мертвый, гнетущий режим Николаевской эпохи. Каким освобождением для всего живого явилась смерть Николая I – об этом образно сказал Герцен в «Былом и думах». Он немедленно стал издавать в Лондоне «Полярную Звезду», а с середины 1857 года – и знаменитый «Колокол». В России начиналось возрождение мысли и слова; в «Современнике» все громче и громче стали звучать голоса Чернышевского и Добролюбова; появились новые журналы – либеральный «Русский Вестник», ставянофильская «Русская Беседа»; приступали к решению «крестьянского вопроса» и освобождению крестьян; «язвы» старого режима вскрывались в целом ряде ходивших по рукам «записок» и «писем» – Погодина, Самарина, Кошелева, Кавелина и др.
Появление в такое время «Губернских очерков» Салтыкова было поэтому как нельзя более удачным. Они вскрывали в глазах читающей публики той эпохи провинциальный бюрократизм, одну из самых застарелых «язв» Николаевского режима, которая оказалась наиболее неизлечимой среди всех других и не излечена до наших дней. Салтыков оказался Колумбом неисследованной области – «провинциального чиновничества», начиная от самодуров губернаторов и кончая мелкими взЯ-точниками в губернии и уездах. Как это всегда бывает – Колумбы имеют предшественников; и у Салтыкова в этой области их было не мало в русской литературе XVIII–XIX вв., начиная от «Ябеды» Капниста 1798 года и даже от сатирических листков середины XVIII века, вплоть до «Ревизора» и ряда позднейших произведений «натуральной школы» [93]93
Этой темы касаются статьи Е. Эдельсона «Наша современная сатира» («Библиотека для Чтения» 1863 г., № 8) и А. Бова (псевдоним А. Суворина) «Историческая сатира» («Вестник Европы» 1871 г., № 4); о последней из этих статей еще будет речь в главе об «Истории одного города»
[Закрыть]. Но в последние годы Николаевского режима всякое «сатирическое отношение» к чиновничеству было строжайше воспрещено; уже на исходе этого режима, в 1854 году, подверглись каре два типично «салтыковские» очерка, напечатанные в журнале Погодина «Москвитянине»: повесть Лихачева «Мечтатель» и очерк Раевского «Из записок почтмейстера». Цензора, пропустившие эти совершенно бесцветные и невинные произведения, были уволены со службы.
Очерки Салтыкова, как мы знаем, тоже претерпели различные цензурные мытарства и искажения, но все же могли появиться в свет и произвели громадное впечатление. «Реальный комментарий» к ним не представляет ни малейшего интереса, если бы даже и был полностью возможен. Мы видели, например, что под именем семьи Прониных, в «Губернских очерках» выведены вятские друзья Салтыкова, Ионины; но вряд ли подобный факт может представлять большой интерес. Кто из двух вятских губернаторов эпохи Салтыкова – Середа и Семенов – был (и был ли) князем Чебылкиным, а кто генералом Голубовицким – ни мало не интересно, равно как и то, существовали ли, как портреты, Фейеры, Порфирии Петровичи и прочие герои «Губернских очерков». В упоминавшихся выше воспоминаниях Л. Спасской указываются вятские прототипы очерков Салтыкова: Порфирием Петровичем был Г. И. Макаров, советник питейного отдела, князем Чебылкиным – губернатор Семенов, генералом Голубовицким – губернатор Середа, «приятным семейством» Размановских – семья губернского стряпчего (прокурора) Шиллинга и т. д. Мы, в свою очередь, могли бы указать на ряд если и не лиц, то во всяком случае фамилий, перенесенных из вятской провинции на страницы очерков Салтыкова. Выше было уже указано, что городничий Фейер обязан своей фамилией сарапульскому городничему фонДрейеру (в воспоминаниях А. Кони «На жизненном пути» рассказывается, между прочим, о встрече автора с живым прототипом Фейера); сарапульский купец Ижболдин, которого Салтыковследователь допрашивал по делу о раскольнике Ситникове, обратился в сцене «Что такое коммерция?» в купца Ижбурдина; фамилия исправника Жирицкого могла дать начало одному из ярких типов «Губернских очерков» поручику Живновскому и т. д.
Ряд этих примеров можно было бы еще значительно увеличить; в воспоминаниях вятских старожилов не раз подчеркивалось, что «кажется несомненным, что „Губернские очерки“ писаны с натуры» [94]94
См., например, две заметки вятского купца Кузнецова: «М. Е. Салтыков. Эпизод из пребывания его в Вятке» и «К Губернским очеркам М. Е. Салтыкова», «Русская Старина» 1890 г., No№ 6 и 11
[Закрыть]. Все это несомненно, само собою понятно, и потому мало интересно. Прав был Добролюбов, объясняя громадный успех «обличительных очерков» не портретностью, а типичностью действующих в них лиц. «Публика признала действительность фактов, сообщаемых в повестях, и читала их не как вымышленные повести, а как рассказы об истинных происшествиях… У г. Щедрина описан, например, Порфирий Петрович: я знал двоих Порфириев Петровичей, и весь город у нас знал их; есть у него городничий Фейер: и Фейеров видел я несколько… Разумеется, еще чаще видали мы Чичиковых, Хлестаковых, СквозниковДмухановских, Держиморд и пр. Но об этом я уж не говорю. У Гоголя такая уж сила таланта была, что до сих пор, куда не обернешься, так все и кажется, что перед тобой стоит или Чичиков, или Хлестаков, а если ни тот, ни другой, то уж наверное Земляника…» [95]95
Добролюбов, «Первое полное собрание сочинений», т. III, стр. 120
[Закрыть].
Итак, дело не в портретности, а в типичности героев «Губернских очерков». Важно то, что они существовали, как типы, в каждом городе дореформенной России, так что провинциальный читатель находил в своих глухих палестинах тех или иных из многочисленных действующих лиц очерков Салтыкова (а их в этих очерках, по подсчету Чернышевского, до двухсот человек!). «Реальный комментарий» к очеркам отставного надворного советника Щедрина можно было найти в каждом губернском и уездном городе России; отчасти именно этим и объясняется громадный успех этих очерков среди читающей публики. Насколько велик был этот успех, можно судить хотя бы по тому, что в еженедельном журнале «Сын Отечества» во второй половине 1857 года (No№ 28–38) был заведен специальный отдел рисунков к «Губернским очеркам».
Отзывы печати были восторженные. «Успех Очерков возрастал быстро, по мере того, как они продолжали печататься. Выдержки из них помещались во всех почти журналах. Успех был повсеместный, имя г. Щедрина приобрело общую известность» [96]96
«Русский Инвалид» 1857 г., № 26
[Закрыть]. Его сразу признали «главою литературного движения» [97]97
«Спб. Ведомости» 1857 г., № 118
[Закрыть]; он явился родоначальником целого рода «обличительной литературы», от которой через некоторое время самому ему пришлось литературно отмежевываться (в статье «Литераторыобыватели» 1861 года). Во всех журналах стали появляться разные «провинциальные очерки» многочисленных авторов, теперь по заслугам забытых, но тогда составлявших целую «школу Щедрина»: это были Селиванов, Елагин, Кушнерев и десятки подобных им беллетристов, самыми талантливыми из которых были АфанасьевЧужбинский и МельниковПечерский. В большинстве всех этих произведений таланта было мало, но обличительного пыла много, и вся эта литература очень характерна для эпохи начала шестидесятых годов. Министр народного просвещения Норов, имея в виду эту литературу и в особенности очерки Щедрина, в циркуляре от 7 октября 1857 г. обращал внимание цензуры «на полицейское направление, которое своевольно и неуместно принЯ-то в последнее время большинством наших периодических изданий… и делает из журналов какую-то уголовную палату, а из всех чиновников и администраторов, без разбора лиц, – подсудимых журнальному суду» [98]98
«Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год» (Спб. 1862 г.), стр. 416. См. также книгу М. Лемке «Очерки по истории русской цензуры» (Спб. 1904 г.), отдел «Эпоха обличительного жара»
[Закрыть].
Два самых авторитетных критика эпохи, Чернышевский и Добролюбов, отозвались в двух больших статьях на появление «Губернских очерков» Салтыкова; статьи их появились в No№ 6 и 12 «Современника» за 1857 г. О статье Добролюбова уже пришлось упомянуть выше; что же касается статьи Чернышевского, то она характерна для «просветительной критики» той эпохи и, подобно статье Добролюбова, написана не столько о «Губернских очерках», сколько по поводу их. Тема статьи Чернышевского – якобы «чистопсихологическая задача» анализа типов этих очерков для ответа на вопрос: «надобно ли считать их дурными по своей натуре, или полагать, что дурные их качества развились вследствие посторонних обстоятельств, независимо от их воли». Чернышевский указывает, что «большинство публики склоняется на сторону первого мнения», а сам доказывает справедливость второго, что и является темой его статьи. Ясно, что эта «чистопсихологическая задача» – только ирония и способ пройти через цензурные рогатки: «посторонние обстоятельства», о которых говорит здесь Чернышевский – лишь иносказательное обозначение дореформенного государственного строя и общественного положения России в Николаевскую эпоху. Что же касается до отношения Чернышевского к самим «Губернским очеркам», то оно является восторженным: «Эта благородная и превосходная книга, – говорит Чернышевский, – принадлежит к числу исторических фактов русской жизни. „Губернскими очерками“ гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, и полезнейшими, и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он». По одной этой цитате можно судить о том впечатлении, которое произвели «Губернские очерки» при своем появлении.
Были, впрочем, и враждебные голоса, но они раздавались не в печати. Особенно интересно отметить, что наиболее отрицательные отзывы дошли до нас от Некрасова, издателя того же самого «Современника», в котором появился такой восторженный отзыв Чернышевского, и от Тургенева, в то время постоянного и ближайшего сотрудника этого журнала. Как мы уже знаем из воспоминаний Л. Пантелеева, появлению «Губернских очерков» в «Современнике» воспрепятствовал отзыв Тургенева: «это совсем не литература, а чорт знает что такое!» После же появления очерков Салтыкова в «Русском Вестнике» и громадного успеха их, Тургенев писал Колбасину 8 марта 1857 г.: «Если г. Щедрин имеет успех, то, говоря его же словами, писать уже „недлячё“. Пусть публика набивает себе брюхо этими пряностями. На здоровье!». И на другой день после этого Тургенев о том же писал Анненкову: «Щедрина я решительно читать не могу. (Здесь получены 1й и 2й NoNo „Русского Вестника“). Это грубое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярской кислятиной язык… Нет, лучше записаться в отсталые – если это должно царствовать»[99]99
«Первое собрание писем» Тургенева (Спб. 1885 г.) и журнал «Наша Старина» 1914 г., № 11
[Закрыть]. Интересно отметить, что в указанных Тургеневым номерах «Русского Вестника» помещены очерки Салтыкова «Первый шаг», «Озорники» и «Надорванные», два последние из которых как раз являются подражанием психологическим этюдам Тургенева. Некрасов в свою очередь отрицательно отзывался в письме к Тургеневу о самом Салтыкове, об его очерках и порожденной ими обличительной литературе: «Гений эпохи Щедрин – туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Публика в нем видит нечто повыше Гоголя. Противно раскрывать журналы, – все доносы на квартальных да на исправников – однообразно и бездарно» [100]100
Письмо к Тургеневу от 27 нюня 1857 г., «Русская Старина» 1897 г., № 11, стр. 229
[Закрыть]. Впоследствии, как известно, и Некрасов и Тургенев изменили свое отношение к Салтыкову, который стал с 1860 г. ближайшим сотрудником «Современника», а в 1863–1864 гг. и соредактором Некрасова по этому журналу. Что же касается Тургенева, то в своем месте мы отметим восторженный отзыв его об «Истории одного города» и о ряде позднейших циклов Салтыкова.
Отрицательные отзывы Тургенева и Некрасова в значительной мере объяснялись их высокими требованиями, предъявляемыми к форме художественного произведения; а мы уже знаем, что в этом отношении Салтыков шел по проторенным путям и вливал новое вино в старые меха. Это очень тонко отметил уже упоминавшийся выше Н. Бунаков в другой своей рецензии об очерках Салтыкова. «Это, действительно, большая художественная сила, – говорил он об их авторе, – но ей, как будто, те формы, в которые обычно беллетристыавторы облекают свои идеи, чужды. Мне кажется, что г. Щедрин насилует себя общепринЯ-тою формой рассказа. Мне кажется, что ему следовало отрешиться от узаконенных форм и традиций словесности, разделяющих художественные произведения на романы, повести, драмы и т. д., и попытаться пойти своею оригинальною дорогой… При этих условиях г. Щедрин подарит русскому обществу нечто такое, что даст начато новому виду литературы, у нас еще не существующему» [101]101
Статья о «Губернских очерках» Н. Б(унакова) в литературном сборнике «Украина» (Киев 1858 г.)
[Закрыть]. Это предвидение блестяще оправдалось много лет спустя, когда Салтыков создал свою собственную форму своеобразного «романа», каким он сам считал также, например, свое произведение, как «Современная идиллия», если уж говорить об одном из самых замечательных произведений Салтыкова. «Губернские очерки» лишь очень неясно позволяли предвидеть в авторе то, что так метко было вскрыто в приведенном выше отзыве.
«Обличительная литература», родоначальником которой стал СалтыковЩедрин, заполнила собою страницы всех журналов и вскоре вызвала реакцию со стороны тех самых лиц, которые так восторженно отнеслись к «Губернским очеркам» при первом их появлении. Добролюбов уже в 1859 году заявлял: «Я должен признаться, что бСльшая часть щедринских рассказов составляет шаг назад от Гоголя. Но всетаки они не так далеко от него убежали, как нынешние рассказы, беспрерывно печатаемые в газетах»… В том же году в «Современнике» появилась и знаменитая статья Добролюбова «Что такое обломовщина?», в которой, между прочим, вся эта обличительная «гласность» трактовалась, как одно из проявлений «обломовщины».
На эти мысли Добролюбова Герцен отозвался в «Колоколе» резкой статьей. «Мы сами очень хорошо видели, – писал Герцен, – промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом теперь? Они еще больше молчали об этом! Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился?.. В „обличительной литературе“ были превосходные вещи. Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь огулом бросить, с „Обломовым“ на шее, в воду? Слишком роскошничаете, господа!» [102]102
Статья Герцена «Very dangerous!!!». Подробности о столкновении между «Современником» и «Колоколом» см. в «Полном собрании сочинений и писем» Герцена, т. X, стр. 11–23, и в «Первом полном собрании сочинений» Добролюбова, т. III, стр. 139–156
[Закрыть].
Здесь не место подробно говорить о глубоких причинах расхождения Герцена в 1859 году с Добролюбовым и Чернышевским, расхождения, одним из частных проявлений которого было и различное отношение к «обличительней литературе». Причины эти, как уже давно выяснено, лежали в совершенно различном отношении Герцена с одной стороны и представителей «Современника» с другой – к путям общественного развития России той эпохи: Чернышевский и Добролюбов с 1859 года стояли в этом вопросе на значительно более радикальной точке зрения, чем Герцен. Последний еще пытался верить в возможность эволюции социальнополитической жизни России; Чернышевский и Добролюбов все более и более укреплялись в мысли о необходимости революционных путей этого развития. Это общее расхождение влияло и на отношение ко всем частным вопросам – в том числе и к вопросу об «обличительной литературе», родоначальником которой был Салтыков.
На чьей же стороне был сам он, родоначальник и глава «обличительной литературы»: на стороне ли Герцена, защищавшего ее, или на стороне Добролюбова и Чернышевского, вынесших ей обвинительный приговор? Ответом может служить то обстоятельство, что Салтыков, начиная с 1860 года, твердо и окончательно примкнул к «Современнику». Первым же его очерком в «Современнике» 1861 г. был очерк «Литераторыобыватели», о котором было уже упомянуто выше; в нем мы находим как бы ответ на вопросы, двумя годами ранее поставленные Добролюбовым и Чернышевским. Впрочем, об этом будет сказано в своем месте; здесь же достаточно лишь указать на факт сотрудничества Салтыкова в журнале Некрасова.
Таким образом Салтыков в своем дальнейшем пути примкнул к наиболее радикальной части русской интеллигенции, а в семидесятых годах стал одним из руководителей журнала «Отечественные Записки», в котором нашло свое выражение социалистическое народничество этой эпохи, идущее одновременно и от Герцена и от Чернышевского. В своем месте мы увидим, что Салтыков не только отражал в художественных образах идеологию народнического социализма, но часто первый ставил и решал теоретические вопросы, позднее разрешавшиеся в том же самом направлении таким признанным теоретиком народничества, каким в те годы был Михайловский.
Убедиться во всем этом нам еще предстоит, впереди; здесь же, заканчивая речь о «Губернских очерках», надо еще обратить внимание на два вопроса. Первый из них: как сам Салтыков понимал этот свой цикл и чтС считал в нем существеннейшим для характеристики основных своих взглядов? Он говорит об этом в первой своей автобиографической записке 1857–1858 гг., написанной немедленно вслед за окончанием этого первого своего цикла. «Для характеристики взгляда писателя, – говорит он о себе в третьем лице, – можно указать на следующие очерки: „Скука“, „Неумелые“ (конец), „Озорники“ и „Дорога“. – Как мы видели выше, всё это очерки автобиографического и полуавтобиографического характера; взгляд писателя особенно определенно выражен именно в том конце очерка „Неумелые“, на который указывает и сам Салтыков. Здесь один провинциальный обыватель высказывает свое мнение о чиновничестве, как представителе власти: „Совсем не с того конца начинаете… Ты, коли хочешь служить верой, так по верхамто не лазий, а держись больше около земли, около земствато… Ты благодетельствуй нам – слова нет! – да в меру, сударь, в меру, а не то ведь нам и тошно, пожалуй, будет… Ты вот лучше поотпусти маленько, дай дохнутьто! Может, она и пошла бы, машина!“. В этих словах поставлен вопрос, злободневный от эпохи Петра Великого и до наших дней – вопрос о „бюрократии“ и „земстве“, если говорить терминами пятидесятых и шестидесятых годов. В ближайшие же годы деятельности после „Губернских очерков“ Салтыкову пришлось вплотную, и теоретически и практически, подойти к этому вопросу.
Но вопрос этот подводит нас к другому, к вопросу о „народе“ и „власти“, вопросу более общему и широкому и теснейшим образом связанному со всей дальнейшей деятельностью Салтыкова-Щедрина, к основной теме почти всех последующих его циклов, „народ“ с одной стороны, „власть“ – с другой: тема эта, намеченная в „Губернских очерках“, становится в течение последующих десятилетий основной темой произведений Салтыкова, достигая вершины своего развития в „Истории одного города“. Мы будем шаг ва шагом следовать за Салтыковым по этому его пути.