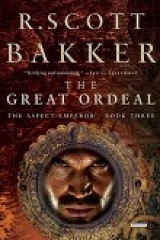
Текст книги "Великая Ордалия (ЛП)"
Автор книги: Р. Скотт Бэккер
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Подобные речи еще недавно карались смертью, – произнес Нин’килйирас голосом подобным удавке.
Ойнарал только фыркнул .
– Похоже, мы стареем быстрее своих намерений…
– Ты будешь соглашаться со мной так, как соглашался с моим кузеном! – завопил охваченный яростью Нин’килйирас. – Ты! Будешь! Соглашаться! Ты будешь считаться с моим священным саном, ибо он восходит к крови Рода Высочайшего и Глубочайшего, Рода Королей! Я! Я в этом доме последний сын Тсоноса, и только потомки Тсоноса имеют право властвовать! Он взмахнул рукой в жесте сразу чуждом и знакомом, разбрызгивая масло по решетчатому полу. – Только я один являюсь потомком Имиморула!
– Тогда, наверное, – кротко промолвил Ойнарал, – Каноны Усопших полезны одним только мертвецам.
– Святотатство! – зашелся в крике король нелюдей. – Святотатство! – Голос его со скрежетом ударял в словно бы подвешенные в воздухе стены Чашевидной палаты. Сорвил сперва решил, было, что этот приступ ярости сулит скорую кончину упырю по имени Ойнарал Последний Сын, однако возбужденное, затравленное выражение на лице короля нелюдей немедленно уверило его в обратном. Его конвоир не столько рисковал, сколько провоцировал короля, понял Сорвил. Ойнарал не оскорблял, но демонстрировал…
И Скорбь пожирала Нин’килйираса прямо перед их глазами.
– Никто не оспаривает твоих прав, Тсонос, – заявил владыка Килкуликкас, делая шаг вперед и бросая одновременно хмурый взгляд в сторону Ойнарала – хмурый, но лишенный гнева. Возвысившись над Сорвилом, он стал перед Последним Сыном, блистая нимилевым хауберком, великолепным рядом с нечестивым золотом Нин’килйираса —соггомантовым хауберком, вдруг понял молодой человек. Многое, ох, многое промелькнуло в этом коротком разделенном обоими взгляде. Прежде чем присоединиться к Ойнаралу, квуйя опустил белую ладонь на его плечо, буквально заставив того пасть на колени.
И все, кто был в железном Ораториуме присоединились к этому поклону, соединив за спиной пальцы рук.
– Д-да, – промолвил Нин’килйирас, смущенно хмурясь. – Все мы – один Дом! И не лучше ли закончить на этом высоком чувстве?
– Однако вопрос об этом смертном и о Плодородии так и остался нерешенным, – Напомнил ему Килкуликкас.
Нин’килйирас искоса посмотрел на Владыку Лебедей, нахмурился, словно бы речь шла о каких-то пустяках. И с нетерпением отмахнулся от попытавшегося вмешаться Харапиора.
– Ах, ну, да, да, да… – промолвил король с легким раздражением.
И Сорвил понял, что король нелюдей не может вспомнить… и пытается скрыть этот факт за пренебрежением к деталям.
– Так значит, мы договорились? – проговорил Килкуликкас.
– Да… конечно.
Блистательный квуйя распрямился, кивнув как бы в знак согласия. – O, Тсонос, мудрость твоя всегда служит нам путеводной звездой. Если война отменяет Ниом, как следует нам обойтись с этим сыном рода людского? Как защитить нам свою Гору от гнева Сотни?
Всё это время Ойнарал упорно рассматривал пол под своими ногами. Сорвил не мог не заметить, что тяжелая, белая ладонь Килкуликкаса на его плече явно свидетельствует о поддержке и одобрении.
– Да! Да! Благословен он, хранитель Иштеребинта, – Объявил Нин’килйирас. – Человеческий король, назначенный Богом враг нашего врага… не будем чинить ему никаких неудобств.
Сорвил едва не фыркнул, учитывая то, что руки его оставались привязанными к шесту за его спиной.
Владыка Лебедей просиял в деланном восхищении, шелковая перевязь кровавым перекрестьем охватывала его кольчугу. Огоньки взыграли на нимилевой броне, распадаясь на тысячи мелких лебяжьих фигурок.
– Как ты мудр, Тсонос. Но ему, конечно же , потребуется сику…
Почему же ему кажется, что он горит в каком-то незримом и неведомом месте?
Что сделали с ним эти твари?
Сорвил следил за тем, как алебастровые уста Харапиора вкладывали в ухо Нин’килйираса один за другим неслышные – и зловещие, в этом невозможно было усомниться – факты. Впрочем, понятно было, что Чашевидная палата не так уж отличается от дворов человеческих королей, и её раздирают конфликты и интриги подземного королевства, борьба за влияние и власть в нем. Ойнарал не стал считаться с необходимостью поддержания и так преувеличенного авторитета, но постарался подчеркнуть некомпетентность своего короля – как раб ставки много превосходящей ту единственную монету, которой можно считать его жизнь. Поддержка со стороны владыки Килкуликкаса подтверждала наличие заговора.
И вся его надежда спасти Серву, осознал молодой человек, может осуществиться только с помощью этих двоих упырей.
Бескровный как гриб король нелюдей восседал на Чернокованном Престоле, наблюдая за тем, как перерезали путы Сорвила. Молодой человек поднялся на ноги, испытывая прежнее чувство потери ориентации, опробуя суставы, приводя в чувство ладони. Собравшиеся ишрои и квуйя без всякого стеснения наблюдали за ним, черные глаза их поблескивали, непристойные доспехи искрились в магическом свете. Нотку безумия зрелищу добавляла полная схожесть их лиц. Тем не менее, Сорвил обнаружил, что сумел узнать и остальных: Випполя Старшего, ещё одного из числа бежавших из Сиоля и самого одаренного среди живущих куйя. Моймориккаса, долгое время именовавшегося Пожирателем Земли, благодаря своей зачарованной дубине, что звалась Гмимира, прославленной Могильщице, выбивавшей саму землю из-под ног врага. Узнал он и остальных, причем с уверенностью, хотя бледность и красота делали их идентичными, а не просто похожими друг на друга. И в то самое время, когда одна часть его души распознавала отдельные личности, другая настаивала на том, что он имеет дело всего лишь с неведомой ему прежде породой шранков – созданной не по подобию обезьян или псов, но как здоровые и крепкие, хоть и искаженные люди.
С точки зрения сына Сакарпа – никак не менее, чем подлинного сына Приграничья – они не могли быть никем иным.
Блистательное собрание без малейшего предупреждения опустилось на одно колено …
– Наш дом обнимает тебя, Сорвил, сын Харвила, —провозгласил в унисон хор голосов.
Молодой человек обнаружил, что попросту знает ритуальный ответ… каким-то образом.
– Да снизойдет на вас… благодать…
Он закашлялся, ощутив как его рот и горло пытаются произнести чуждые и незнакомые звуки… ощутив как оскверняет он собственный речевой аппарат словами этого святотатственного языка… Ужас стиснул удушьем его гортань.
– Да обретете вы…все возможные почести…?
Что здесь происходит?
Он повернулся к Ойнаралу, своему сику, отчаянно нуждаясь в руководстве теперь, когда подневольность и принуждение покинули место сего безумного действа. Однако Владыка Лебедей уже привлек внимание Ойнарала, возложив свои ладони на его женственные щеки обеими руками, как может мужчина повернуть к себе голову любимого им ребенка. И хотя подобная снисходительность отталкивала младшего, глубинное чувство его одобряло жест, зная как много подобных интимных подробностей хранит священная иерархия.
– Запомни случившееся … – шепнул Килкуликкас Ойнаралу.
Тот ответил высокому квуйя долгим взглядом, после чего, схватив Сорвила за руку торопливо повлек его прочь от упыриного короля и его подземного двора. Тонкая цепочка обращений последовала за ними, подчас резких и скрипучих, подчас жалостных, произнесенных тонкими голосами.
– Ку’кирриурн!..
– Гангини!..
– Аурили!…
Имена, понял он. Они выкрикивали свои имена как приглашения.
– Не говори ничего… – пробормотал Ойнарал, подталкивая его к тёмному выходу. – Любые слова только разожгут их.
Недавнее колоссальное пространство сменилось низким и тесным проходом, потолок которого был испещрен сценами любви и насилия.
– Разожгут? – Удивился юноша.
–Да, – без нотки тревоги ответил шедший быстрым шагом Ойнарал, взгляд которого был устремлен вперед. – Особенно тех, кто погрузился в Скорбь. Тебе не следует разговаривать с моими братьями.
– Почему?
– Потому что они полюбят тебя, если сумеют.
Сорвилу представился жалкий малыш-эмвама, съежившийся у подножия Чернокованного Престола.
– Полюбят меня?
Ойнарал Последний Сын сделал ещё три шага, прежде чем повернуться к нему и посмотрел вниз, но так, чтобы не соприкоснуться с его взглядом – как делал это и король упырей. – Не ощущай себя здесь в безопасности, Сын Харвила. В объятьях Иштеребинта ты найдешь лишь безумие.
Смятение появилось во взгляде Сорвила.
– Так значит, клятва Иштеребинта не значит ничего? – спросил он.
Ойнарал Последний Сын не ответил. Они прошли под зеркальным блеском врат Чашевидной палаты, и Сорвил невольно пригнулся, устрашившись нависших над ним каменных плит. Врезанные в камень глазки разбегались во всех направлениях, преобразуя подземные дороги в ожерелье сумеречных миров и первобытных времен. Внутренним Светочем именовался этот чертог, название которого после сооружения Чашевидной палаты стало эпитетом, которым величали Ниль’гиккаса.
– Я знаю что … – начал Сорвил, только для того, чтобы смутиться от звука собственного голоса.
Ойнарал вёл его в сторону, противоположную той, откуда они пришли; и он каким-то образом понял, что они углубляются в недра Плачущей Горы.
– Откуда я знаю то, чего знать не могу?
Ойнарал не отвечая, шагал вперед.
Сорвил старался не отстать от него, дивясь на ходу проплывавшим над головой панелям, изображающим триумфы и трагедии, сменявшие друг друга на сводах потолка, перекрывающиеся слои воспоминаний обреченного племени. Прежде сценки казались ему бессмысленными, оскорбительными, соблазнительными и скандальными. Теперь же все они взрывались узнаванием, каждая из них открывала времена и миры. Млеющие в непозволительных позах любовники (груди женщины обнажены) на пиру в честь Праздника Чистоты. Ежегодный обмен посольствами между Ниль’гиккасом и Гин’юрсисом, великое собрание инъорских ишроев в Высоких Чертогах Мурминиля…
Как же он ненавидел угрюмые пепельные залы Кил-Ауджаса!
Впервые Сорвил осознал, что чудеса здешних увечных мудрецов были знанием, сгустившимся отражением его сущности. Он знал всё это и, помимо откровенной невозможности подобного знания, оно ничем не отличалось от любого другого, столь неясными были движения его души. Эти воспоминания принадлежали ему самому, возникали в нем самом, хотя могли принадлежать лишь миру этого подземелья.
Что же происходит?
Сами стены эти были сплетены мелочами, словно веревками связаны властью, изображенная на них слава затмевала славу… похоть, нежность и размышление присутствовали повсюду. Он читал всё это столь же непринужденно, как воспринимал фрески своего родного дома.
– И всё это сделано вашими руками… – обратился он к Ойнаралу, своему сику, уже забежавшему на несколько шагов вперед.
И получил скудный ответ упыря, даже не удостоившись его взгляда.
– Не понимаю.
– Вы потратили на них тысячи лет! На эти рельефы…
Удивительное свершение. Казалось, что он мог видеть его оком своей души, как нечто сразу и большее и меньшее, чем образы, резец, молоток, и тысячи трудолюбивых рук, – эту словно зараза распространяющаяся среди вымирающих Домов потребность изобразить какую-то часть себя живого на мертвом камне.
– Да, – согласился Ойнарал. – Целая Эпоха. Мы не настолько беспокойны как люди. Мы проживаем свои жизни как долг… но не как награду.
– Но какой труд, – промолвил Сорвил, ошеломленный величием подобного дела.
– Мы делали это для того, чтобы сохранить ту жизнь, которая ещё оставалась в нас. – Ответил Ойнарал. – Если крепость воздвигается из камня, то мы воздвигли свою твердыню из своей Памяти – памяти о том, что навсегда потеряли. Мы подчинились властной потребности, грубой уверенности в том, что несокрушимо только великое.
– Это безумие! – Вскричал Сорвил с неведомой ему самому страстностью.
Ойнарал остановился перед Сорвилом, грудь его возвышалась над головой юноши, черный шелковый плащ распахнулся, открывая спрятанную под ним нимилевую броню.
– Все великие свершения противоречивы, – нахмурившись проговорил он и повернулся к той череде панелей, на которую указывал Сорвил. – Вот смотри… видишь, между ликами славы присутствуют совсем иные мгновения… Видишь их? Отцы играют с детьми… воркуют влюбленные… несут мир жены…
Он был прав. Сцены незначительные по смыслу были вплетены в возвышенную процессию, однако получалось, что взгляду приходится напрягаться, чтобы найти их, не из недостатка выразительности, но потому лишь, что они были внеисторичны, узнаваемы только по форме. Как знаки неизбежного, неотвратимого.
– Мы теряли всё это, – продолжил упырь. – Все восторги, которые украшают суровую жизнь, удовольствия плотские и родительские… все, что вносит счастье в повседневное бытие медленно уходило в забвение. Не спеши осуждать нас, сын Харвила. Часто безумие служит лишь мерою оставшегося ума, когда живые могут положиться на одну лишь надежду.
Руки Сорвила более не чесались, они тряслись от ярости и неверия…
– Вы промотали свой разум! —В гневе он топнул ногой. – безрассудно растратили целую эпоху!
Ойнарал невозмутимо взирал на него… шранк, наделенный мудрой человечьей душой. Отсветы ближайших глазков припорашивали белыми точками его очи.
– Это говоришь не ты.
– Дурачьё! Вы отложили меч и свиток ради всего этого? Как вы могли это сделать?
Сила увещевания заставила сику вздрогнуть, однако прежнее спокойствие тут же вернулось к нему.
– Подними руки, сын Харвила… прикоснись к своему лицу.
Легкая щекотка, словно перышком, перехватила горло юноши. Он кашлянул, а потом кашлянул снова, так и не ощутив ни своего лица, ни рта.
– Я … – беспомощно вырвалось у него. Где же его лицо?
Ойнарал или кивнул или просто опустил свой овальный подбородок.
– Желание коснуться лица даже не приходило к тебе только потому, что оно само не хочет этого. Соединение происходит быстрее, когда принимающая душа остается в неве…
– Оно? – На Сорвила накатила волна паники. – Лицо… чего-то не хочет от меня?
–Прикоснись к своему лицу, сын Харвила.
Неужели, все они здесь, в его отсутствие, посходили с ума.
– Что здесь происходит, кузен? – Воскликнул он. – Что сталось со Священной Родней? И как ты можешь без стыда разговаривать о подобных вещах?
–Я все объясню… – чтобы подбодрить его Ойнарал улыбнулся. – Тебе нужно только прикоснуться к своему лицу.
Охваченный смятением Сорвил наконец поднял руки, нахмурился…
И понял, что лицо у него отсутствует.
То есть не отсутствует… но его заменили.
Полное страха сердцебиение. Пальцы его ощутили гладкую поверхность нимиля, всегда казавшегося более теплым, чем воздух. Он лихорадочно ощупал впадины и выступы металла, на всей поверхности которого были вытеснены сложные символы…
Какой-то гладкий и безликий шлем?
Чисто животная паника. Удушье. Он схватил обеими руками эту вещь, дернул, но тщетно. Она, казалось, сливалась воедино с его черепом!
– Сними её! – Крикнул Сорвил выжидавшему рядом упырю. – Сними эту вещь! Сними её!
– Успокойся, – как бы с высшей уверенностью посоветовал Ойнарал. Резные стены качались вокруг него.
– Сними её прочь!
Одной ладонью он зацепил горстку колец нимилевой кольчуги на груди Ойнарала, тем временем вторая в панике ощупывала шлем, каждый изгиб, каждую складку, разыскивая какой-нибудь шов, застежку или пряжку… хоть что-нибудь!
– Сними немедленно! – Вскричал он. – Вспомни про ваше Объятие!
Ойнарал схватил его за руку, задержал её.
– Успокойся, – проговорил он. — Приди в себя, Сорвил, сын Харвила.
– Я не могу дышать!
Сорвил задергался, как утопающий. Упырь оскалился от напряжения, обнажив влажный ряд слитых вместе зубов. Взгляд и хватка – этому сочетанию, с учётом его нечеловеческой решимости, невозможно было воспротивиться.
– Я чту Объятие моей Горы, – с напряжением проговорил он. – Нет существ более верных своему слову, чем мы, Ложные Люди, доколе это ничем не угрожает нам. Но если я сниму с тебя шлем…
Невзирая на владевшее им отчаяние, юноша увидел тень, промелькнувшую во взгляде упыря.
–Что? Что?
– Анасуримбор Серва умрет.
Хлесткие слова подломили его колени, словно сухие ветви.
Он осел на землю.
И сдался. То реальное, что было здесь, стало поворачиваться вокруг глазков, – виньетки на стенах, рельефы внутри них, детские выходки , печали смертного, всё разлетелось в прах, мусором просыпавшимся посреди жизни куда более жуткой, образы истощившейся славы, эпической дикости, терзающих небо золотых рогов, все закружилось вокруг…
Однако, облаченный в черное упырь единым движением поднял его на ноги и крикнул. – Иди! Иди вперед, сын Харвила!
И он, шатаясь, побрел между столпов торжественной дороги, замечая лишь плиты пола, сменявшие друг друга под его поношенными сапогами.
– Рвение и бдительность… – проговорил Ойнарал, шагая во мрак между двумя большими фонарями. —Только они спасут тебя. Рвение к жизни, которая принадлежит тебе, и бдительность к жизни, которая тебе не принадлежит.
Сорвил вновь принялся ощупывать шлем, проводя пальцами по сложной, впечатанной в металл филиграни… Голова его была погребена в этой железке, и, тем не менее, он мог видеть! Казалось, что он касается поверхности стекла, идеально прозрачного, но каким-то образом искаженного, словно бы душа его не была согласна с тем, что способна видеть сквозь металл, и он как бы заходил сзади того, что существовало, рассматривал близкое издали.
– Сыновья Трайсе называли этот шлем Котлом, – пояснил сику. – Сыны Умерау – Бальзамическим черепом…
Опустив руки, Сорвил увидел впереди, за тремя фонарями, как будто бы конец Внутренней Луминали.
– Мы же всегда называли его именем Амиолас, – продолжил высокий упырь. – Многие носили его, но боюсь целые эпохи минули с той поры, когда он в последний раз втягивал в себя жизнь…
– Так, значит, у него есть душа! – Охнул снова перепугавшийся юноша.
– Тень души, душа, лишенная глубины, засыпающая и видящая сны.
– Ты хо… хочешь сказать, помещенная в кого-то живого!
– Да.
– Значит я одержим? И моя душа более не моя собственная?
Ойнарал в задумчивости сделал три шага, и только потом ответил.
– Одержимость – неточная метафора. Если говорить об Амиоласе, то у него один плюс один – будет один. Ты более не являешься той душой, которой был прежде. Ты стал чем-то новым.
Лошадиный Король, полагаясь на ощупь, брел рядом со своим сику и пытался одновременно понять. Он был обязан оставаться собой. Иначе его можно уже считать мертвым. Он должен быть тем, кем был! Но как? Разве может душа сидеть, давая суждение о себе, и говорить: я есть то, а не это? Где находится точка обзора? Точка, предшествовавшая всякому указанию? Как поймать ловящую руку?
– Чтобы добиться выгоды нужно понять, – объяснял упырь. – Чтобы понять, нужно быть. И Амиолас соединяет душу, носящую его, с древней тенью заточенного в нем ишроя…
Он стал не тем, кем был!
– И поэтому ты говоришь на моем языке, знаешь мой Дом и мой Народ…
Быть может, причиной было утомление. Или же общая сумма перенесенных им утрат. И все же, ребенок, обитавший в его груди, толкался в его легкие, в его сердце. Подкатило рыдание, полное сокрушающего горя… и где-то застряло не найдя пути для выхода – где-то возле губ, которых он не ощущал. Отсутствие воздуха сжимало грудь.
Удушье. Расшитые памятью веков стены поплыли в черную тьму. Он смутно ощутил, что снова падает на колени…
Ойнарал Последний Сын стоял перед ним, глаза его были полны сочувствия.
– Ты не должен плакать , сын Харвила. Амиолас скорее умрет, чем заплачет.
Но… но…
– На твоей голове тюрьма, человечек, хитрая тюрьма, созданная для одной из самых гордых, самых безрассудных душ, известных истории моего народа. Иммириккас Синиалриг, Стрекало, Мятежный, великий муж среди иъйори ишрой. Куйяра Кинмои приговорил его к смерти во время нашей усобицы с Подлыми – и приговор этот смягчил Ниль’гиккас. Не было среди нас никого безрассуднее его, сын Харвила. И если не считать инхороев, никого не наказывал он с такой жестокостью как себя самого.
Однако волчок головокружения вернулся, вовлекая его в свое жуткое вращение. Оглянувшись из поглощающей его тьмы, юноша увидел, что и Ойнарал Последний Сын как пролитое молоко втягивается в её кругообращение.
– Я… – выкрикнул Сорвил.
Я должен…
Харапиор не мог заставить себя заткнуть ей рот кляпом. Она пела так, как однажды пела его жена, лежа среди раскиданных подушек, пела о любви и печали, голосом подобным облаченному в свет дыханию, похожим на щекотку и даже не собирающимся изображать сон.
Она пела ему… нагому и слабому.
Анасуримбор Серва была слишком реальна, чтобы страдать как он. Тень его маячила на горизонте того, чего она желала, и трудилась напрасно, ибо он полагал её тело своим орудием, тем рычагом, которым можно будет перевернуть её душу. Однако он не мог обнаружить кожу этой девушки , дабы пронзить её, не мог обнаружить её потребности, дабы заставить нуждаться в них, не мог найти даже взгляда, дабы затмить его. Он не мог нащупать даже пути ведущего к ней! Тело её, скованное цепями, находилось перед ним, но её саму он нигде не мог найти.
Слова её песен едкой капелью падали на его сердце.
Певучим было её сердце,
Бурной была душа её,
Луной над шелком и над морем
Песнь её обращалась не к нему, но к тому, из чего он был сложен. Она пела о мечущихся глазах, о дрожащей руке, о стиснутых губах. Она обращалась к ним. И они внимали, извиваясь и зевая как ленивые водоросли.
И расцветали.
Он разжег её как огонь,
Низвел словно снег,
Лег щекою к её щеке,
Рядом, но не прикасаясь губами,
Ибо даже самый окаменевший средь упырей давно рассыпался известью и песком.
Соединяя два дыхания во вдохе,
Она отмеряла свой голос кувшинами, обращаясь к уже размокшему.
Выдыхая одним дыханием.
Она вскопала своей мотыгой его землю и глубоко посадила в неё своё семя.








