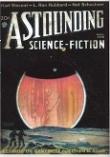Текст книги "Живые картины (сборник)"
Автор книги: Полина Барскова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Моисей: Антонина, проснись!
Тотя: Ох, не трогай меня, ну пожалуйста, не трогай меня…
М о и с е й: (Торжественно извлекает из глубин своих лохмотьев записную книжечку.) Так, сейчас, сейчас я буду читать тебе дневник!
Тотя (вяло): Да ты же не видишь ничего, Мусенька? Зачем это? Зачем это всё?
Моисей: Ну, я же хочу… Мне же важно знать, что ты думаешь! (Закашливается. Затем провозглашает.) «Дневник пещерного человека»:
Бриолин горит очень ароматно и аккуратно, но страшно неярко – приходится писать ощупью. Сегодня, выбравшись из-под одеяла часам к 11, больше часа провозился с новой баночкой с фитилем (кусок ваты). Испоганил в помаде все руки, кисти, столик, но что-то заедает – в руках нету чёткости.
Позавтракали часов в 11 – я глоток рыбьего жира и 2 лепёшки витамина Б, Тоня – 2 ложки хвойного экстракта. Роскошь.
Тотя: Кому это может быть интересно, Муся, – сколько ложек рыбьего жира мы съели? Сколько дуранды друг у друга украли…
Моисей: Как ты можешь?
Тотя: Ну или там хотели украсть… но не украли… постыдились… или сил не хватило… Это же убого… Может быть, лучше бы, чтобы этого не было?
Моисей: Как не было? Это же вот… есть!
Тотя: Ну вот пусть не знают этого… пусть будет вместо нас лучше пустое место, чем этот стыд, чем вся эта стыдобу-у-ушка… Пусть после нас никто этого ужаса не видит, не знает! Пусть всё забудется, канет.
Моисей: Как? О нет, а вот я подумал – надо всё писать, всё как есть, Тотинька. Правду и ничего, кроме правды!
Тотя: Что-то я не уверена, что им там потом так захочется этой правды нашей…
Моисей: Как это? Никому не захочется? Почему?
Тотя: Ну, знаешь, не самое приятное мы с тобой представляем зрелище… Так себе, мумии – сохранность неудовлетворительная.
Моисей: Ох ты, маловерная моя! А я уверен, что хоть кому-нибудь – захочется. Что нужно записать. Чтобы потом их – ну тех, кто будет после нас – их слова не прилипали к нашим словам! К нашим дням этим чёрным! Чтобы потом никто про нас не сказал, что это было как-то там, как им потом захочется, там – потом – после нас…
Тотя: Это как?
Моисей: Ну, там – что мы были все герои или все мерзавцы или что мы страдали красиво и с достоинством всегда или что не страдали вовсе… Вот надо написать как есть – эта вонь, тьма, параша, слабость, страх… И вот ты, какая есть – милая, светлая, тоненькая, тощенькая…
Тотя: Ага, вшивая вся, голодная, злая…
Моисей: Да, именно – как есть, вся эта вонь, вся эта скука и вот это твоё лицо – такое умное, такое прелестное… День за днём, факт за фактом! Тут важно – только факты… во всей точности – и не разнюниваться!
Тотя: Тю… Ты скажешь – скука!.. Тут не соскучишься. И кто здесь нюнится? Я не нюня и ты – да, разве ты у меня нюня? Ты у меня – Муся. Ты у меня Ахилл – дырявый бахил! С дыркой на галошке… Только меня расстраивает, что ты падаешь всё время… Вот пята у тебя явно ахиллесова…
Моисей: И совсем не всё время, Тотенька! Не надо преувеличивать! Вот я заметил: ты так и норовишь пасть духом!
Тотя: Но ты, милый, так и норовишь пасть телом – ты же совсем себе бедро разбил! Там же никакого живого места нет…
Моисей: Тотя, ты – моё живое место! Вот я записал неделю назад – как раз для точности:
Шагаю сегодня неплохо. (Вот, слышишь – я шагал не-пло-хо.) Автомобили благоухают уже не так хвоей, как чем-то приторным – такой липкий кондитерский запах.
Тотя: В самом деле, чем бы это могло так вонять? Ты уж, Муся, тогда всё так и говори – что, мол, труповозка прошла… Других-то машин и нет почти уже…
Моисей продолжает читать:
Домой дошёл быстро и упал всего один раз, но пока прошёл служебный коридор Эрмитажа, зал ваз, полетел 4 раза.
Брёл в Академию еле-еле. По следам проезжающих машин.
Мороз красивый с инеем, с туманной дымкой. Исакий и солнце в дымке.
Опять упал, на то же место, что вчера, разбил себе бедро и руку.
На экране – кадры блокадной кинохроники с пешеходами на Невском.
Моисей идёт в вдоль экрана, падает, поднимается, падает, поднимается – и так много раз… Он останавливается и, пытаясь балансировать, рисует в воздухе одной рукой очертания города. Продолжает читать:
Сегодня рисовал одной рукой, потом рука заболела, рисовал чуть не носом, ничего не видел. Уставал от напряжения, вызванного штриховкой, но воспрял духом и воспарил, почувствовал себя в седле.
Гоп! Гоп! Поехали!
Вот, представляешь, прямо так и написано: «Гоп! Гоп! Поехали!»
Моисей пытается обнять Тотю, «танцевать» с ней и «играть в лошадки». Они двигаются неуклюже и грустно. Урывками, как запинающаяся пластинка, звучит мелодия Снежной королевы.
Моисей: А вот дальше у меня написано:
Искусство – хорошая штука! Стоит жить из-за него!
Тотя: Так и написано? Покажи… Гм… Стоит, думаешь?.. Думаешь, стоит?.. Хорошая штука…
Моисей: Хорошая штука!
Тотя: Вот Ираклий говорил: «Я когда Сезанна смотрю, а потом глаза закрываю, мне ничего не страшно, мне всё легко». Легко ему было… Да он и сам был – лё-ё-ёгкий!
Моисей: Я, вообще-то, этого не желаю знать, Антонина. Не смей его всё время вспоминать.
Тотя: Вот дурак. Я не о том. Я уже почти всё… всё забыла… Я ничего больше не помню и не знаю, Муся. Наши папиросы где?
Долго прикуривают, с наслаждением, как поцелуй, постанывая/покряхтывая и от удовольствия, и от боли: у них всё время всё болит, им всё неудобно. Моисей приободряется и продолжает «рисовать» в воздухе замотанными руками: в одной его «лапке» зажжённая папироса и он ею рисует. Это опять должно быть похоже на танец, но дистрофический: Моисей и хочет, и не хочет, и может, и не может тратить силы на эти «зарисовки» – видно, что ему всё больно.
Тотя: Моисей, скажи, всё будет хорошо?
Моисей: Всё будет хорошо.
Тотя: Чтó, чтó может быть хорошо – ну чтó ты несёшь?
Моисей: Вот Адриан Леонидович говорит, стационар открывается – там кормят! Там кашу дают! Там, говорят, даже своя баня есть…
Тотя: Есть, да не про нашу, Мусенька, честь. Мы ж танки не строим. Мы ж бесполезные. А что это ты там рисуешь сейчас?
Моисей: Ты не видишь разве?
Тотя: Нет, чего-то не очень вижу.
Моисей: Ну ты дурочка! Ну вот, набережную, Петропавловку, шпиль в дымке, как солнце заходит, как в грузовике трупы повезли…
Тут на экране могут появляться самые яркие цветные изображения города блокадных художников – Бобышова, Глебовой…
Тотя: А интересно, наших из подвала забрали? Их тоже на труповозке повезут, интересно?
Моисей: Нет, Тотинька, по-моему, это не очень интересно… Вроде говорят, зачем их сейчас забирать? Зачем их трогать? Они лежат такие спокойные, холодные, красивые…
Тотя: Всё же это удивительно! Эта жопа Концевич там лежит рядом с Ираклием… Да если б ему при жизни сказали, с его-то вечными балеринками, красоточками… с кем ему здесь лежать придётся… Она ж и доносила ещё на нас, урод, она ж на нас на всех доносы писала – старая блядь!
Моисей (слабо смеётся): Тотик, я тебя снова оштрафую! Я тебе папирос завтра не дам, я тебе буду часами пересказывать взгляды Концевич о достижениях соцреализма…
Тотя: Ну уж! Я тебя тогда тоже оштрафую.
Моисей: Вот! Хорошо! Ты опять звучишь как маленькая разбойница – это хорошо!
Тотя: Нет больше маленькой разбойницы… Знаешь, старушка Ганзен, которая Андерсена с датского переводила, да, которая переводчица – она, говорят, тоже… Анна Павловна говорит – ещё в декабре… Говорят, всё свои книги жгла, чтобы согреться… И «Снежную королеву», должно быть, сожгла… Растопила! Возьми меня за руку, мальчик Кай. Подержи меня.
Моисей: Я и взять толком-то не смогу уже, деткин… Руки обмёрзли… Чего-то лопаются.
Тотя выпрастывает длинную, изящную, худую, сильную руку из тряпок и кладёт её на лицо Моисею.
Моисей: Тотя… Моя Тотя.
Молчат. Моисей продолжает читать:
Я не мог двинуться. Рыбий жир Тотя смешала перетопленный с таким и положила в портфель незаткнутую коптилку. Весь керосин расплескался и залил 5 пачек папирос. Мы бурчали друг на друга – бедный детишкин! Тоня прикорнула на топчане.
Вид больного детишкина разрывает сердце, а она не понимает, утешает меня, что у неё просто насморк.
В общем, было дно или потолок маразма! В первый раз вообще не очень поверилось, что выберемся…
Скажи мне… Скажи мне! Скажи мне, что всё будет хорошо!
Тотя лежит, свернувшись комочком, накрывшись с головой. Моисей сидит над ней и тихо, жалобно зовёт/просит/скулит: «Тотя!»
Картина пятая
Осколки зеркала
Моисей: Моя прекрасная Тотя, не найдётся ли у Вас зеркальца?
Тотя (ворчливо): А что, в Эрмитаже мало зеркал, мой тщеславный Муся?
Моисей: Было немало, но они ж все от бомбёжек вылетели. У тебя зеркальце есть?
Тотя: У меня зеркальца нет. Я уже два месяца на себя не смотрю. Я боюсь. Вот посмотрела один раз – mon Dieu! Лысая, чёрная, старая… Даже не то чтобы старая: вообще вне возраста… Такое, знаете ли, аллегорическое воплощение войны. Гойя.
Моисей (озабочен своим): Но мне очень-очень нужно зеркальце!
Тотя: Да всё же здесь осколками усыпано. Бери и смотри. Любуйся.
Моисей с трудом находит и подбирает осколок, пытается наловчиться так, чтобы разглядеть свой рот, но поскольку руки у него забинтованы, получается плохо.
Моисей: Тотя, подержи мне зеркальце! Ну вот – я так и думал! Уже третий зуб. Качается, стервец, сейчас выпадет. Будет ещё одна дыра-а-а! Как у Гостиного…
Тотя: Именно. Как на Пестеля, на месте булочной.
Моисей: И как на Надеждинской. Там ещё Людочка жила – Ваша подруга. Что с ней сталось?
Тотя: Ну, Моисей, откуда ж я знаю? Телефон отключили ещё когда… Никто ни о ком ничего не знает, знать не может и знать уже не хочет. Не знаю, что с моей Людочкой. А впрочем, знаешь что: подержи и мне зеркальце, Муся.
Моисей: Нет.
Тотя: Нет? Да!
Моисей направляет осколок то в одну, то в другую сторону от Тоти. При этом повсюду скачут зеркальные «зайчики».
Моисей: У тебя красивые глаза, у тебя красивый лоб, у тебя красивые волосы… Ты вся смешная, лукавая, золотая, ты светишься…
Тотя: Это правда?
Моисей (как будто внезапно уставая). Нет, любимая. Это не правда. У тебя красные дёсны – от цинги, коричневая кожа, вся в пятнах, глаза запали совсем, но ты – ты живая! Ты страшнее самой смерти, Тотя моя, но ты – ты живая, а это всё, что сейчас важно: выжить.
Тотя: У тебя злое, кривое зеркало! Зачем же нам теперь выживать – таким страшным? Мы уже даже друг на друга и смотреть не можем.
Моисей: Ну вот! А ведь Вы на меня, Тотя, насмотреться не могли! Всё подлизывались: мальчик мой, красавчик мой. Всему Ленинграду обо мне рассказывала. Ты помнишь, прошлым летом – в Комарово?
Тотя: О, я помню прошлым летом. Ты волочился за всеми эрмитажными кралями, и уж, конечно, за Лидочкой. Облизывался на них, как на греческие статуи. Ну а я всё ждала, когда же ты на меня уже посмотришь…
Моисей: Ну, они все себя и вели как греческие статуи, надо правду сказать. Никакого ко мне интереса… А уж Вы-то, Антонина Николаевна, зачем мне на Вас было смотреть? Это ж было ясно, что Вы меня на смех поднимите.
Тотя (удивлённо): Почему?
Моисей: Потому что Вы же надо всем насмехались, Тотя. У Вас был такой страшный огненный смех (пытается повторить, получается тускло, как лай) – ха-ха-ха!
Тотя (так же тускло вторит): Ха-ха-ха! Ты заметил, что в городе больше никто не смеётся. В блокаде смеха нет. В блокаде, согласно Адриану, смех снят… (В попытке оживления от ещё чуть теплящегося тщеславия.) Так, ладно, ну и как же ты осмелился на меня посмотреть?
Моисей: Я осмелился? Тотя, я осмелился, когда Вы мне рубашку, pardonnez-moi, уже расстёгивали…
Тотя: Нет, ну тогда ты на меня точно не смотрел – ты в ужасе отворачивался, девственный Моисей. А мне было так любопытно!
Моисей (возмущённо): Любопытно?
Тотя: Ты мне был любопытен – ты ведь в тот день один, один, осмелился на собрании спросить у мерзкой Концевич, является ли Рембрандт также троцкистом и формалистом, ну если все формалисты потом у него учились…
Моисей: Так любопытно, что ты пригласила меня в Комарово – чернику собирать.
Тотя: Ммм, как там тепло было, светло! Помнишь? Я соберу ягоды себе в ладонь… Потом тебе в рот… И всю ладонь тебе в рот, и ты ягоды языком мнёшь и мне ладонь лижешь… мнёшь одну за другой… и они лопаются… и сок течёт. Моисей, а почему ты так… ерзаешь? Сладость воспоминаний? Неужели? Ты же ко мне уже с декабря не притрагивался…
Моисей (резко): Нет, не неужели. («Незаметно» чешет капор забинтованной рукой.)
Тотя: Да что с тобой?.. А… Ты завшивел, любимый мой?
Моисей: Антонина Николаевна, в каком тоне Вы со мной разговариваете! Оставьте меня в покое!
Тотя: Господи, что ты – да ведь мы все вшивые. И у живых вши, и у мёртвых вши. Может, если что и объединяет блокадников – это самое. В Смольном от одного пухнут, у нас в подвале – от другого. Давай-ка, миленький, снимем твой капор и посмотрим.
Моисей: Тотя, не смей! Это… это крапивница!
Тотя: Моисей, Вы болван. Это не крапивница. Давай-ка я тебя разоблачу. (Игриво) Komm zu mir… (Моисей горестно мычит, не особо уже сопротивляясь.) Вот она, голубушка – так, давай я её сниму: тихо-тихо, ласково-ласково…
Моисей: Мерзость какая…
Тотя: Почему мерзость? Прозрачность и сгусток, посередине – пятнышко!
Моисей: Какая мерзость!
Тотя: А ты знаешь, мне кажется, блокадная вошь – это как бы и есть блокадная любовь.
Моисей: Как ты можешь так говорить? Это мерзко!
Тотя: Это – так. Она совсем слабая и совсем твёрдая. Ничто её не берет. А вот гниды – они совсем золотые. Как ягоды, как черника – вот я их снимала тогда, медленно-медленно, тихо-тихо, а ты на меня смотрел-смотрел. А я смотрела, как ты смотришь. (Тотя стоит над Моисеем и ищет у него в волосах. Они оба в маленьком, слабом шаре света.) Моисей, какой ты красивый! У тебя красивые волосы, красивый лоб, всё-всё. Всё.
Картина шестая
Снежная королева. Февраль
Темнота, радио: победоносные сводки.
Тотя: Моисей, встань! (закашливается) Встань! Принеси мне кофе!.. Не притворяйся, пожалуйста! (Повышая голос в монотонном раздражении) Моисей, встань уже! Сколько можно прикидываться! Встань уже!
Моисей: Мне что-то не очень… сегодня. Что-то нет… не могу…
Тотя: Да ты всё придумываешь… Что ты всё придумываешь! Сколько ж можно! Это же распущенность… Всё это твоё бессилие – распущенность! Да меня тошнит от этой твоей беспомощности! Почему ты ничего не можешь?
Моисей: Не надо… не надо… не надо так!
Тотя: Почему ты ничего не можешь?
Моисей: Я, да… Вот встаю… Видишь: я встаю! (Мучительно, медленно, долго встаёт, идёт за кастрюлькой, пытается взять её замотанными руками – естественно, роняет, очень громко, всё выливается.)
Тотя (пронзительно кричит): А-А-А! Идиот! Ну что же ты всё всегда гадишь!
Моисей: Не надо! (Пытается защититься от её крика, закрывается руками.)
Тотя (истерически кричит): Я не могу больше терпеть… Я не могу тебя терпеть… Я это больше не могу! Ты же гадишь всё время!
Моисей: Что с тобой, Тотинька?
Здесь Тотя должна превращаться в Снежную королеву под самый холодный, громкий, страшный вариант её мелодии. Например: Тотя поднимается/«растёт» на столе в своём белом одеяле, в белых и синих лучах. Голос Моисея, но не блокадный, а очень красивый, сильный, спокойный, бархатный за/над сценой читает:
Это была высокая, стройная, ослепительно-белая женщина – Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.
– Все еще мерзнешь? – спросила она и поцеловала его в лоб.
У! Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть.
– Больше я не буду целовать тебя! – сказала она. – А не то зацелую до смерти!
Кай взглянул на нее; она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством.
Моисей: (Лежит на полу возле пустой кофейной кастрюли.) Тотя! (Пытается перекричать музыку.) Не надо, не убивай меня!.. Не мучай меня! Мне холодно! Мне холодно! Прости меня! (Плачет.) Я – дурак, тебе так трудно со мной, так трудно со мной… Бедная моя, бедная моя… Ты… деточка… ты устала!
Возможно, в этот момент они говорят, кричат, шепчут одновременно, уже не слыша друг друга, как в оперных любовных ариях-дуэтах, но это не гармония, а кошмарная одновременность неслышания.
Тотя (ледяным голосом): О, это несносно! Это несносно! Когда же это кончится? Я не могу тебя слышать… Твои жалобы! Твои просьбы! (Вдруг её истерика странно «замерзает», и Тотя переходит на совершенно спокойный тон.) Мне всё равно… Пойми же… Моисей. Мне теперь всё равно. Уже скорее бы… Скорее бы!
С тем же огоньком, что и в начале, очень медленно входит Анна Павловна. Она сильно изменилась, вместо оживлённой нервной дамы мы видим старческую тень, из-за цинги Анна Павловна может только шептать.
Анна Павловна: Моисей Борисович! Моисей Борисович! Моисей Борисович! Вот радость какая, вот радость-то – Вам повестка в стационар, там Вам помогут, там ка-ша, там тепло, там всех спасают… все спасутся. (Медленно подходит к краю сцены и замирает, тихонечко «засыпает» – за ней кружится, падает белый лист бумаги.)
Тотя: (Она как будто очнулась, спускается со своего пьедестала, выходит из роли Снежной королевы/Блокадной Смерти, подползает к листочку – справке о допуске в стационар. Издает крик.) Муся, это… Что это?!. Стационар?!.
Моисей: Не надо…
Тотя: Они тебе всё же выбили повестку в стационар… Ты не умрёшь сейчас!
Моисей: Не надо…
Тотя: Ты пойдешь в стационар сейчас… Они всё поняли… что ты гениальный мальчик… что ты не можешь замёрзнуть!
Моисей: Побойся Бога… Оставь меня… Не трогай, не мучай меня! Я уже никуда не пойду…
Тотя: (Опускается на пол рядом с ним.) Ты пойдёшь! Ты пойдёшь! Ты же не можешь здесь подохнуть! Всё же не может вот так закончиться – всё же только начинается, да? Ну, прости меня. Ну, вставай! Встань! (Моисей утыкается к ней в колени, мы видим её лицо; своими позами Тотя и Моисей повторяют композицию рембрандтовского «Блудного сына».) Ты пойдешь, ты поешь, они тебя покормят, они тебя помоют, они вылечат твои руки, ты всё-всё им нарисуешь… Весь наш ад ты им к ебене матери покажешь… Ты им всё объяснишь. Помнишь, Тырса про тебя сказал: гениальный мальчик, многое обещает. Ты ведь сдержишь обещание, Муся?!. Ну, вставай, вот так, да, мой сильный мальчик! Ты слышал, что она сказала: там все спасутся.
Моисей опирается на Тотю и поднимается, медленно идёт к выходу, всё время поглядывая на нее со страхом, надеждой и подобием ободряющей улыбки, впрочем, жутковатой.
Тотя: Иди! Иди уже… Там тепло, там светло! Муся… Иди!
Блокадная победоносная радиосводка, потом помехи, и раздаётся голос Тоти, звучащий чеканно, как будто это голос диктора:
Моисей Ваксер умер в стационаре 4 февраля 1942 года. Тоти, Антонины Изергиной, не было рядом с ним в ту ночь. Большая часть его неопубликованных работ, писем и фотографий исчезла.
На экране одна за другой появляются работы Моисея Ваксера. Звучит музыка[1]1
Благодарю за участие в этом тексте Антонину Изергину, Моисея Ваксера, Павла Зальцмана, Льва Пумпянского, Лидию Гинзбург, Ольгу Берггольц и всех жителей блокадного города, чьи голоса здесь звучат. П. Б.
[Закрыть].