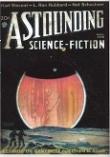Текст книги "Живые картины (сборник)"
Автор книги: Полина Барскова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Плиски. Птичий язык
Вернувшись из мёртвого города, он отлежался, покорябал нечто в тайном своём дневничке и опять принялся уходить в лес и там стоять – то с открытыми, то с закрытыми глазами, прислушиваясь, принюхиваясь, присматриваясь. Мир, в котором обитает Бианки, нам чужд, слова его темны и тем манки, таким образом тревожат нас и всё же имеют к нам отношение:
«В сырых кустарниках появились синегрудые варакушки и пёстрые чеканчики, на болотах золотистые плиски. Прилетели розовогрудые жуланы (сорокопуты), с пышными воротниками из перьев турухтаны, вернулись из дальних странствий погоныш и дергач, зелено-голубые сизоворонки».
Ну, скажите мне – кто все эти твари? Что представляется вам в ходе предложения «прилетели розовогрудые жуланы» – какие невозможные, смешные чудеса? Совершенно очевидно, совершенно и очевидно, что автор их всех придумал – перед нами иная чужая планета, порождение фантазии человека, не придумавшего убедительных причин обитать на собственной планете.
Плиски? Какие ещё плиски? Да нет же, утверждает Бианки, это мы на своей планете, на своём болоте – чужие, слепые, немые, убогие.
Мы (в смысле я) не знаем варакушку (птица семейства дроздовых отряда воробьинообразных. В зависимости от подхода к классификации, вместе со всем родом соловьи может относиться к семейству мухоловковых. Размером чуть меньше домового воробья. Длина тела – около 15 см. Масса самцов – 15–23 г, самок – 13–21 г. Спинка бурая или серовато-бурая, надхвостье рыжее. Горло и зоб – синие с рыжим пятном посередине; пятно может быть белым или только окружено белым. Синий цвет снизу окаймлён черноватым, а затем рыжими полукольцами поперёк груди. Хвост рыжий с черноватой вершиной, средняя пара перьев хвоста бурые. Самка без синего и рыжего цветов. Горло беловатое, окаймлённое буроватым полукольцом. Клюв чёрный, ноги буро-чёрные).
Какими бы ни были горло и зоб, погружаясь в эту прозу, погружаешься в вымышленный и умышленный мир. Чем далее продвигаешься в этот сизо-вороной и зелёно-голубой язык, тем менее слышны удары волны по Университетской набережной, удаляется вся дрожь-ложь города с жалящими и пьющими яд друг друга литераторами и литераторскими мостками. Остаётся Бианки, остаётся один, вышагивающий по мёрзлой болотной жижице, весь обратившийся в слух, тут тебе и голоса птиц, там тебе и голоса рыб. Тот самый сказочный дурак в стремлении спрятаться от царя, забредший в чашу и прозревший. «Надеюсь создать толковый словарь языка здешних мест». Не-здешних мест! В очередном своём самоизгнании в деревне Михеево Мошенского района, где оказался-спрятался в первую военную зиму, он не перестаёт собирать свои волшебные слова, которые защитят его: спрятанный, невидимый язык, собрание настоящих слов – его предмет веры.
Счастливый конец
«Лескоры наши скололи лёд со дна одного пруда и раскопали под ним ил. В иле лежало много лягушек, целыми кучами забравшихся сюда на зиму. Когда их вытащили, они оказались совсем точно стеклянные. Тело их стало очень хрупким. Тонкие ножки ломались от самого лёгкого и слабого удара, и при этом раздавался лёгкий звонкий треск. Наши лескоры взяли несколько лягушек к себе домой. Они осторжно отогрели замороженных лягушат в тёплой комнате. Лягушата понемножку ожили и стали прыгать по полу».
И был таков.
Виктору Алферову
Живые картины
Документ-сказка
Действующие лица:
Антонина/Тотя (37 лет)
Моисей (25 лет)
Анна Павловна, смотрительница Эрмитажа (70 лет)
Картина первая
Пеленашки. Ноябрь
В полутьме на сцене стоит стол. На нём пытаются улечься, устроиться два человека. Это Моисей и Тотя. Оба завёрнуты в грязно-белые ватные одеяла и всякое тряпьё. Постепенно глаза зрителей привыкают к слабому освещению, и становится понятно, что действие происходит в одном из залов Эрмитажа. Пол усыпан битым стеклом и песком.
Тотя: Ну вообще-то, друг любезный, мне чудовищно холодно!..
Моисей и Тотя ворочаются, стараются придвинуться поближе, неуклюже возятся; это немного напоминает движения морских котиков на берегу.
Моисей: А так?
Тотя: И так ещё холоднее…
Моисей: Ох ты! Ну а ещё что?
Тотя (тихо): А ещё страшно…
Моисей: Что? А? Тотя! Тотя! Что Вы сказали? (Поскольку Моисей завёрнут в одеяло и у него на голове несколько шарфов и дамский капор, он не всегда слышит. Вообще важна их привычка всё время звать, призывать друг друга.)
Тотя: Мать вашу, Муся, любезнейший, мне страшно! Мне страш-но!
Моисей: Тотя, не кричите, пожалуйста… и не ругайтесь. Я этого не люблю. Вас люблю – вашего способа выражаться не выношу! И не жалуйся – это не способствует укреплению духа… Мы же договорились – не унывать. И вообще я думал – тебе никогда не бывает страшно. Помнишь, когда нас Ираклий знакомил: «Моисей, познакомьтесь, нас удостоила свом посещением Тотя – самая красивая женщина Ленинграда… И самая бесстрашная – покорительница вершин и сердец!»
Тотя: А что самая бесстыдная он не говорил?
Моисей: Ну, это я сам понял.
Тотя (передразнивает): «Познакомьтесь, девственный Моисей, рекомендую – Тотя, покорительница вершин, мощных гульфиков и гордых ширинок! Эльбрусов мужских тщеславий и вожделений! Составительница самого интригующего эротического списка Города трёх революций…»
Моисей: Тотя, не будь вульгарной! Я буду на тебя накладывать штраф – каждый раз!.. Я буду Вас требовать мне платить… За каждую скабрезность – поцелуй!
Тотя: А, ну это пожалуйста, сколько угодно – а то я подумала, папиросы станешь требовать или там сладкое, не дай Бог… Сахарочки мои… Карамельки мои… А поцелуй – пожалуйста, только мне придётся каждый раз тебя разматывать… а потом заматывать. Так и буду разматывать и заматывать…
Моисей: Да, да, буду требовать! А то мы в этом аду совсем очерствеем, совсем озвереем! Мы же звери станем… (В возбуждении/огорчении подпрыгивает, теряет равновесие и валится/скатывается со стола.)
Тотя: Моисей!
Пауза. Тишина.
Муся!.. Где ты? Ты где? Ты упал? Ты закатился? Тебе больно? Я не вижу тебя!
Моисей то ли посмеивается, то ли поскуливает снизу.
Тотя: Моисей, что с тобой? Где ты? (Закашливается.)
Моисей: Да… я подумал, я же катился завёрнутый, я теперь как наша милая мумия в Египетском зале – мумия жреца! Десятый век до нашей эры, сохранность удовлетворительная.
Тотя: Я когда молодая была, к нему приходила и всё повторяла имя – Па-ди-ист… Никак не могла запомнить. Я сначала, когда смотрела на него, всё думала, почему у него так губа закушена, такая усмешка блядская, – мне всё казалось, он надо мной смеётся… И когда Машу арестовали и выпустили… И когда Ираклия арестовали… и выпустили… И когда папу арестовали, и выпустили, и снова арестовали… А теперь он над нами всеми смеётся… Он мумия и мы все… стали… как он… станем… (Неожиданно тяжело замолкает.)
Моисей: Тотя? Ты молчишь? Не молчи! Мне страшно, когда тихо… Ну что ж такое, то молчит она, то бранится она…
Тотя: Па-ди-ист… Их там сейчас так и зовут…
Моисей: Кого зовут? Где? Как?
Тотя: Мне рассказывал один такой, ну, управдом наш… весьма гнусная рожа, надо отметить… гнуснейшая рожа! Вот такую наел! Они их, кого находят, называют – пеленашки, и мумии называют, и вот, знаешь, ещё – вот это совсем замечательно – цветы… называют… и подснежники…
Моисей: Цветы? А почему цветы?
Тотя: Ну их оставляют… у больниц там… в парадных… у фонарей – в цветных тряпочках, одеяльцах, чтобы находить легче… Вот те, которые находят их, называют – цветы… Говорят: цветы собирать…
Моисей: О Господи! А подснежники здесь причём?
Тотя: Да ты лишён воображения… Ну, когда оттепель: из-под снега всё это вылазит, всё видно… Хотя откуда оттепель – с октября снег лежит.
Моисей: Удивительно, Тотя, слова новые, как будто у этой блокады свой язык…
Тотя: И язык свой, и нравы свои, и цены свои, и законы свои…
Моисей: Ну да, и наряды свои!
Моисею наконец удаётся сесть торчком в одеяле, он несколько разматывается/высвобождается, и мы видим, что он завёрнут во всё, что можно было найти: платки, какую-то верхнюю одежду, странный дамский старомодный чепец; на руках муфта – он её внимательно, удивлённо разглядывает…
Моисей: Да… если бы мне кто-нибудь год назад сказал, что рядом со своей Возлюбленной, с Возлюбленной своей я окажусь в чепце и муфте… Я был бы… да я был бы крайне удивлён! Детишкин, слышишь?! Не часто мне доводилось ходить на свидание в муфте и чепчике.
Тотя: Вам вообще не часто приходилось ходить на свидания вообще-то… Моисей, вот откуда у Вас, а вот откуда у Вас эта муфта?
Моисей: Вы ревнуете, Тотя… Меня? В этом даже есть что-то чертовски приятное!
Тотя: Ох нет… Ревную… Нет… Я вспоминаю… откуда я впервые узнала слово «муфта», откуда оно вот у меня в голове взялось. Мама читала нам про Снежную королеву – мне и Маше… Ты помнишь эту книгу?
Моисей: Жёлтую, в переводе Ганзен? О, я даже запах её помню! Книги так вкусно пахнут…
Тотя (декламирует «детским», но грозным голосом): Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:
– Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя! Ты, верно, принцесса?
– Нет! – отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.
Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:
– Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя, – я лучше сама убью тебя!
И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку.
Моисей: Вот и я прячу свои оглобли в эту хорошенькую муфточку… Драную совершенно, кстати… Довольно мерзкую… А почему ты это всё помнишь так хорошо? Почему наизусть?
Тотя: О! Так это была наша любимая с Машей игра! Мы всё время представляли сказки… Ну и конечно… «Снежную королеву»… Наша любимая: всегда так жутко становилось от всей этой красоты мёртвой. Мы разыгрывали – это называлось – живые картины из Андерсена… Tableaux vivants… Все вечера так проводили… Вот я только не знала, кого выбрать, я вот всеми ими хотела быть: и разбойницей, и Гердой, и Снежной королевой. (По очереди пытается их изобразить.) Я их всех понимала, понимаешь? Я как-то думала девочкой, что они все – я, и я – они все… А Маша тогда петь начала… И придумала… И всё пела песню Королевы. (Напевает мелодию, сбивается; Моисей пытается подпевать, очень невпопад.)
Моисей: Да нет, Тотя, ты сейчас именно разбойница и есть!.. Вот ругаешься ты всё время на меня, сердишься, сейчас прямо драться начнёшь…
Тотя (как будто размышляет вслух, говорит сама с собой): Нет, мне тогда казалось всё же… Снежная королева: она плохая или хорошая? Злая или добрая? Она его губит или спасает? (Ледяным голосом изображает Снежную королеву.) Больше я не буду целовать тебя! А не то зацелую до смерти!
Моисей: Тотя, ну целуй меня! Мы ведь здесь на сви-да-нии!.. У нас же свидание с тобой, милая, нету же никого кругом, Тотя. Все эти тени несчастные – они в бомбоубежище сидят…
Тотя: Бедный мой, что ж мы делать будем на свидании таком?
Моисей: Я тебе из дневника читать хочу, я с тобой покурить хочу, я вообще много чего хочу… если ты мне немного поможешь… ну… размотаться…
Тотя: Муся, у нас нет света, но зато есть экзема, цинга и кровавый понос… Ну какое такое свидание?
Моисей: У нас зато есть немного дуранды, жжённого сахара и кофейной гущи… И да ведь и нет никого, Антонина Николаевна моя, мы ж одни наконец! Так хорошо – ни живых нет, ни мёртвых нет!
Тотя: Да разница-то невелика! И, Муся, пожалуйста, не говори таким восторженным тоном… Уже ведь и не всегда ясно, мы-то – в какой категории…
Моисей: Тоня, Вы не правы!
Тотя (в раздражённом недоумении): Кто мы? Да почему ж ты со мною на Вы опять?!.
Моисей: У меня есть Тотя-ты и Тотя-Вы… Ну, когда мне кажется, что ты маленькая, и близкая, и сердитая, то ты – ты, а когда опять огромная и холодная, то ты – Вы…
Тотя: Да всё равно, никакой разницы… уже всё равно…
Моисей: Тоня, ты не права! Мы живы, мы в категории живых, а карточки у нас – вообще рабочей категории! И будем надеяться, что эти сволочи не посмеют нас уволить из-за карточек… Мы сейчас живые… Вот я думаю, разве мы вообще можем умереть?
Тотя: Да ведь все вокруг… Они тоже были живые, тоже так говорили… Ты когда на улице был? Ты видел? Ты их там на снегу видел? Везде!
Моисей: Молчи! Я вижу тебя, я слышу тебя… как ты дышишь… как ходишь! Когда слышу, я знаю – всё только начинается! Это только начало…
Тотя (снижая его пафос): Ну, дышу я, кстати, неважно: вот послушай… насморк этот дурацкий! Вот послушай. (Дышит.)
Моисей: Ты так хорошо дышишь, Тотя… Ты дышишь хорошо – ты дышишь лучше всех! Вот именно – всё только начинается, я знаю!
Тотя: Это раньше мы на кофейной гуще гадали, Муся, а теперь мы её едим… и за честь почитаем! А всё почему? Потому что мы больше ничего не смеем загадывать… Мы вообще не смеем думать о будущем…
Моисей (грозно, упрямо): Всё только начинается – я тебе говорю!
Тотя: Это для тебя всё начинается, а мне тридцать семь… Ты же рядом со мной совсем ребёнок… Мальчик мой… Художник…
Моисей: Я не мальчик – я муж! Вы меня возьмёте в мужья, Тонечка? Чем не пара: он мальчик-художник, она – дамочка-искусствоведша, критикэсса: я буду малевать, а ты будешь меня прославлять, чтобы моё имя не померкло в веках… (Шутливо капризно-умоляющим тоном) Антонина Николаевна, возьмёте меня в мужья?
Тотя: Вы не муж – Вы мальчик! И не задавайте мне дурацких вопросов, иначе я Вас сейчас обратно запеленаю!
Тотя очень медленно принимается заново превращать/укутывать Моисея в «кокон», тихо и хрипло напевая при этом, как-будто укачивая его.
Картина вторая
Рамы. Декабрь
Моисей: Кто там? Кто идёт?
Тотя: Ну и хорошо, что никого нет, Моисей. (Мечтательно, томно) Мы, знаешь, что с тобой сейчас делать будем?
Моисей: М-да?
Тотя: Мы сейчас про Машин суп говорить будем…
Моисей: Но у нас же правило – не говорить про это! Нельзя про Машин суп! Это нельзя, нельзя, детишка моя! От этого тоска делается!
Тотя: М-м-м, фасолевый суп, в нём фасоль плавала и такие жирные рыжие кружочки, я их всё ложкой трогала…
Моисей: Я Вас оштрафую! Мы же договаривались про еду не будем, про потóм будем – я так люблю про потóм, Тотя! Про когда это вот всё кончится… пройдёт…
Тотя: Муся, ты что, не понимаешь – какое потóм? Это никогда не кончится!.. Я каждый день считаю, а это всё не кончается… Вчера сто дней было… Думала по радио скажут, но у них одно на уме – победоносные бои и доблесть защитников. Ссут в глаза – божья роса.
Моисей: Тотя, всё проходит – и это пройдёт. Я наляпаю тебе тысячи славных картинок, и быстрых, и страшных, и красивых, и безобразных… Каких хочешь – и тебе все они будут нравиться… Ну и ты будешь смеяться!
Тотя (насмешливо): Что, прямо все-все будут нравиться?
Моисей: Нет, это я глупость сказал… Вот иногда, иногда… ты будешь на них смотреть своими синими ледяными глазами и будешь говорить таким строгим ледяным голосом! У тебя голос будет так глухо позвякивать… Как сосульки у нас в бомбоубежище… «Вот уж это, Моисей, Вы зря, это, тут… напукали!»
Тотя: Ну, всё равно, что «напукали», – я тебя хвалить буду, хвастаться всем буду тобой! Я гордиться тобой буду.
Моисей: Я знаю, как ты хвалишь… Я помню, как ты мне тогда на первом свидании Пикассо хвалила. «Вы понимаете, Моисей, он, блядь, так корпусно берёт!..»
Тотя: А что ж я должна была говорить – у меня для него, голубушки, и слов других нет!..
Замолкают на полуслове. По темноте мимо них продвигается человек с коптилкой в руках. Видно, как в темноте «идёт» огонёк. Тотя и Моисей наблюдают напряжённо.
«Огонёк» (несколько хрипло-визгливо): Ай! Кто тут?
Моисей и Тотя: Кто тут?
Анна Павловна: Антонина Николаевна, ах! Голубушка, что Вы тут? Почему же Вы не в подвале? Я Вас просто не постигаю! (Оглядывает их и комнату.) Вы же здесь замёрзнете! Там, знаете ли, обстановка поуютнее… поживее…
Тотя: Поживее?!. Так там у вас уже тридцать два человека поживее лежат…
Моисей: Тотинька, не надо, не будем сейчас… Не надо об этом – это тебя расстраивает…
Тотя (упрямым, страшным, безжизненным голосом, на грани истерики): И Соня, и Ольга Петровна, и Колюшка-рыжий, и Колюшка-белый, и кикимора Концевич, и Ираклий… Ираклий…
Моисей: Тотя, не мучай себя! Не надо о них!
Тотя (закашливаясь/смеясь в подступающей истерике): Ираклий мне и говорит:
«Тотя, помните как Вы „Синие яблоки“ Сезанна у окна повесили? Я так на Вас сердился!..»
Вот он сказал «сердился» и замолчал… А вот я сказала: «Вы, Ираклий, – индюк! Там же свет: там цвет от окна, от Невы – синий! Вы разве не чувствуете? Да что Вы вообще в цвете можете чувствовать?.. А он мне: «Да что вы понимаете, дурочка, про движение синего цвета. Вот, видите, течёт и течёт… Ну а здесь, не течёт…» Так и сказал – (протяжно) ду-роч-ка…
Анна Павловна: Ну, знаете ли, дорогая моя, так тоже нельзя! Вы сгущаете краски…
Тотя: Я не сгущаю! Течёт и не течёт… А я у него, значит, дурочка была. Знаете, про меня нянька наша говорила: «Там, где у всех мозги, у нашей Тоньки кот накламши…»
Анна Павловна: Ой, ну что Вы, Антонина Николаевна… А вот Адриан Леонидович наш, вот он – молодец, ой, молодец! Он не падает духом, изобрёл усовершенствованный вид буржуйки! Его – подумайте! – вдохновила голландская печь шестнадцатого века – тема его диссертации, между прочим…
Тотя: Мне иногда кажется – мы погружаемся в прошлое, печи уже топим шестнадцатого века, вот Моисей мой – дневничок всё пишет-пишет, ничего не видит уже, слепой крот совсем, безрукий, а всё корябает при лучине. «Дневник пещерного человека» называется… А Вы-то, Выто нынче в какую пещеру направляетесь, Анна Павловна?
Анна Павловна (несколько смущённо, но и с упрямой гордостью): Ну, туда… Я иду к нему…
Тотя и Моисей (с удивлённой насмешливостью): К Рембрандту опять?
Тотя: Но там же пусто, совсем пусто… Там страшно, Анна Павловна! Зачем Вы одна?
Анна Павловна: Как же вам не совестно, голубчик? Это что же, они здесь все эти столетия прожили и их вдруг не станет из-за эвакуации какой-то? Из-за блокады этой проклятой? Я с ними здесь пятьдесят лет провела, каждая морщинка… Каждая морщинка мне понятна! Как будто из-за войны что-то куда-то девается! Да Бог с Вами: всё остаётся… Всё остаётся – только видеть надо уметь и помнить надо уметь! Я вот, знаете, деточки, всем, кто к нам приходит, сейчас всё равно о них рассказываю!
Моисей (несколько оживляясь): О! А к нам кто-то приходит?
Анна Павловна: Ну да! Вот вчера такой любезный юноша с Балтфлота пришёл про электричество узнавать… Достал из кармана, знаете, макароны… Варёные такие, хорошие… И положил, знаете ли, мне в рот… вот так… (Показывает на Тоте, несколько смущаясь, как именно.) А мне, знаете ли, совсем не по себе уже было… Вот как-то не по себе. Я его за это к Данае отвела и всю её ему показала!
Тотя (закуривая): Всю Данаю – щедрому юноше с Балтфлота?.. Oh la-la!
Моисей: Тотя, прекрати! То есть как – её показали? Она же в эвакуации за Уралом! Её ж Орбели в первую очередь отправил!
Анна Павловна: Ну, показала… рассказала! По памяти. Я же её всю всегда помню… Я же их всех помню… Они же здесь. (Показывает на свои глаза и в темноту.)
Моисей: Почему Данаю? Ну почему именно Данаю?
Анна Павловна: Ну, я подумала, молодому человеку понравится – золотая же она вся такая, тёплая… Сейчас вот все холодные стали, а она – тёплая! Хотя, Вы же знаете, есть работы мне и более созвучные по эмоциональной напряжённости… Вот старички его, старушечки его…
Тотя: Анна Павловна! Putain! Какая эмоциональная напряжённость! Даная – она же… она же жизнь, да, да… Только про неё и надо…
Моисей: А я бы всё же про Блудного сына… ему рассказал!
Тотя: Это почему? Зачем ему?
Моисей: А я всегда радуюсь, ты знаешь, что он вернулся… за них за всех радуюсь… что они встретились наконец – ну и про папу думаю… Ты же знаешь, я всегда думаю, как он там… волнуется. (Громко, протяжно сморкается.)
Из темноты спускаются/проявляются рамы. Они мерцают тускло-тёпло-золотым светом. Каждый из героев оказывается заключён в свою сверкающую раму. Каждый начинает свой монолог «специальным» экскурсоводческим тоном, одновременно экзальтированным и роботоподобным, но потом постепенно превращается в гибрид себя и персонажа Рембрандта, оживает.
Анна Павловна: Эрмитажное собрание картин Рембрандта ван Рейна, великого голландского мастера, – одно из главных сокровищ музея. Оно насчитывает свыше двадцати полотен. Представлены все периоды творчества. Имя человека, изображённого на «Портрете старика в красном», так же как имена многих моделей 1650–1660-х годов, осталось неизвестным. При сохранении индивидуальных особенностей портерти… (запинается, пытаясь выговорить трудное слово) пор-тре-ти-руемые… этих лет объединены одной темой – это размышления о смысле жизни и смерти… (Вот тут она превращается из экскурсовода-робота в себя, как будто просыпается, и продолжает с напором.) Рембрандта привлекают лица немолодые… Старики и старушки Рембрандта! Что они знают? Чего ждут? О чём думают? Лицо старика, всё его лицо покрыто морщинами – морщинами усталости, покоя, знания, успокоения… Он очень устал. Да, да… Я очень устала. Да, он очень устал. Из темноты, из бордового, из кровавого высвечивется его лицо… Его руки – они сжаты. Они сжаты вот так. Старые руки, знающие всё! Он ничего больше не боится. Он боится всё больше! (Жалобно) Он же ещё ничего не успел, он только начинает понимать, он только начинает видеть… И всё это – страх и надежда – в выражении его рук, такие удивительные руки!..
Моисей: Вот именно, такие удивительные руки… Руки старца, руки отца на спине сына! Тотя! Анна Павловна! Посмотрите же сюда… (Анна Павловна жестами показывает ему, что нужно быть серьёзнее, и он, приосаниваясь, продолжает.) «Возвращение блудного сына» – вершина творчества Рембрандта! Перед нами знаменитый сюжет из Библии: в рубище изображён блудный сын, обошедший землю в поисках счастья, славы, подвига, богатства, наслаждений, но растративший себя попусту… Я бы даже сказал: потерявший себя… С трепещущей от пережитых страданий и унижения спиной он стоит на коленях перед отцом. Спина его выражает стыд и горечь, но лицо отца спокойно, смягчено состраданием! Его старые руки, его пальцы трепещут от счастья – ещё раз обнять сына, трогать его, вдыхать его запах, прижаться к нему. Работа прощения ему не трудна. Они прислоняются друг к другу в надежде на завтра… В ожидании… что у них будет завтра…
Тотя: Царевна Даная: она вся – ожидание! В самой композиции картины – в расположении складок тяжелого полога, в таких деталях, как столик у изголовья кровати или нарядные туфли, сброшенные с ног, – есть нечто, ассоциирующееся с приёмами голландских жанристов. У Рембрандта все эти детали приобретают особую значительность… значительность… (Что я несу… какую значительность… чьи это слова?) Царевна Даная волнуется… Кончики её пальцев… дрожат. (Смотрит на свои руки, на Моисея.) Отчего дрожат они? От страха? От желания? От радости встречи с любимым? Встречи с будущим? Сияющее лицо царевны погружено в свет, обращено к свету: Даная сопротивляется тьме заключения. Она хочет вырваться из тьмы. Её огромное золотое тело развёрнуто к окну в предвкушении своей судьбы. Она тёплая и ей тепло! А мне холодно, Моисей! Что это, ну какое это всё к нам имеет отношение? (Выходит из рамы, как будто вырывается из мечты-морока.)
Анна Павловна: Они ко всем имеют отношение, милочка! И всегда… всегда так будет… и потом: так важно знать, что кто-то будет в этом потом! (Достаёт носовой платок-тряпку, долго сморкается.) Но вот знаете, мы с тут с Соней, с Софьей Евгеньевной, грешным делом стали похаживать к натюрмортам… Встанем и думаем… Вот так стоим и на них смотрим… И как-то горько это, и стыдно, но, знаете, и хорошо… и отвлечёшься иногда… грешным делом… Вот Рубенс, знаете ли, очень сейчас мне хорош бывает – все эти туши, сыры, фрукты… да, и сыры… и сахар… сахарочек… хлебушек…
Тотя: Ну да, а Ираклий-то наш, он даже стишки стал писать – про съедобный Эрмитаж… Поест так дуранды, попьёт кипятку и начинает подвывать… натюрморты описывать, значит…
Моисей: Ага, моё любимое было вот это… (Вспоминает. Высвобождает руку из своих тряпочек и жестикулируя, читает.)
Снейдерс
Багровый окорок румяно блещет,
Бараньих туш лоснится нежный жир,
Сверкает, искрится, дрожит, трепещет
Морских чудовищ первозданный мир.
Гомер всех лакомок, жратвы Шекспир —
Кто лучше понял цену «мёртвой вещи»?
Радушный Снейдерс всех призвал на пир,
И каждый голод ощущает резче,
Увидев и янтарный виноград,
И алчный персик, и орех зелёный,
«Sfumato» слив и золото лимона.
Но, милый Снейдерс, свой насытив взгляд,
В душе я б предпочёл (о, жалкий нищий!),
Чтоб стал твой натюрморт в желудке пищей.
(Грустно смеётся.) Такая, знаете ли, печальная ирония, детишкин! Великий Снейдерс и этот проклятый, жалкий, унизительный голод…
Тотя: Муся, не надо об этом, нельзя об этом! И хватит уже поминать беднягу Ираклия и все его восторги – он со своим всем золотом лимонов сколько дней внизу прохлаждается?.. Мы же договорились – о еде нельзя! Ох, Анна Павловна, зачем Вы это затеяли? Зачем мы всё это придумываем? Что это за игры? Зачем все эти красоты расписывать? Это же всё ложь, к ебене матери! Какое sfumato?!. Мы же дистрофы, вот об этом и станем говорить – без обиняков… Вот я так… такое… вам лучше почитаю… (Читает страшным голосом, то в лицо Анне Павловне, то Моисею, то обращаясь к залу.)
Ры-ры
Я дурак, я дерьмо, я калека,
Я убью за колбасу человека.
Но пустите нас, пожалуйста, в двери,
Мы давно уже скребемся как звери.
Я ж страдаю, палачи,
Недержанием мочи!
Анна Павловна: Не надо! Я не хочу так! Не смейте в моём присутствии! Не сметь!
Тотя (орёт, рычит на неё): Ры! Ры! Уж как есть, так и есть! Уж как есть, дражайшая, так и есть… (Плачет.)
Анна Павловна роняет лучинку – свет гаснет, они остаются во тьме.
Картина третья
С Наступающим!
Моисей: Тотя! (Откашливается. Придумывает вслух поздравление… Прислушивается к выбору слов – правильный ли тон.) Моя милая… Моя дорогая… Моя дражайшая… Антонина Николаевна! Тотька! Кошка моя! Поздравляю тебя с наступающим… Нет… Поздравляю нас с наступающим Новым годом! Желаю нам, чтобы 1942 год был совсем другой: веселый и нормальный. Я желаю нам дожить до другого времени… нового времени… Когда можно будет жить хорошо, (подчёркивает голосом) нормально… Я желаю тебе сохранить…
Тотя: (Входит. Во всём её движении усилие, она в снегу.) Ох. И выходить совсем невмочь стало, и сюда подниматься невмочь стало. Ни-че-го не хо-чу.
Моисей: Дражайшая…
Тотя: Ну не надо – опять словеса, Мотя, словеса!
Моисей: Это не словеса! Это Новый год… Мы же договорились праздновать!
Тотя: Да уж я знаю… Я из-за этого твоего Нового года несчастного сейчас четыре часа ходила – домой за подарками… Вот, принесла. (Долго роется в своём многослойном одеянии и наконец достаёт свёрточек.)
Моисей: Кого же ты сюда нам принесла?
Тотя: Не сразу… Не всё сразу… Помнишь, на Новый год всегда самое главное – ожидание.
Моисей: Ожидание! И устал совсем, и спать охота – и волнуешься… (Он возбуждён воспоминаниями.)
Тотя: А может быть, Мусенька, пойдём вниз всё же, в бомбоубежище? Там, знаешь, всё же… Люди, как-то… Там теплее. И светлее. И жрать, может, чего дадут. В честь праздничка?
Моисей: Но мы же хотели – с тобой. Чтобы вдвоём. Чтобы вместе. Чтобы никого. Они там сейчас бодрые речи во славу оружия – я этого, знаешь, уже не могу.
Тотя: Да уж, лучше без славы оружия. Хорошо, миленький, давай я тебе покажу, что я тебе тут… принесла. (Достаёт из каких-то очень внутренних карманов свёрточек, трудно, долго разворачивает – из него сыплется серебряная труха, пыль.) А!
Моисей: Что?..
Тотя: Разбился! Он погиб!
Моисей: Кто же это был?
Тотя (плачущим голосом): Это был наш снегирь… Тот самый снегирь…
Моисей: Ну что ты, девочка моя, из-за снегиря стеклянного…
Тотя (в отчаянии): Но это же был папин снегирь! Я так помню, как мы всегда вместе его на ёлку сажали. Это же был кусочек того времени, той радости! У меня же ничего не осталось, считай, от той радости… Папы нет, снегиря нет… А я вот, дура несчастная, поскользнулась на набережной…
Моисей: Маленькая, ты ушиблась? А что же делать?!. Не плачь… (Неловко обнимает и укачивает, успокаивает Тотю, пытается как будто убаюкать её своими словами.) Но ты знаешь, мне тут рассказывал один знакомый – очень странное. Почти невозможно поверить. Он мне рассказывал, что вот недавно ходил купить в магазин елочные игрушки! Представляешь… (Тотя продолжает всхлипывать и дрожать.) Он мне говорит – осталось одно вздорное стремление… Вот очень его такие слова «вздорное стремление» – достать елочных игрушек. У него в семье – ну как у тебя, Тотичка, – привыкли устраивать блестящую цветную елку, а теперь игрушки связывались с воспоминаниями и надеждами, перекидывали мост. И всё-таки в декабре они с женой однажды, взявшись под руки, добрели до этого магазина и купили несколько игрушек – самовар с чайником и ещё что-то. Магазин был полутемный, освещенный коптилкой. Когда от игрушек они вышли в черноту, их чуть не убил холод и безнадежная, ясно представлявшаяся зима. А может, там, Тотя, и снегиря можно купить?
Тотя (отвлекается от горя по снегирю): Господи, кто же их сейчас продаёт, эти игрушки? Зачем? Кому? В мёртвом городе?
Моисей: Ну вот ему, тому, кто ещё помнит радость…
Тотя: А мы теперь без подарка.
Моисей: У меня для тебя есть… (Уходит к столу, долго мычит, возится, копается, извлекает.) Вот! Миленькая!
Тотя (с недоверием) Это что? Это пластинка?
Моисей (с преувеличенным воодушевлением): Да!
Тотя: Но у нас же нет граммофона…
Моисей: Ах, ну… эта мысль приходила мне в голову… Но знаешь…
Тотя: Что?
Моисей: Мы можем её вспоминать! Эту нашу музыку. Вот давай так… вот так сядем и будем вспоминать. (Он приподнимает Тотю, усаживает её на стол и торжественно садится рядом.)
Сначала мучительная тишина, потому что музыки, естественно, нет. Потом вдруг постепенно начинает звучать их суровый вальс.
Тотя: Да… Это хорошо. Я всё помню. Я всё теперь помню…
Моисей (перекрикивая вальс): Дорогие товарищи! (Пародируя радиоголос) Дражайшая Тоня! Я желаю нам в Новом году, чтобы было теплее, светлее, чтобы было нормально.
Я желаю нам выжить, чтобы у нас были мы и чтобы у нас была жизнь.
Тотя: Да, чтобы у нас была жизнь… Ещё немного жизни.
Моисей: Тотя, ты – жизнь моя. Ты – жизнь моя.
Звуки музыки всё же оказываются громче голоса.
Картина четвертая
Дневник пещерного человека
Ощупью. Январь
На экране в глубине сцены появляются и исчезают (тают) записи из дневника Моисея; кто-то пишет, но как будто вслепую, буквы и слова наползают друг на друга.