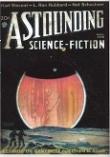Текст книги "Живые картины (сборник)"
Автор книги: Полина Барскова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Сестрорецк, Комарово
Остапу
1985
«Самое тебе время писать путешествие», – засмеялся мой собеседник и пошевелил несусветно длинными пальцами. Я с трудом сосредоточилась на его словах, зачарованная этим движением, как всегда отвлечённая формой от содержания.
Мой друг японец, меланхоличный и прихотливый пониматель русской поэзии, был красив, поэтому зачастую лучшая часть его слов пролетала мимо меня, рассеиваемая утренним тревожным светом, который и издаёт эта самая настоящая красота: хочется зажмуриться, хочется отвернуться.
«А, – сказала я, – путешествие… Ага, хаха, презренная не-путёвая п(р)оза поэта».
«Да нет, – сказал собеседник, усмехаясь, – железнодорожная проза, голубушка проза, вся пущенная в длину. Проза сродни времени, его кажется слишком много, оно везде – сколько у тебя времени, столько у тебя прозы: не то стих, который вырывается-взрывается, а что ж нам потом делать? Акт – эрекция – эякуляция (неотразимые монстры из медицинской энциклопедии), – вот тебе твои занятные полчаса, а потом что делать? А потом проза-матушка».
Какое же из путешествий мы выберем для заполнения неловкого ландшафта времени, открывающегося глазу после сладкой контузии?
Пожалуй – это.
Нет, сначала о другом – не о путешествии, а о местонахождении, заключении своего рода.
Мой папа недомогал.
Иногда его лицо принимало слегка фиолетовый, да чего уж, синюшный оттенок, рот криво сжимался, и слова уже окончательно переставали вырываться оттуда. Это значило, что пришло время нам снова отправляться в санаторий.
В тот год нам выпало принимать ванны в городе Сестрорецк на восточном берегу мелководной (глубина 2,5–3,5 м лишь в 200 м от берега) Сестрорецкой бухты Финского залива Балтийского моря. Вдоль побережья – покрытая лесом гряда дюн и холмов, которая прерывается долинами рек и небольшими озёрами, прудами и участками обнажённой морены. Песчаный («золотой») пляж шириной до 50 м. Вблизи курорта – озеро Разлив, созданное при сооружении плотины на реке. По данным Всероссийской переписи населения 1989 года, в Сестрорецке проживало 35 498 человек. Из них подавляющее большинство обслуживало санаторий или стояло у станционного пивного ларька, ёжась от балтийского ветра, или и то и другое, посменно.
Почему Сестрорецк? Каждый раз, когда папа наливался своей фиолетовизной, мама раздобывала в таинственно-щедром заведении «профилакторий» путёвки на двоих и, не задумываясь, без жалости замещала в этой формуле себя мной – пухлым, переполненным угрюмых жизненных сил подростком. Выбора никому не предлагалось. Из всех прописываемых процедур (минеральные и устрашающие грязевые ванны, будто похоронили заживо, душ Шарко, проплывание в едва тёплом бассейне мимо подобных медузам старух) мучительнее всего давалось поддерживание папиного молчания.
Иногда всё же физическое напряжение от этого упражнения становилось невыносимым, но возможности передышки были ограничены: библиотека с собраниями сочинений советских классиков (чванные девственницы) и чтиво (потасканные подусталые гостеприимные потаскушки), залив с противотанковыми надолбами льдин и узкой полосой мёртвого ещё песка, консистенцией напоминающего асфальт. Сквозь лёд прорывался запах скрытого моря: ноздри мои были напряжены как у гончей, чья добыча была вот-вот, рядом. Мы с ним стояли рядом и смотрели, как в четыре часа дня в ледяное красное море падает красное ледяное солнце. Уже в финале зрелища он всегда говорил: «Смотреть на солнце вредно – ослепнешь». Лаконичный дидактик, он врезал в моё сердце свои афоризмы: «Девушка должна быть либо стройной, либо веселой – выбирай, что тебе по силам» (да ничего мне не по силам, сокрушалась я); «Если от девушки несёт лисёнком, она должна особенно тщательно следить за своей гигиеной» (и правда, от меня несло чужим ему диким зверем, и уследить за этим было не просто).
Ещё, конечно, были походы в столовую, единственный локус наших диалогов, – казавшееся бурным, по сравнению с прочим, обсуждение меню, в котором ежедневно указывалось по три возможных лакомства, – папа осторожно (он всё от боли делал с осторожностью) приподнимал соболиную бровь и выговаривал: ну что же, Полина, морковные котлеты, или гуляш, или рисовая каша?
После трапезы мы шли гулять. Он редко тогда оставлял меня одну, чувствуя, вероятно, известную ответственность – как часовой перед заключённым, – и мы делили на двоих ощущение теплеющего местами холода и ржавчины повсюду. Хвоя, перильца, открытый и ни для чего человеческого не пригодный бассейн.
По воскресеньям в санаторий приезжали актёры. Это были самые жалкие из существующих в ареале ленинградской области актёры, которых профнепригодность и удары судьбы выгнали за пределы удачи и амбиции.
В субботу рядом с меню вывешивали афишку: «Лучшие в мире актеры на любой вкус, как то: для трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагикомико– и историко-пасторальных и для сцен в промежуточном и непредвиденном роде. Важность Сенеки, легкость Плавта для них не диво. В чтении наизусть и экспромтом это люди единственные».
Рыхлая, рассеянная женщина, с крашенными в морковный цвет волосами и в горящем блёстками кримпленовом платье, с придыханием выдыхала отрывки, допустим, из Берггольц или, допустим, Пановой, а язвенники и гастритники вздыхали и вздрагивали от неловкости и скуки. Возбуждённая встречей с прекрасным, я возвращалась в комнатку. Папа лежал, повернувшись лицом к стене, и скучно, равномерно стонал от боли.
Его, как спартанский вонючий лисёнок, ела изнутри язва двенадцатиперстной кишки; мне она все те годы представлялась каким-то жутким злобным маленьким божеством, безжалостной ловкой тварью о двенадцати перстах.
Я закрывала голову подушкой и повторяла какие-нибудь бессмысленно повторяющие, отражающие друг друга случайные слова.
1991. (За год до его смерти)
На сей раз фокусник-профилакторий забросил нас с ним в край сосново-дюнный, ассоциирующийся у широких читающих масс с медленными прогулками по зимней заре тяжёлой женщины с тучным голосом как будто на тебя опустили колокол или в магнитофоне плёнку зажевало («профессор Barskova, а это вообще мужчина или женщина читает?»). Это женщина читает.
Мне было уже пятнадцать лет – возраст осмысленного протеста; мой осмысленный протест выражался в том, что я защищалась от молчания отца сидением на выстроившихся вдоль аллеек санатория качелях с очередным томом Дюма-пэра. Дюма был выбран неспроста – в том собрании сочинений (полагаю, досадно неполном) было пятьдесят томов. Со мной покачивались Миледи с кровотачащими плечиком и обрубком шеи, взбалмошная дурочка иркутских снегов Полина Гебль и шмыгающая над свёрточком с головой своего возлюбленного слабая на передок Маргарита Наваррская – все они казались мне, покрытой позором всех примет полового перезревания, убедительными моделями для подражания.
И самый дорогой, понятный из всех – Граф Монте-Кристо. Тут папа обьявил, что ему нужно в город на кафедру и что он оставляет меня на день одну. Так во мне и возникло решение последовать за своим графом – на свободу: выпрыгнуть из заточения в страшном холщовом мешке, то есть отправиться прямиком на Комаровское кладбище. Зачем так морбидно? – спросит раздражённый читатель.
Ruinlust? Тени великих? Что-то вроде. Дело в том, что я решила подыскать там себе нового отца, отца получче. Ну хотя бы тень нового отца.
Никакой мистики – только прагматика (в конце концов, вам рассказывает истории человек, решивший после смерти ненаглядного креститься исключительно с целью бюрократических последствий: вот наступает Судный день, прикинула я, и меня не пускает к нему плечистый мрачный привратник, не пускает сказать, что я всё же нашла в себе силы жить и любить после всего, что ты учудил, друг любезный, только из-за отсуствия крестика? Да пожалуйста! Но это другая история).
А в истории этой я (камера ныряет назад и там замерзает) уныло перебираю на родительских пыльных полках угрюмые тома Библиотеки Всемирной Литературы, за ними начинается смешанный лесок всякой всячины, и вот, в томике переводов легендарного китайца-выпивохи я обнаруживаю две любопытные меты: инскрипт излишне приватного, сентиментального содержания и фотографию переводчика. Совмещение этих двух знаков судьбы не оставило во мне никаких сомнений: неведомый пылкий синолог и мог быть назначен тем самым срочно искомым отцом.
Какие могут быть сомнения? Я отправилась к зеркалу и провела срочную экспертизу – всё сходилось: высокий лоб, благородный точёный нос, лёгкие насмешливые уста, прохладные насмешливые глаза. Я надувалась гордостью узнавания и ожидания, как Пеппи Длинныйчулок: оттуда, я думаю, и бралась её богатырская сила. Всё ясно! Вот откуда во мне эти сдержанность, вальяжность, прохладные пути и манера баловня судьбы.
Весь этот комок тепловатого бреда бился и жил во мне с тех самых пор, и, когда молчание папы достигало уже температуры заполярной, я глядела на него, улыбаясь, и думала: ничего-ничего, а вот он, другой, он бы уж не смолчал, мы бы читали с ним друг другу вслух про Монте Кристо… и всякое.
Так что отлучка молчащего была ею воспринята как наказ судьбы, отправляйся, мол, в путь, на Комаровское кладбище, там (она навела свои жалкие справки прикормыша ленинградской словесности), там рядом с могилой своей яркой матери (у меня, может, и бабушка есть – в смысле была? – «лицо неопределённого выражения чуть выдвинутый вперёд подбородок волосы огорчают она красит их в красный цвет что придает ей вид осенний а заодно искусственный любит она играть в преферанс чуть не довела себя этим до второго инфаркта но вот происходит чудо – она принимается за работу – и тут происходит чудо») – там спит и он.
До кладбища от санатория было часа два бодрым шагом. Её шаг никогда не был бодрым. Путь шёл через станцию, потом вдоль озера, она перешла рельсы, чуть не упала, горячо пахло дёгтем и машинным маслом. От станции к кладбищу тянулся мелеющий ручеёк зевак и легитимных скорбных родственников.
Сколь увлечённо переходила от плиты к кресту и от звёздочки к булыжнику. Под камнями сими покоились советские и антисоветские знаменитости, которым врач прописал бодрые балтийские ветры и мелкий песок дюн, режущий глаза.
И вот наконец – он. Рядом со своей мамой. Фрондёр и ленивец рядом с упрямой труженицей-пчёлкой, которой иногда удавалось выжжужжать из себя прозу абсолютной горестной чистоты. Вдвоём эти знаменитые мать и сын могли бы считаться идеальной пьетой, аллегорией ленинградской литературы: недовыраженной, недопрочитанной, изъевшей себя компромиссами, в конце концов – неотразимой. У меня с собой были припасённые в дорогу останки санаторного завтрака – сырник и яблоко. Я села на землю рядом с надгробием, на припёк. Принялась полдничать. Ощущение, что пришёл, добрался. Что тебя дождались – без тебя не садились за стол, посматривали в окно и на часы.
Что я, собственно, собиралась делать с этим новым знакомством, с заново приобретённым отцом? Об этом я не особо думала тогда. Так в момент завязи новой страсти не думаешь о преградах, рутине, жалких словах прощания, ни о какой невозможности, но весь плавишься в лучах узнавания и предчувствия близости: как же всё это будет на этот раз? К какой части тела прикоснутся сначала руки, губы, жизнь твоего другого? Мне просто нравилось изобретённое дурного тона чувство, что теперь я была не одна на свете, что спящие за оградкой красавец и красавица, если бы только расколдовались под магическим воздействием крошек моего сырника, пожалели бы меня и, может даже, принюхавшись, приняли бы за свою.
Развязка
Стоит ли говорить, ты ведь догадлив, мой читатель, что комаровский статный остроумец не имел ко мне, а значит и к тебе, прямого отношения. Скорее – косвенное. Ничего эта загородная прогулка тогда не разрешила.
Березовый сок в огромной мутной банке – папа всегда приносил его мне в свой день рожденья, пятого мая, в авоське, так начиналась весна.
Что же там было такое мутное – сок или стекло? Ничего не разобрать.
После его смерти я нашла в ящике его стола огромную пачку моих стихов, переписанных им от руки идеальным, брезгливым почерком – при жизни о них меж нами не было сказано ни слова.
Как последний признак этой жизни, из его трубки вышел таракан и отправился в свой путь.
Дона Флор и её бабушка
Сорок лет назад, на открытие колледжа, куда меня нынче занесла судьбина, приехала старенькая Анаис Нин. Процедура имела место в чистом поле: маленькая анаис вышла в это чистое поле и распахнула своё манто, и вся собравшаяся братия умников и знаменитостей увидела её знаменитое маленькое тёмное предсмертное тело.
Был май месяц, и это тельце приятно потрогал ветер.
Анаис-анаис, твоим дневникам я обязана завистью (почему ей можно, а мне нельзя?) говорить о том, о чём нельзя говорить, – а о чём же ещё тогда говорить?
Это было чуднóе лето.
Ты погиб, а потом тебя отпевали в Преображенском соборе, и я стояла над твоим открытым гробом, и плакала, и думала, как же всё это должно выглядеть со стороны. Слёзы приносили облегчение, но и размывали хоть какой-никакой слой принадлежности к живым: образовывалась грязевая воронка, сель, куда меня затягивало всё крепче с каждым моим театральным, хорошо темперированным всхлипом.
Однако я решила не сдаваться и придать происходящему чёткие формы. Каждый вечер в час назначенный я ездила на Невский, где красная башня Думы, и становилась стоять-курить напротив одного места.
Мне казалось, что железная регулярность этого стояния способна если не отменить, то как-то изменить тот факт, что ты вышел переходить дорогу один и то ли задумался, то ли оступился, и я никогда ничего не узнаю о тех треске, боли и удивлении, которыми закончилось твоё сознание. Это было лёгкое и торопливое сознание восхищённого фокусника от литературы, ничто и никого не впускавшее в себя глубоко и надолго, но ненадолго всецело предававшееся новому предмету изучения. Затем – его предававшее. Но тогда вдруг, в неловкой перемене амплуа, предателем оказалась я, так как ты сошёл со сцены. В заботливом свете всё слабеющих белых ночей я рассматривала выбоинку на асфальте, ботинки прохожих, подстёршиеся полоски пешеходного перехода в надежде, что возникнет способ ослабить это вот – как будто мне слева поднесли острое и нельзя дышать. На другой стороне проспекта загоралась вывеска – название магазина с тиком в одну дёргающуюся букву, и тем я забавлялась часа по три ежевечерне.
Смеркалось, я возвращалась домой, ковыряла корявым ключом в корявом замке, ложилась лицом к бурой диванной обивке. Ни мама, ни кот не решались заходить ко мне в комнату. У них случился кризис аргументации.
После месяца моей вахты всё же мама спохватилась, что надо что-то делать – то есть приставить стражу к страждущему стражнику.
Меня было решено отправить на сохранение к бабушке – в Сибирь.
Похожая на чайный гриб бабушка проживала в некотором сибирском городе в нервном паутинноподобном союзе с двумя дочерьми и их семействами.
Мама посчитала, что этой гвардии должно хватить для слежения, чтобы я чего не наделала. Она не могла знать, что я была тогда совершенно вне действия.
Вся жизнь ушла из и от меня (а ведь в меня положено очень много жизни!), и, помимо того пешеходного перехода через Невский, мне тогда было идеально всё равно, где быть на земле либо куда направляться (а ведь ещё недавно чувства места и направления были самыми развитыми из моих чувств!).
Следующий всплывающий островок воспоминаний (полагаю, память устроена, как суп, в котором двигаешь ложкой, как веслом, и всплывают неожиданные вещи в неожиданной очерёдности). Тётушка, бешеная навсегда красавица с сапфировыми (так сказал бы Бунин – вот он сидит долгой унылой ночью с кхекающим Чеховым, придумывает слова; Книппер жёстко смотрит в зеркало на свой безупречный маленький лоб, улыбается, выходит) – именно сапфировыми глазами на очень смуглом, всегда пахнущем мёдом и полынью лице, увезла меня в лес и к воде. Моя тётка научила меня многому: отличать зимородка, собирать костянику, потом выдавливать её в марлечке и эту кровку проливать на взбитые сливки утром. Пока ещё ничего не случилось на свете, и твоя кошка Люська ещё спит у тебя на подушке с торчащей изо рта лягушачьей ногой.
Тётка научила меня нестись по холмам, как зловещая охота за улепётывающим семейством белых грибов или идти по сосновым просекам, вырезая поселения маслят – «вот так вот так сожми здесь».
Это у неё я унаследовала этот азарт и хищную радость, которую ты испытываешь при запахе сибирского леса, когда всё здесь твоё и ты сам – всего этого, всему этому отдан и служишь. Детское имя Лёля пристало ей, и казалось мне приветом от такого одного любителя слов и звуков, который тоже лежал в куцей кроватке во тьме, вспоминая грибы, и мох, и мокрую жёсткую траву.
Лёжа в куцей кроватке во тьме, я слушала застенный разговор тёти с мужем:
«Кто же её замуж возьмёт? Так она никогда не выйдет замуж… Она же совсем ничего не умеет! Она ничего про это не знает – ну что такое семья». Чтобы не помешать этой беседе жидкими рыданиями, я встала и направилась к воде – к Обскому водохранилищу. Я сидела на пирсе и прислушивалась, как проплывают – никогда уже не в силах опуститься на дно – глистатые лещи. Вот и я, думала я, такой теперь глистатый лещ, выкинутый из жизненной гущи и тьмы на бессмысленную поверхность.
По выходным меня отвозили к бабушке в город.
Бабушка пекла очень маленькие и очень жирненькие пирожки с капустой, которые всё семейство ело, почтительно постанывая. Затем мы переходили к официальной части нашего визита. Ею (этой частью) была я.
Понимаешь, сказала Лёля, мы решили ей не говорить, ну, что он погиб, у неё же давление.
А что вы ей сказали?
Ну, что он тебя бросил и что ты вот расстраиваешься.
По выходным бабушка преподавала мне науку любви, то есть объясняла, как сделать так, чтобы ты вернулся и уж тут-то точно любил бы меня всегда. Уроки проходили в обязательном присутствии одного из домочадцев – если не самой Лёли, то кого-нибудь из её отпрысков, насмешников с рысьими глазами, или её старшей сестры, совсем другой и очень грустной Беллы. Домочадцы выставлялись на дежурство, чтобы я не дала слабину, но зря они во мне сомневались вообще-то. Разговоры с бабушкой о секретах власти над лёгким мужским сердцем успокаивали, убаюкивали меня гораздо лучше, чем когда мой двоюродный брат Антон сидел потом и гладил меня по голове, так ему было жалко и стыдно моего несчастья.
К тому же бабушка явно знала, о чём говорила: когда в кузбасский мёртвый послевоенный шахтерский городок приехал спец-вдовец-молодец, именно ей – старшей его на десять лет с трудным характером обладательнице четырех разномастных голодных детей – он и достался на всю долгую счастливую жизнь. Смерти Игоря Михайловича бабушка не перенесла и впала в жалкое безволие, пока ей не подвернулась я с очевидными пробелами в области семейного счастья, требующими заполнения. Воскресенье за воскресеньем бабушка объясняла мне, как надо готовить, стирать, убирать, одеваться, душиться, причёсываться, чтобы тебя, не дай Бог, не бросили.
Духи должны быть немного горькие, начинка у пирога с капустой – лёгкая, муж не должен догадываться, что и когда у тебя бывают месячные, – поразившая меня подробность идеальных отношений, слившаяся с тётушкиной страшной поговоркой «мужу-псу не показывай жопу всю». Тётушка, дочь бабушки, явно тоже впитала её важные уроки.
Потом мы снова ехали в лес и к воде, и я там бродила уже не девятилетняя измазанная в костянике и чёрной грибной слизи, а какая-то огромная девятнадцатилетняя бестолковая птица или рыба – то ложилась на мох, то садилась на камень и всё закрывала глаза и думала о тебе.
Как человек с нетривиально устроенной, капризной, но сильной волей, я всё старалась внутри себя превратить 2D в 3D, на мгновение увидеть тебя движущимся навстречу мне в наушниках (в них почему-то всегда – Битлз) по этому самому треклятому Невскому – на нём всё началось и всё закончилось. Так вот я говорю вам: это невозможно, в том смысле, что мне это не удалось.
Тебя больше не было вообще нигде, и как бы мощно я ни пыталась представлять себе твоё лицо и беспомощно кривящийся в конце акта рот, лаская себя жалостливой ловкой рукой, как бы я ни пыталась воссоздать, тон за тоном, твой мяукающий голос, – ничего больше у меня, мне не было. Я осталась одна.
Некоторое напряжение и колебание – от скачков, от надежды («нет уж, после ватрушки с брусникой, Полина, никто не устоит!») до пустоты вод и обратно – дало о себе знать. Я заболела странной болезнью, которую старшая двоюродная сестра-врач диагностировала как «возможно, холера». Лёля стала вся сапфировая, как её глаза, облокотилась на стену и сказала: «Что же я Нонночке скажу?» Зато старшая, грустная Белла, безапелляционно произнесла: «Будем давать кровохлёбку».
Кровохлёбка – это такая волшебная травка (помните – Гауф, Карлик Нос, премудрая гусыня?), на которую надеются, когда уже не надеются. Её название соответствует интенсивности её воздействия, избавлю вас от подробностей, я ж не маркиз де Сад. Мы пошли за кровохлёбкой на рынок – меня рвало, и качало, и кружило. Лёля, побоявшаяся опять же оставить меня дома одну, крепко поддерживала меня за руку. Был очень яркий и солнечный день, над рынком плыл Джо Дассен и уверял, что если бы тебя не было, всё бы буквально тут и закончилось. Как же! Рынок кипел и булькал, и в чанах плыли свиные зубастые головы – плыли и улыбались в своём зачарованном сне. Лёля купила персиков и надкусила свой белыми как сахар маленькими кошачьми зубками: надо быть сильной, дорогая, улыбнулась мне она.
Вот, самое главное забыла сказать, она – художница, в ветровку мы собирали жёсткие, вонючие горьким и кислым, страшноватые сибирские цветы, и она писала их – всегда похожими на себя, чуть взлохмаченными, чуть невпопад отбрасывающими тень, слишком яркими. Она оказалась права: я так никогда и не вышла замуж, потому что я ничего не умею, только радоваться и ужасаться бессмысленной красоте вещей (вечеру, ветру, караваджевскому усталому лицу человека, очень тихо спящего рядом со мной).