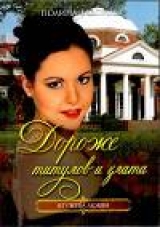
Текст книги "Дороже титулов и злата"
Автор книги: Полина Федорова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
15
– Вы помните, где стоит их палатка? Сможете найти? – спросил Тауберг, выслушав рассказ Голицына о том, как получилось, что он слышал разговор двух англичан.
– Думаю, да, – ответил князь. – Надо с берега подняться в гору. Там еще тропинка есть.
– Хорошо.
Иван поднялся с кресел, подошел к окну.
– Ночь звездная, лунная. Обойдемся без фонарей. Чтобы не спугнуть их и не раскрыть себя.
Он немного помолчал, обернулся к Голицыну.
– А как получилось так, что вы стали Марципановым? Да еще Мечиславом Феллициановичем?
Антоан задумался. Что ему на это ответить? С чего начать? С пашпорта, который ему против воли навязал его братец, обер-прокурор Синода? Или с заведения мадам Жомини? А может, с их дуэли? Нет, пожалуй, рассказ свой следует начать с того момента, когда он познакомился с девицей Татищевой. Она была уже почти обручена, когда на ее горизонте появился он, Антоан Голицын. Как, эдакая красавица и умница вот-вот будет принадлежать другому, вовсе не ему? Так быть не должно, а стало быть, и не бывать сему! И он расстроил все дело и женился-таки на ней назло всему свету. А потом, несколькими годами позже, поставил на куш, желая отыграться в штосс. И проиграл… Нет, свой рассказ, как он стал Марципановым, следует начинать с более ранних событий в его жизни, когда… Черт побери, что это? Голицын провел по щеке. Щеки пылали. Он потрогал уши, так, как бы в раздумье – уши горели огнем. Ему стыдно? Да, ему было стыдно…
– Это слишком долгая история, подполковник, – медленно произнес князь, рассматривая узоры ковра на полу. – Может, нам пора?
Иван отвел взгляд от Антоана, приняв краску стыда на его лице за смущение и тем немало удивленный. Неужели, этот человек умеет смущаться? Но ведь это нонсенс! Что-то с ним, верно, произошло за это время. А впрочем, не его это дело…
– Да, вы правы, – отошел подполковник от окна. – Идемте.
Теперь он шел за князем, время от времени поглядывая на его прямую породистую спину. Тропинка была узкая и еле видимая в ночи, вокруг чернели кусты и деревья, так что спина князя была единственным ориентиром. А ведь еще совсем недавно они были готовы без сожаления выстрелить друг в друга. Впрочем, более занимала Тауберга иная мысль: справятся ли они вдвоем с тем, что задумано. Будь иной случай, он пошел бы в полицейскую управу, и сей час вся Соколова гора была бы оцеплена полицейскими так, что не проскочит и мышь. Но он был строжайше и высочайше предупрежден, что привлекать к порученному ему заданию никого не можно, уж больно компрометажными, а стало быть, и опасными для державного дома были бумаги, которые надлежало изъять. Ибо даже информация о том, что такие бумаги существуют, не говоря уж об их содержании, могла бы навредить империи так, что последствия трудно даже предсказать. На этой мысли Тауберг едва не уперся грудью в спину остановившегося Голицына.
– Вон, возле двух березок, видите, – шепотом произнес Антоан, кивая чуть вправо от себя.
Подполковник перевел взгляд в направлении, указанном князем, и увидел меж двух берез желтеющий в ночи конус палатки. Оба не заметили, как позади них скользнули две тени, невысокая и тонкая, принадлежавшая явно женщине, и чуть согбенная, пошире и выше…
– Вижу, – так же шепотом ответил Иван.
– Они там.
– Пошли.
Стараясь ступать неслышно, едва ли не на цыпочках, они подошли к палатке. Прислушались. Тихо.
– Какой у нас план? – почти одними губами спросил Голицын.
– Врываемся, вяжем, учиняем допрос, нагоняем ужасу, – шепотом ответил Тауберг.
Князь кивнул. Что ж, план как план. Простенький, зато весьма действенный и понятный.
Подполковник откинул полог палатки, заглянул, дождался, пока привыкнут глаза. Рассмотрел, что находилось внутри: две походные кровати, стол меж ними, на столе ночной лампион с едва тлеющим фитильком. В углу ящик с отделениями, заполненными керамическими черепками, наконечниками стрел, мелкими костями. Рядом, на полу обрывки материи, веревки.
Вошел. Следом Голицын. Иван наклонился, поднял моток веревки, другой передал Антоану. Кивнул на того, помельче, что лежал справа. Сам кинулся на левого, что был крупнее.
– Ага, попался!
Левый открыл глаза, хотел, верно, крикнуть, но жесткая широкая ладонь зажала рот. Сразу стало трудно дышать, не до крику. Англичанин вытаращил глаза, но напавший с силой перевернул его на живот, свел на спине руки и стал их вязать, вдавив его голову в подушку. Затем перевернул, усадил и, показав огромный кулак, прошипел по-русски:
– Будешь орать, убью. Понял?
Англичанин сморгнул.
– Понял, я спрашиваю?
– Да, – ответил тот по-русски.
– Молодец, – констатировал Тауберг и подкрутил огонек лампиона поярче.
Тем временем закончил со своим и Голицын, сев на него верхом. Правда, второму англичанину, щуплому, но верткому, все же удалось довольно громко выкрикнуть: «What's happening?» [3]3
Что случилось? ( англ.)
[Закрыть], – но это были последние слова, сказанные обитателями палатки без разрешения ночных гостей. Щуплый тотчас получил кулаком в ухо и сразу все понял, чему способствовал тонкий звон в горевшем пламенем слуховом органе, будто его обладателя постоянно атаковал навязчивый комар. Вообще, англичане оказались ребятами сговорчивыми и понятливыми, однако эти лучшие их качества проявились не сразу, когда речь зашла о найденных письмах.
– Господа, поверьте, вам лучше отдать нам эти письма. Иначе вас ждут большие неприятности, – увещевал иноземцев Тауберг. – Я, – он посмотрел на Голицына, – мы с моим товарищем уполномочены изъять у вас эти письма любой ценой. Вы понимаете, о чем я говорю?
– Вы не можете ничего нам сделать, – отозвался по-русски крупный. – Мы подданные другого государства, и по Парижской конвенции…
– Плевать я хотел на ваши конвенции, – начинал терять терпение Тауберг. – У меня предписание отобрать у вас эти письма, а вас самих, как бы это помягче сказать, ликвидировать, как свидетелей. И я это сделаю.
– Это уж да, – отозвался со своего места сидящий на щуплом Голицын. – Поверьте мне, господа, он это сделает.
Англичане переглянулись. Было видно, что слова Тауберга подействовали на них, и следовало быстрее развивать успех.
– Кроме того, вами совершено убийство, – нахмурил брови Иван. – И никакие конвенции не спасут вас от Сибирской каторги.
– Какое еще убийство? – подал голос крупный.
– Вы убили агента Императорской Экспедиции секретных дел. А убийство должностного лица по нашим законам карается бессрочной каторгой. Ведь заживо сгниете, господа иноземны. Или медведи задерут. Там, куда вас отправят, медведи разгуливают, как вы знаете, прямо на улицах.
При упоминании о медведях англичане снова переглянулись.
– У вас нет никаких доказательств, – не уверенно произнес крупный.
– Есть, – снова подал голос Голицын.
– Какие это? – из последних сил сопротивлялся англичанин.
– У нас есть свидетель, который все видел, – ответил Антоан.
– Кто же это?
– Я, – выдержав драматическую паузу, произнес князь.
– И кто же убил вашего агента? – попытался иронически улыбнуться крупный.
– Вот он, Джозеф, – указал на щуплого Антоан. – По вашему, сэр Ратленд, приказанию. Его на виселицу, вас в Сибирь.
– Скажи им, – сдался Джозеф. – Они не шутят.
Крупный молчал.
– Мы не шутим, – подтвердил слова англичанина Тауберг. – Забыл сказать вам, что перед высылкой на каторгу, вас будут еще пытать. Чтобы вы поведали подлинную и подноготную правду. Когда из вас будут выбивать подлинную правду, то будут колотить длинниками – это такие палки – по почкам и печени, что создаст у вас проблемы с пищеварением. А когда вам отобьют почки, у вас будут проблемы и с мочеиспусканием. Вам, господа, даже пописать будет трудно и больно. Ну а правдой подноготной считается то, что говорит в промежутках между воплями и слезами пытаемый, когда ему под ногти вгоняют железные гвозди. Знаете, как это делается? Берется молоток, двухдюймовые гвозди и…
– Oh my God! [4]4
О Боже! ( англ.).
[Закрыть]– взорвался, наконец, крупный. – Варвары. Дикари! Вам нужны письма вашего изменника-государя Павла? Возьмите их, они лежат в шкатулке у меня под матрацем.
– Ну вот, это совершенно иной разговор, – повеселел Тауберг. – Разрешите, сэр?
Иван не очень деликатно подвинул крупного англичанина, сунул руку под матрац и достал шкатулку. Открыв ее и убедившись, что письма действительно там, он сунул находку под мышку и поднялся.
– Господа, – произнес подполковник официальным тоном. – Благодарю вас за оказанное содействие, однако как лицо, находящееся в данный момент на государственной службе, обязан заявить. Поскольку вами совершено противозаконное деяние, классифицирующееся как попытка совершения убийства, и о сем мною сообщено в полицейскую управу, предписываю вам находиться на своем месте безотлучно, дабы не скомпрометировать себя перед государством, гостеприимно распахнувшем перед вами двери для ваших, – он сделал паузу, – научных изысканий. Уверяю, ждать вам придется недолго, за вами скоро придут. За сим разрешите откланяться и пожелать вам держать язык за зубами, иначе не миновать вам свидания с нашими медведями, имеющими известную вам привычку разгуливать по улицам. Гуд-бай.
Пропустив хмыкнувшего на сию тираду Голицына, Тауберг вышел, прямой, как длинник-палка. В этот момент, пожалуй, подполковник даже нравился князю. Как, впрочем, и Голицын Таубергу, иначе последний бы не протянул первому руку и не произнес:
– Благодарю вас, князь. Вы мне очень помогли. Полагаю, Антон Николаевич, наше с вами дельце окончено?
Оба, возбужденные только что свершившейся победой, не заметили, как после слов Тауберга недалеко в кустах кто-то охнул и послышались легкие удаляющиеся шаги, а за ними еще одни. И, конечно, не услышали шепота, в коем один из них узнал бы голос Африканыча:
– Барышня, погодите. Да погодите же, барышня…
Голицын смотрел прямо в глаза Тауберга.
– Вне всяких сомнений, подполковник, – ответил он коротко после недолгого молчания и пожал протянутую руку.
16
– Аграфена Ниловна, извольте просветить меня немедля, где это вы по ночам шастаете? – услышала Груша гневный голос бабеньки за своей спиной.
Как же хотелось ей тихо и незаметно пробраться в свою комнату и выплакать в подушку разочарование и обиду, раздиравшие сердце с того самого момента, как поняла она, что обманута. И кем? Прекраснейшим и благороднейшим из всех встречавшихся ей мужчин. Мечиславом Феллициановичем! Или, правильнее будет сказать, неким Антоном Николаевичем, к тому же оказавшимся, как удалось ей выяснить у Степана Африкановича, князем Голицыным. И что за доля ее такая разнесчастная! За все ее годы всего-то два раза и довелось чужие разговоры подслушивать, а оба они всю жизнь перевернули. Или весь род мужской – лжецы и обманщики, и нельзя никому из них веры давать? Дмитрий Маслеников, понятно, на ее приданое нацеливался, а князю-то что от купеческой дочери понадобилось? Каков бы ни был за ней капитал, навряд ли его сиятельство – тем более из Голицыных! – возьмет в жены такую неровню, купчиху! Да его засмеют! А она-то размечталась, о будущем грезить начала, как она бабеньку с дядюшкой уговаривать будет, чтоб не препятствовали ее счастью, чтоб дали свое благословение на брак с господином Марципановым. Ну и что, что чин не велик, да состояние мало, а может, и совсем нет, – главное, что любит она его всем сердцем.
В который раз спрашивала себя Груша, за что же полюбила она Мечислава Феллициановича? Отвечала себе: за храбрость отчаянную, за внимание и деликатность, за доброе сердце и, пожалуй, за то, что был он не таким, как все, немного странным, как будто отстраненным от окружавшей его суетной жизни. И, чего скрывать, трепетала от одного взгляда карих горячих глаз, лукавой улыбки, случайного касания руки. Если быть до конца честной, надо признать откровенно – он чертовски красив, да что там – великолепен! Может, это и застит ей глаза? Может, нет там за этой прекрасной оболочкой ни смелости, ни доброты, как нет на свете никакого Мечислава Марципанова? А есть только незнакомец князь Антоан Голицын, который в провинциальной глуши от скуки влюбил в себя глуповатую простушку и забудет о ней в тот миг, когда опустится за его коляской шлагбаум на городской заставе. Больно-то как!
– Ба-а-абенька! – чуть не в голос возопила Груша, падая в ноги старушке и ухватившись за край ее ночного капота.
Аграфена Федоровна ойкнула, схватилась рукой за грудь, потом, покряхтывая, склонилась над Грушей.
– Что ты, что ты, душа моя, – дрожащим голосом оторопело произнесла она. – Чего так убиваться-то?
– Бабенька, – уже тише всхлипнула внучка, – горе-то какое…
– Идем-ка ко мне в горенку, лапушка, а то весь дом перебудим, – старушка тревожно оглядела полутемный коридор, – тогда расспросов не оберешься…
Она потянула Грушу за руку, и через минуту та уже лежала на мягчайшей бабушкиной перине, свернувшись калачиком и уткнув разгоряченное лицо в ее сухонькие ладошки. Без утайки, перемежая рассказ вздохами и всхлипами, поведала Груша о давешних утренних событиях и своем ночном приключении, о коварном обмане, непонятном чужаке князе Голицыне, в коего превратился вдруг милый и любезнейший господин Марципанов. Бабенька выслушала внимательно, охая и причитая в нужных местах и нежно поглаживая внучку по кудрявой голове.
– Что ж мне делать далее, бабенька? Как быть? – подытожила Груша свое повествование.
– Что ж тут сделаешь, пташка моя? Слава Богу, ничего непоправимого не произошло. – Она мелко перекрестилась, благодарно глянув на темные иконы в углу.
– Да что ж могло еще хуже-то случиться? – изумилась Груша.
– Ну… – отвела глаза в сторону бабенька, – у мужчин много есть возможностей девице жизнь поломать. А здесь и делов-то, что имя другое у человека оказалось. Непорядок, конечно, но сей непорядок скорее дело полиции.
– При чем здесь полиция? – уставилась на бабеньку Груша. – Он мне сердце разбил, обманул…
– Неужто, о склонности сердечной у вас разговор был? – остро посмотрела на внучку Аграфена Федоровна.
– Нет… ни о чем таком мы не говорили, но…
– То-то что и «но». – Бабенька задумалась. – Оно, может, и лучше, что ничего, окромя взглядов, промеж вас не было. Сама, думаю, понимаешь, что он тебе ноне не пара. Так что, душенька моя, хочешь не хочешь, а из головы его выбрось. Завтра скажись больной. Я сама с ним переговорю.
Груша еще глубже зарылась лицом в изрядно уже промокшие подушки, плечики ее сотрясались от бурных рыданий, а душа, казалось, готова была разорваться разлететься на тысячи осколков. Как же ей теперь дальше жить, без него? Знать каждый час, каждый миг, что он где-то ходит по этой земле, занимается какими-то делами, но ей в его жизни нет места, как будто и самой Груши на этом белом свете не существует. Потому что теперь останется от нее одна бледная тень с зияющей пустотой внутри, которую заполнить мог только он, а без него обитать там будет ноющая, сосущая, вселенская тоска. Господи, больно-то как!
Бабушка все гладила и гладила внучку по огнистым локонам, шептала что-то успокаивающее, похожее на протяжную колыбельную песню, а сама в глубокой печали размышляла о том, что вот странно как на белом свете все устроено, будто разделен он высокими невидимыми стенами, за коими живут люди, как звери, каждый своей стаей, и не моги переступить эти стены – вмиг загрызут. Может ли столбовой дворянин жениться на девушке из купеческого роду? Да хоть на крепостной! Только с этого момента станут они изгоями, не принадлежащими ни к какому сословию. Чуждые для всех, вынуждены они будут жить анахоретами, затвориться в стенах своего дома. Выдержит ли такое вынужденное заточение даже самая пламенная страсть? Найдут ли они друг в друге не только любовь, но и понимание, дружеское участие, утешение? А дети? Как их растить?
За сими размышлениями Аграфена Федоровна и не заметила, как затихла, умаявшаяся от ночной беготни и переживаний внучка.
– Спи, птаха моя горемычная, – прошептала старушка, осторожно укрывая Грушу легким одеялом и осеняя крестом. – Спи. День будет, ох, какой трудный.
Прозрачные сумерки уже наполняли горенку, возвещая о близком рассвете.
17
Не было еще и девяти часов, когда экипированный по-дорожному Антоан спустился из своих «апартаментов» вниз. Дорожная коляска была готова, сундуки и багаж приторочены к экипажу. Пора было покидать полюбившийся ему дом Селивановых. Как можно скорее. Пусть у них останется доброе воспоминание об отважном ученом муже, любителе рыбной ловли господине Мечиславе Феллициановиче Марципанове. Князь Антоан Голицын пойдет своей дорогой и не нарушит своим драматическим появлением патриархального покоя гостеприимного купеческого семейства. А Грушенька… Антоан принял решение избежать прощания с нею, потому как мало надеялся на твердость своего характера и боялся поддаться искушению остаться… остаться, чтобы каждодневно видеть и слышать ее, прикасаться, целовать, наконец!
Нервно расхаживая по комнате, князь с нетерпением ожидал появления бабеньки, коей через Африканыча передал нижайшую просьбу уделить ему несколько минут. Он попрощается только с ней, сославшись на срочные известия, попросит извиниться перед Иваном Афанасьевичем, его домочадцами и, конечно, перед Грушенькой. И все! Именно так – с отчаянием и силой – и все!
– Мечислав Феллицианович, доброе утро, – раздался за его спиной энергический голосок Аграфены Федоровны.
– Доброе утро, мадам.
– С чего это я опять мадамой стала? Случилось что? Али почивал плохо?
– Простите, бабенька, – исправился князь, на секунду замешкался и следующую фразу: «Мне надо поговорить с вами», они произнесли одновременно.
Антоан растерянно замолчал, бабенька удивленно хмыкнула и, устроившись на своем любимом диванчике, изучающе уставилась на Голицына. Тот смущенно откашлялся.
– Прошу вас, говорите сначала вы, – предложил он.
– Нет уж. Я лучше вас послушаю. – Сложила она на коленях тоненькие морщинистые ручки.
– Хорошо, – вздохнул Антоан. – Бабенька, некоторые, не терпящие отлагательства дела требуют моего срочного отъезда. Я пришел проститься, поблагодарить вас за гостеприимство и ласку. Сожалею, что не успеваю попрощаться с Иваном Афанасьевичем и остальными домочадцами. Передайте им искренние заверения в моем уважении, добром расположении и дружбе. Я всех вас очень полюбил…
Антоан замолчал, не зная, что еще можно добавить.
– Что ж, Мечислав Феллицианович. Надо так надо. – Старушка поднялась с дивана, подошла к Голицыну. – Мы тоже вас полюбили, и будем за вас молиться. Счастливой дороги.
Она привстала на цыпочки, ухватила его за идеально завязанный галстук и потянула вниз. Антоан низко склонил голову, почувствовал прикосновение к своему лбу сухих, твердых губ.
– Храни вас Господь.
Повисла неловкая пауза. Бабенька смотрела на князя проницательными голубыми глазами, так похожими на глаза Грушеньки, и казалось, ждала его ухода. Молодой человек растерялся. Он полагал, что его начнут уговаривать остаться, приведут тысячу аргументов в пользу того, чтобы отложить или хотя бы задержать отъезд. А тут даже не поинтересовались, куда он направляется. Внутри стало как-то нехорошо и пусто, будто сквозняком потянуло.
– Э-э-э… вы что-то хотели сообщить мне? – чтобы некоторым образом сгладить неловкость спросил он.
– Теперь это не важно. Пустяки, – отмахнулась бабенька.
– Еще, пожалуйста, – не удержался Антоан, – передайте Аграфене Ниловне отдельный поклон.
– Передам пренепременно.
– Прощайте. – Антоан склонился над ручкой бабеньки и поцеловал ее.
– Прощайте, Мечислав Феллицианович.
– Я буду писать, – отчего-то добавил Голицын.
– Пишите. Мы будем рады любой весточке от вас.
Со странным ощущением нереальности происходящего Голицын вышел во двор, направился к конюшне, где около экипажа суетился преданный дядька Степан. К тому же начинал накрапывать противный моросящий дождик. Настроение и без того мрачное стремительно ухудшалось.
Антоан укрылся под навесом конюшни, бессмысленно и сердито уставившись на блестевший от влаги верх дорожного экипажа, как будто именно он стал виновником его отвратительного настроения. Где она? Неужели не слышала, как перетаскивали его багаж, не слышала всю эту суету в доме. Да из ее окна весь двор виден, как на ладони! Хотя, нет. Пусть. Так будет лучше. Он же сам решил избежать прощания с ней. Сам. Да, сам, но какая-то детская, беспомощная обида сжала его сердце. Рядом послышался шорох, затем прозвучал голос:
– Антон Николаевич, князь.
Он замер, чувствуя, что проваливается в темную пропасть. Кровь прилила к голове, дыхание разом пресеклось.
– Что же вы молчите, ваше сиятельство?
– Аграфена Ниловна. Грушенька… – Он повернул голову и едва разглядел в сумраке конюшни ее силуэт. – Вы…
– Решили уехать, не простившись? – Она шагнула ближе, и он увидел наполненные болью, ставшие такими родными глаза. – Такой смелый, бесстрашный человек. Чего вы испугались?
– Себя… вас… – неуверенно ответил Антоан. – Того, что было, что происходит сейчас и может еще случиться. Теперь вы знаете, что я не тот, за кого себя выдавал. Вот только откуда? – Он понимающе усмехнулся, перехватив взгляд Груши, скользнувший в сторону экипажа. – Понятно. Африканыч. Давно пора высечь этого доморощенного Эзопа.
– Вряд ли он испугается ваших угроз. Да вы никогда этого и не сделаете.
– Грушенька, – взглянул он ей прямо в глаза, – я не господин Марципанов. Я – князь Антоан Голицын. И вы меня совсем не знаете.
– Я знаю главное, – ответила она, твердо выдержав его взгляд.
– Что же? – приподнял темную бровь Антоан.
– Вас. Вы отважны до безрассудства, – начала перечислять она, невольно приблизившись к нему, – любите шуметь, но у вас доброе сердце, вы деликатны и внимательны к тем, кто слабее вас. Кроме того, вы азартны и в то же время склонны к созерцательности, а еще вы ранимы и скрываете это за бравадой, иногда даже за грубостью…
– Груша! Вслушайтесь в то, что вы говорите! Это же герой какого-нибудь слюнявого романа госпожи де Сталь! – возмутился Голицын. – Раскройте глаза! Я обманул вас и ваших родных. Я игрок, распутник, скандалист…
– Можете не беспокоить себя дальнейшим перечислением, – остановила его Груша, – и до нашей провинции доходили слухи о князе Антоане Голицыне. В Саратове любят судачить о земляках, а у вашей семьи в нашей губернии есть поместья. Все перечисленное мной и вами лишь две стороны одной медали: пылкий нрав и неумение его обуздывать.
– Не понимаю, отчего вы так яростно защищаете меня от меня самого? – заинтересовался вдруг Голицын.
– Оттого, что я… что вы… – Груша запнулась, щеки ее вспыхнули горячим румянцем. – Действительно, вряд ли это надо обсуждать сейчас. Ведь вы уезжаете. Прощайте, ваше сиятельство. Не поминайте лихом.
В глазах Аграфены блеснули слезы, но она только повыше приподняла голову и прошествовала мимо князя в сторону дома. Антоан смотрел на тоненькую фигурку, удалявшуюся от него, на хрупкие напряженные плечи, пушистую косу, что огнистой змейкой спускалась по спине хозяйки, покачиваясь при каждом ее движении, и понимал, что вот сейчас, в это мгновение, из его жизни уходит свет и тепло, надежда и вера, уходит будущее. С каждым ее шагом тьма и отчаяние все сильнее наваливались на князя. В эти роковые мгновения со стороны экипажа донеслось басовитое ворчание:
– Все беды от ентих англичан. То документы секретные стырют, то принцев Гамлетов напридумывают с их непонятками: быть, вишь, али не быть? Дело делать аль столбом стоять? Один такой стоял, стоял, думал-кумекал, да и просрал все свое Датское царство…
– Что ты несешь! Что несешь, паскудник! – нашел повод для взрыва Голицын.
– А чо? – вытаращил на него глаза Африканыч. – Я тут, енто, сам с собой гуторил, ваше сиятельство. Едем, что ли?
– Да погоди ты! – прорычал Антоан, стремительно бросаясь вслед за Грушей.
Она уже миновала середину двора, когда сильные руки схватили ее за плечи.
– Не уходи. Не оставляй меня, – горячо прошептал Голицын, зарывшись лицом в ее пушистые волосы. – Прошу тебя, стань моей… моей женой.
Она обернулась к нему, по ее лицу текли то ли слезы, то ли капли все усиливавшегося дождя.
– Мы не можем быть вместе, – всхлипнув, проговорила она. – Ты – князь, а я… – купеческая дочка. У нас нет будущего. Все твои знакомые отвернуться от тебя.
– У меня без тебя нет будущего, нет надежды. И плевать я хотел на то, что скажут другие. Одним скандалом больше, одним меньше. Я привык быть изгоем.
– Твои родные не примут меня, – продолжала упорствовать Груша.
– Они будут только счастливы, если я, наконец, угомонюсь. Мы будем жить в Озерках, – мечтательно проговорил он, – там большая усадьба, выстроенная еще моим дедом, огромная библиотека, чудесный парк, оранжереи, да и твои родные будут рядом. Ты станешь моей женой?
– Опасная роль, – прошептала Груша.
Антоан вздрогнул как от удара, лицо его окаменело.
– Я не буду клясться и каяться за прошлое. Если у тебя есть сомнения и ты отвергнешь мое предложение, я пойму. – Он опустил руки и сделал шаг назад.
– Нет! – Груша шагнула следом, прижалась к нему, ухватившись за отвороты сюртука. – Прости! Прости меня. Я просто боюсь, я не уверена, что ты… Я простая девушка, воспитанная иначе, чем девушки твоего круга я… рыжая, у меня весь нос в конопушках! Зачем я тебе такая?
– Ах ты, хитрая лисичка, – смягчился Голицын. – Ты мне затем, чтобы, когда я просыпаюсь, видеть, как рассветные лучи путаются в твоих волосах. Ты мне затем, чтобы подарить мне детей, похожих на рыжики на лесной полянке, затем чтобы держать в своих ручках мой «пылкий нрав» и быть хозяйкой Озерков, там как раз срочно требуется такая с практической сметкой и купеческими талантами. А еще я люблю тебя, и хочу прожить рядом с тобой каждый день своей жизни, столько, сколько Вседержитель мне их отпустил. Ты это хотела услышать?
– Да. Это. От твоих слов голова у меня туманится так же, как от твоих поцелуев, – счастливо улыбнулась девушка.
– Значит, большую часть своей жизни ты проведешь одурманенной, ибо я собираюсь часто говорить тебе о своей любви, а еще чаще целовать.
Груша покраснела и спрятала лицо на его груди. Дождь полил, как из ведра. Они стояли посередь двора, промокнув до нитки, и боялись разомкнуть объятия, потому как счастье – материя капризная, из нее не шьют повседневное платье, этот прекрасный наряд надо беречь и лелеять, чтобы не остались от него одни лохмотья.
Над головами влюбленных ударилась о стену оконная створка на втором этаже.
– Аграфена Ниловна, Антон Николаевич – раздался у строгий голос бабеньки, – сколь можно под дождем стоять. Захвораете ведь. Немедля ступайте в дом сушиться.
– Идем, бабенька, – дружно отозвались Антоан и Груша, рассмеялись этой дружности и, держась за руки, побежали к крыльцу. На ступеньках Голицын приостановился и громко крикнул через двор:
– Эй, знаток Шекспира, распрягай лошадей. Мы остаемся, будем обживать Датское королевство.








