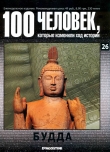Текст книги "Парфэт де Салиньи. Левис и Ирэн. Живой Будда. Нежности кладь"
Автор книги: Поль Моран
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
IV
ОСОБНЯК БРЮНЕ, ЛЕСТЕРШИР-СКВЕР
Суровая зима 1793 года медленно подходила к концу, тая под солнцем, с трудом проникавшим сквозь красноватый дым большого города. Лишь один косой его луч достигал балкона некоего сумрачного двора, куда одна за другой въехали несколько почтовых карет, рыдван, запряженный тремя брайтонскими рысаками, несколько колясок и повозок. Из них вылезали измученные, оцепеневшие от тумана, взмокшие от морской воды, позеленевшие от прибоя мужчины и женщины. С огромным трудом удалось нанять им все эти средства передвижения на английском берегу, куда накануне их доставил рыбацкий баркас, оплаченный луидорами. Все они были беженцами, все были французами и все чувствовали себя несчастнейшими из людей.
Это был двор при особняке Брюне, расположенном на Лестершир-сквер. Французы, эмигрировавшие раньше, каждый день приходили сюда, на это место свиданий с сюрпризами, театральными развязками, на свидание с несчастьем. Здесь воссоединялись семьи, потерявшиеся дети находили своих матерей, братья в мундирах кобленцской эмигрантской армии сжимали в объятиях сестер, которых они считали погибшими; супруги с неописуемой радостью узнавали друг друга. Все говорили только о безумных побегах, сожженных замках, об изнасилованиях, грабежах, тюрьмах, о катящихся в корзину гильотины отрубленных головах. Все эти ужасающие новости, сообщаемые с обыденной простотой и лаконичностью, поражали невозмутимо смотревших на них краснолицых англичан.
«Бенардьер – это случайно не ваше имение? Увы, мой дорогой кузен, от него не осталось ничего, кроме стен…»
«Вы ничего не знаете о моем отце?» – «Ваш отец поднялся на эшафот с молитвой». – «Бедный Сен-Флоран был зарублен саблей…» – «Тетушку Эрмангард ее обители до смерти забили палками».
Но такова уж была героическая фривольность этого бывшего высшего света, который, нигде не учившись этому, умел так хорошо умирать, что жизнь возрождалась среди развалин, и в эти полные скорби разговоры то и дело вплетались какие-то слова радости:
– Вечером я возьму тебя с собой на раут в доме мадам де Шатийон.
– Приведи себя в порядок. Мы едем в Туикнем приветствовать принцев.
– Бодрей, пятясь задом, как заправский церемониймейстер, поможет вам засвидетельствовать ваше почтение забинтованной ноге монсеньора герцога Орлеанского, у которого сейчас приступ подагры.
Перевязанные саквояжи, кисы, чемоданы из коровьей кожи, шкатулки из витого железа, хранящие хартии и дворянские феодальные грамоты, – все это было сложено под навесом, который опирался на столбы и балки, сделанные из старого английского дуба, со временем ставшего белым как скелет.
– Вы придете, Жонкур?
– Нет, я работаю ночным сторожем в доках…
– А вот я предпочитаю днем работать, а ночью танцевать.
– Где вы живете, маркиз?
– Нигде. Что ни день, я разбиваю у англичан новый лагерь: они-то ведь стояли лагерем у меня в Гиенне в течение целых трех веков…
За пять лет язык этих французов изменился; теперь они произносили не «король», а «кароль», «скультор», а не «скульптор», по-новому стали писать слова «апостол», «палка», «всегда», привыкли употреблять на английский манер слово «джентльмены» вместо слова «шевалье» и теперь уже носили не фраки, а так называемые «riding coats», которые в их произношении превратились в «рединготы».
– О-ля-ля! – вдруг воскликнул невысокий человек, модная одежда которого удивила вновь прибывших. – Если не ошибаюсь, это вы, Тримутье! Вы выскочили здесь прямо как игрушка на пружинке из ящика! Хотя бы предупредили заранее, черт возьми: это как раз тот случай, когда вы могли бы использовать свой телеграф! Я бы организовал в вашу честь завтрак по-английски. А пока что соблаговолите принять вот это…
И шевалье д’Онсе вынул из кармана своего малинового фрака, истрепанного нищетой до бледно-алого цвета, крутое яйцо.
– Это вы! Это в самом деле вы, шевалье! – повторял господин де Тримутье. – Меня-то вы узнали, а вот наш несчастный Нант вы бы ни за что не узнали! После смерти короля все изменилось: дворянство попряталось, духовенство исчезло, крестьяне убегают от чрезвычайного набора в рекруты, все имущество захвачено комиссарами, теми из них, кого не успели похитить, замучить и убить вандейцы. Парижская Коммуна отвечает не менее жестокими репрессиями и направляет к нам кровавых марсельцев: Мож, Марэ, Бокаж – все в мятеже и в огне!
– Это просто великолепно! – воскликнул шевалье. – Я бы хотел быть сейчас там!
– Так что же вам мешает?
– Где же, как не в Лондоне, лучше всего служить в наше время Франции? – высокомерно провозгласил шевалье.
– Месье, вы нантец? – вдруг воскликнул старый сельский кюре в порыжевшей сутане, который давно прислушивался к их беседе. Из карманов его сутаны торчали хвосты селедок – знак того, что он пришел из Биллигейта, где торговцы свежей рыбой подавали французам в качестве милостыни отбракованную рыбу. – Я тоже из Нанта и тоже жирондист, как и вы, господин де Тримутье. Наконец-то я узнал вас.
Они поговорили о своих друзьях-жирондистах, – похвалили чистоту их нравов, вспомнили «меланхоличного соловья» Верньо, красавца Барбара́, Кондорсе, ставшего символом угнетенной Науки…
– Они все просто дураки, сто двенадцать дураков, – отрезал шевалье. – А вся их добродетель годится только на то, чтобы затягивать революцию до бесконечности! Они позволили убивать своих друзей в тюрьмах, позволили казнить короля; и вот теперь они даже не решаются ночевать у себя дома. Пытаясь удержаться на плаву, они идут ко дну; их губит нерешительность, и им всем непременно отрубят головы, причем они так и не узнают, за что. Но зато узнают, как!
– Ах! Лучше было бы умереть, как господин де Вьей Ор… – пробормотал Тримутье.
– Не может быть! Наш председатель суда умер? Что вы говорите!
– Да, убит, расстрелян в упор перед особняком де Салиньи, в тот момент, когда он из него выходил. Господин де Вьей Ор упал у подножия липы прямо в своем бархатном костюме, и его труп так и оставили лежать там.
– Это ужасно! – воскликнул в кои-то веки действительно взволнованный шевалье.
Лицо его омрачилось. Он спросил:
– А мадемуазель де Салиньи?
– Мадемуазель де Салиньи? – повторил господин де Тримутье. – Я надеюсь, мне хотелось бы верить, что она сумеет пройти через эту бурю, так как, видите ли, она прежде всего «комильфо».
– Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу сказать… Вы когда-нибудь размышляли над этим понятием «комильфо» – как нужно? Кто, интересно, первым использовал это тираническое «нужно»? Кто декретировал раз и навсегда, что именно нужно? Нужно ли одно и то же всегда и везде? Быть «комильфо» – это значит быть крепко связанным с одним из социальных слоев, будь то с роялистами или с санкюлотами, иначе говоря, быть вовлеченным в некое общее действо, никогда не покидать большинства, блюсти интересы своего клана, своей группы, своей нации при всех обстоятельствах и следовать за общественным мнением, как бы внезапно оно ни менялось. Быть «комильфо» в 1670 году значило простираться ниц перед Людовиком XIV, а в 1715-м – улюлюкать во время его похорон. «Комильфо» меняется каждое мгновение, несмотря на свою патриархальность; «комильфо» 5 августа 1789 года – это не тот «комильфо», каким он был днем раньше, ибо прошла целая ночь, и депутаты Учредительного собрания установили налоговое равенство, из-за чего привилегии стали уже не «комильфо».
– С той лишь разницей, – прервал его шевалье, – что для дворянства быть «комильфо», кроме всего прочего, означает, как это ни странно, поступать не так, как все, то есть быть «некомильфо».
– А впрочем, как мне говорили, точно такой же неписаный и всемогущий закон существует и в этом королевстве, – продолжал господин де Тримутье. – Англичане, верноподданные Его Величества Георга III, называют это «конформизмом». Быть конформистом значит исповедовать господствующую религию; только конформизм комфортабелен, если вы позволите мне эту игру слов, во всяком случае, только он один считается приличным. Это добровольная капитуляция перед принятыми в обществе правилами, которые, вместе с вежливостью, лежат в основе свободы, ибо что собой представляет свобода у цивилизованных народов, как не добровольное подчинение? Раньше люди шли на поводу у обычаев, то есть у неписаных законов, которые устанавливало долгоживущее и сохраняющее преемственность меньшинство, – в основном ради своего благополучия или ради своей защиты – устанавливало надолго, на целые века. Сегодня же люди идут на поводу у моды, то есть просто-напросто у минутных устремлений большинства. Это своего рода широко афишируемая конвульсия чувств, большая месмерическая волна пристрастий и антипатий, общих не столько для жителей одной страны или представителей одного класса, сколько для одного поколения, конвульсия, захлестывающая мир чуть ли не каждые два-три года.
– А если модно следовать за Робеспьером?
– Здесь, – ответил господин де Тримутье, – мы подходим к сути вопроса, то есть к подножию эшафота. Я полагаю, что скоро станет модным оказаться гильотинированным, хотя пока что модно быть палачом при гильотине, то есть монтаньяром. Вот только наши монтаньяры, к сожалению, ни за что не хотят меняться. Возьмите того же самого господина Грапена, некогда охотно посещавшего наши воскресные встречи, где он требовал красного вина вместо шоколада, а нынче принадлежит к фракции эбертистов. Господин Грапен ни к кому не стал присоединяться. Он решил быть «комильфо» в одиночку. И сразу же перешел из умеренного «Общества Друзей Конституции» в недавно созданное неистовое «Народное общество». Сделав этот опасный поворот, он не пригласил с собой умеренных из особняка Бабю, которые охотно последовали бы за ним, как грешники Данте, цеплявшиеся за посетителей ада, тогда как те отталкивали их от своей лодки. Не забывайте о том, что Бабю де Салиньи – люди богатые, очень богатые. Если позволить богачам принадлежать к передовым партиям, то кого же тогда грабить?
– Ну так что же мадемуазель де Салиньи?.. – повторил вопрос шевалье.
– Она исчезла, – ответил бесстрастным голосом Тримутье. – Я не очень беспокоюсь за нашу юную подругу, ее место здесь. Да, – заключил он, – место мадемуазель де Салиньи – в Лондоне, ибо Лондон – это «комильфо» завтрашнего дня.
В этот момент высокий молодой человек, одетый как американский плантатор, проходивший мимо группы нантцев, резко обернулся и направился прямо к господину де Тримутье.
– Сударь, – сказал он, – я услышал, как вы произнесли имя мадемуазель де Салиньи. Она в Лондоне?
Тримутье смерил его взглядом.
– Право же, господин квакер… – начал он.
– Простите меня, сударь, – уточнил молодой человек. – Я хотя и прибыл на днях из Америки, но родился я в Вандее и зовут меня Лу де Тенсе.
– Ах вот как! – сказал шевалье. – Увы, сударь, мадемуазель де Салиньи сейчас нет в Лондоне.
– Она исчезла, – добавил господин де Тримутье, – и никто не знает, где она скрывается.
V
ХЭВЕРХИЛЛ
– …Тогда я высадился в Портсмуте и в экипаже, запряженном тремя лошадьми, прибыл в Лондон. Первым делом я принялся искать вас в парламенте, ведь вы говорили мне, что заседаете в палате общин. Вы тогда еще уточнили, что являетесь там одним из самых молодых депутатов.
– Я провожу в парламенте всего два дня в году, – флегматично ответил депутат от Хэверхилла, городка Джанеуэев, со времен Кромвеля приходившего во все большее запустение. – На скамьях Вестминстера плохо спится…
– Два дня в году! – повторил Лу де Тенсе. – И ради этого вы избирались?
– Ради того, чтобы продолжить семейную традицию, одновременно я получаю жалованье секретаря в комитете плантаций.
Джанеуэй не стал добавлять, что этой синекурой он был обязан одному из своих дядей и что весь его труд сводился к тому, что он должен был расписываться в платежной ведомости в получении тысячи гиней, пятьдесят из которых оставлял выдававшему деньги служащему.
– Рад вас видеть, – сказал Джанеуэй. – Завтра поедем на охоту. Я дам вам Крессиду, мою ирландскую кобылу. Сейчас она отощала, ирландская кровь не дает ей покоя, и сейчас ребра у нее торчат, как решетки для тостов.
– Я охочусь только с ружьем, – ответил Тенсе, – но дело не в этом… По правде говоря, я прибыл сюда по другому поводу, для…
– Для рыбной ловли? – перебил Джанеуэй. – Французы любят рыбачить. После обеда мы отправимся на реку, я дам вам бамбуковую удочку, специальным образом распиленную, чтобы ее было удобно забрасывать…
– Извините меня, мой добрый друг, – сказал Тенсе, – я ловлю рыбу не на муху, а на червя.
– Это не может не оскорблять Бога, который роняет нам с неба мух, но не бросает нам оттуда вместе с дождем дождевых червей, – сказал неожиданно повеселевший от собственной шутки Джанеуэй.
Тенсе внимательно смотрел на него. Он увидел в нем вполне сложившегося мужчину, за пять лет ставшего типичным островитянином из хорошей семьи: сжатые губы, скупо цедившие время от времени по нескольку слов, гладкие виски, словно сужавшие мысль, выдвинутый вперед подбородок, а над затылком, похожим на затылок ящерицы, расширявшийся череп, у которого сзади отсутствовала выпуклость, где гнездятся общие идеи. «Он не просто повзрослел, он постарел, – мелькнуло в голове у Тенсе, – его когда-то розовые щеки уже успели окраситься в кирпичный цвет, грозящий в скором времени приобрести багрово-купоросный оттенок. Лишь бы Джанеуэй не застыл, не остановился в своем нравственном развитии. Он, который в О-Пати испытывал к нам, бедным и отсталым, жалость и искренне желал нам революции, потом, когда она свершилась, склонен был разделять мнение тех своих соотечественников, которые приветствовали взятие Бастилии (потому что им по сердцу все начинающиеся революции), а теперь, четыре года спустя, осуждает Республику, обесчестившую себя террором (потому что кровавые революции претят их хорошему воспитанию). Странные люди: нашей монархии больше нет, головы летят, алтари осквернены. Господь взвешивает достоинства старого режима и обещания нового мира, а Хэролд Джанеуэй озабочен лишь одним: покупать ему жеребца Джолли Боя у охотничьего клуба через посредническую фирму „Дик и Фендант“ или не покупать».
Лу де Тенсе не обладал той непоколебимой лояльностью англосаксов, которая запрещает человеку любое критическое отношение к другу. Представитель романского народа, он, следовательно, скорее был склонен к тому, чтобы осуждать, чем хвалить. Тем не менее он не забывал, чем был обязан Джанеуэю. Тенсе внезапно ощутил, как из глубины его души поднялась волна горячей признательности.
– Джанеуэй! – воскликнул он, простирая к нему руки. – Благодаря вам я избавился от нищеты, преодолел отчаяние и избежал кошмара истребления французов французами, благодаря вам я, возможно, сумею вновь обрести Парфэт! Я пришел поговорить с вами о ней…
Джанеуэй смотрел на эти простертые к нему руки, ужасно смущенный столь бурным проявлением чувств. Едва Тенсе попытался обнять его, как Джанеуэй густо покраснел и тотчас отдернул свои руки. «Черт бы побрал эти чувства!» – подумал он.
Английское воспитание, которое строго регламентирует проявление сердечных порывов из опасения впасть во французское многословие, в германскую порывистость или в итальянскую жестикуляцию, в конце концов, полностью свело на нет эти чувства, хотя англичане и пребывают в уверенности, что они лишь скрывают их за внешней сдержанностью. Хорошие островные манеры и страх перед всем тем, что можно было бы принять за неумение вести себя, оказали на Хэролда свое обычное разрушительное действие. Тенсе не находил больше в нем того милого путешественника, что некогда заблудился на тенистых дорожках Вандеи. «Человек, появившийся тогда из-за деревьев, за несколько лет стал деревянным», – с тоской сказал он себе. К тридцати годам у тех, кто постоянно живет на своей земле, часто наблюдается сельское оцепенение ума. Контакт с природой оказывает на людей благотворное воздействие лишь после длительного пребывания в городе. Эти формы существования должны сменять друг друга, дабы обострять и делать более изысканным его восприятие. Постоянная жизнь в деревне в конце концов усыпляет мозг.
«Интересно, – подумал Тенсе, – мы при каждом удобном случае рады надрывать селезенку смехом, а они умудрились назвать эту же самую селезенку сплином».
Молодой эсквайр и в самом деле укрылся в Хэверхилле, словно в скорлупе; он больше не путешествовал, оставаясь неподвижным в центре огромной, раскинувшейся на всю Вселенную британской имперской паутины, в окружении произведений греческих авторов, «черных» романов и национальных добродетелей. Он охотился, изучал древнееврейский язык, тратя на это замкнутое существование ту необузданную энергию, которой его предки находили применение в иных концах света. Но чем больше он учился, тем меньше в нем оставалось живости ума. Он избегал женщин. Воображение и фантазию, которые французы его возраста растрачивают на любовь, он сохранил для возведения в глубине парка чего-то похожего на старинное готическое аббатство, чтобы складывать туда разный хлам, имеющий обыкновение накапливаться в хранимых Богом странах. Это строение возвышалось как памятник скуке и одинокой гордости, как храм меланхолии на необитаемом острове, владелец которого был погружен в состояние ленивой прострации. Как могло случиться, что века славных и поистине сказочных накоплений обернулись в конце концов этими вот часами мук и тягостных раздумий? Почему прекрасные, словно клубника со сливками, времена не принесли ничего, кроме вот этих поздних и горьких плодов? Такие охотники столь долго гоняются за лисами, что сами становятся легкой добычей собственной совести. Есть кровавые бифштексы, а мучиться от спазм, какие бывают у отшельников, питающихся сырыми кореньями! И эта деликатная замкнутость, такая деликатная и такая безнадежная! Англичанин любит ближнего своего и при этом избегает его, а француз ближнего своего ненавидит, но только о том и думает, как бы ему понравиться.
– Вы когда-нибудь любили, Джанеуэй? – спросил Тенсе, по-прежнему погруженный в свои мысли.
– Мне не до этого, – сухо ответил Джанеуэй.
Наступил вечер, а вместе с ним подошло время ужина. Когда Лу де Тенсе спустился, держа в руке подсвечник со свечой, который он затем опустил на стоявший у подножия лестницы столик в форме лиры, то увидел хозяина сидящим перед камином, колпак которого украшала набитая соломой голова лисы со стеклянными глазами и с тронутой молью шерстью на фоне двух скрещенных охотничьих хлыстов. Джанеуэй сушил на решетке для угля свои влажные от росы сапоги, и выражение блаженства смягчало черты его лица, еще более красного, чем его сюртук. За столом Тенсе рискнул похвалить добротную красоту всего того, что он видел и к чему прикасался: простого по форме и тяжеловесного столового серебра, плоской посуды с гербами Джанеуэя, не столь узорчато и вычурно расписанной, как та, которую ему довелось когда-то лицезреть в доме Бабю де Салиньи и которая своей яркостью ослепляла его в детстве. Он сгорал от желания поговорить о Парфэт, но сдерживал себя. Бутылка портвейна, перехваченная наверху цепочкой с серебряной пластинкой, начала свое путешествие из рук в руки. Джанеуэй заметно оживился и даже осмелился задать вопрос:
– Ну как, вы сделали себе состояние?
– На кусок хлеба уж точно заработал.
– Расскажите-ка.
Ободренный интересом Джанеуэя, Тенсе поведал ему о годах, проведенных на Ямайке и Виргинских островах, о своих приключениях, о том, как он покупал землю, о колонистах, с которыми общался.
– Я повидал многих англичан и в конечном счете начал их немного понимать. Они никогда не гуляют, не разговаривают друг с другом и не развлекаются так легкомысленно, как мы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эмигрировавшие к вам французы не слишком вам нравятся; я и сам их недолюбливаю, хотя среди них и встречаются замечательные люди, но они как бы пятятся назад… по старой придворной привычке. Знаете ли вы, что они считают дурным тоном снять комнату в Лондоне больше, чем на месяц, – настолько они убеждены в том, что революции скоро придет конец и что аристократия вернется в свои замки?
– А вы что об этом думаете?
– Я сомневаюсь в том, что террор скоро закончится.
– В таком случае, вы останетесь у нас?
– Вы же знаете, Джанеуэй, почему я уехал, и, наверное, догадываетесь, почему я вернулся, а задаете мне такой вопрос!
После портвейна Джанеуэй допускал разговор о чувствах. Он пробормотал:
– Мадемуазель де Салиньи?
– Да… – произнес Тенсе, и в его глазах блеснуло чувство гордости.
– Где она сейчас?
– Я узнавал в особняке Брюне: она исчезла из Нанта, но ее нет и в Лондоне.
– Сейчас немало людей ездят из Англии в Вандею и обратно, они могли бы передать ей весточку от вас.
– Неизвестно, где она скрывается, но я найду ее. Я отправлюсь в Вандею.
– Там сейчас не слишком подходящая обстановка для богатых… – заметил Джанеуэй.
– В Вандее я беден, и я знаю там все дороги. Провидение поможет мне, – ответил француз.
– Провидение хорошо помогает тому, кто сам ему помогает, – возразил Джанеуэй. – Вы рискуете подвергнуть себя серьезным опасностям.
– Я дойду до конца. Грешно, Джанеуэй, находиться вдали от того, кого любишь. Я отплываю на корабле в четверг, вместе с эмигрантами, которые возвращаются во Францию.
Джанеуэй затянулся одним из тех скрученных трубкой листьев табака, которые начали появляться в Европе и назывались сигарами.
– Ваши эмигранты возвращаются, чтобы сражаться. Вы ведь не будете заниматься тем же?
– Они не взяли бы меня с собой, – помедлив, ответил Тенсе, – если бы я не обязался помогать им.
– В «Дербишир Пост» опубликовали вчера декрет Конвента о репрессиях за контрреволюционные происки. Вы знаете, чем вы рискуете?
– Джанеуэй, не заставляйте меня отказаться от намеченного плана. Впрочем, вы и не собираетесь этого делать. Я в любом случае исполню свой долг.
– Да, – сказал англичанин. – Вы уже кончили пить кофе? Положите несколько галет себе в карман. Пойдем сходим на псарню, надо нанести визит моим собакам.