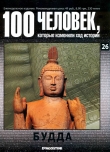Текст книги "Парфэт де Салиньи. Левис и Ирэн. Живой Будда. Нежности кладь"
Автор книги: Поль Моран
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Несколько месяцев назад Рено предстал перед нами в своем излюбленном репертуаре – напыщенным, брюзжащим, склонным к декламации; теперь же беззаботная жизнь тропиков явила нам его расслабившимся, счастливым, в наилучшем здравии: он утратил тот загнанный взгляд, который иногда бывает у молодых людей, освобожденных из тюремного централа; его серо-голубые глаза стали живыми, белокурые волосы – не тусклыми, а блестящими. Он вновь обрел это давнее и присущее цивилизованности чувство необходимости служения двору, которое у отпрысков старинных французских фамилий может мгновенно вспыхнуть в присутствии монаршей особы, пусть даже столь экзотической. На заигрывание с ним судьбы Рено ответил таким же заигрыванием. Если бы его пригласили к принцу в качестве учителя, обязанного за жалованье обогатить его интеллект, он, вероятно, согласился бы, но лишь скрепя сердце. Предложение же быть при нем шофером привело его в восторг. Он отдался этому занятию с большой охотой, не омраченной никаким стыдом, не испорченной никакой признательностью. У него возник неподдельный интерес к королевскому ученику, к этому наивному автомеханику, напоминавшему ему воскресных автолюбителей на версальском шоссе, которому надо было все время повторять:
– На «бугатти», монсеньор, можно делать все. Но есть одна вещь, которую Вашему Высочеству делать не следует – поворачивать на такой большой скорости.
Гаражи порой превращаются в гостиные. Теперь не было ночи, которую Рено и принц не проводили бы там, разбирая моторы, оживленно споря, рассуждая про все и вся, манипулируя западными идеями и инструментами. Чрезвычайно впечатлительный Жали торопливо задавал свои сбивчивые, по-детски наивные вопросы, напоминавшие вопросы, задававшиеся его предшественниками – восточными королями – в тех бесконечных катехизисах, какие являют собою классические индийские повествования. В часы прохлады и прогулок, остановившись на обочине дороги, они непринужденно болтали, сидя бок о бок в машине; это происходило без свидетелей и, что еще реже бывает в Азии, без шпиков – кроме тех, что по приказу сыскной полиции располагались на перекрестках под предлогом охраны дорог; затем они возвращались, проезжая по набережным вдоль каналов, мимо резиденции покойного короля, проклятой и покинутой в самый разгар строительства, так как туда ударила молния. Приближаясь к дворцу, они проезжали мимо госпиталя Сестер во Христе и бывших португальских фортификационных сооружений.
Иногда, опустив ветровое стекло и промчавшись со скоростью сто пятьдесят километров в час в своих темных очках с забранными под их резиновую оправу волосами, спрятав лицо от ветра в оттопыренный на груди фартук, который казался неким уродливым носом из дерматина, принц резко жал на тормоз и останавливал машину.
– Зачем так мчаться, – спрашивал он, – если нам некуда ехать?
– Чтобы ощутить прохладу, а еще потому, что нынешнее время, монсеньор, это сплошное «спасайся, кто может», и только самые шустрые среди нас смогут извернуться.
– Отец говорит, а его слово – золото, что короли и люди благородного происхождения должны подавать пример мудрости и двигаться медленно, что тот, кто бежит, теряет лицо. И еще с величайшей мудростью добавляет, что спешить – недостойно.
– Это потому, что вас учили и учат добиваться только того, что достойно, нас же, европейцев, прежде всего – того, что достижимо. Так что мудрость – это восточное изобретение.
– Но я так люблю мчаться! – воскликнул принц, поглаживая баранку руля, обтянутую полосками мягкой резины.
– Потому-то Восток и утратил свою мудрость, – со смехом заметил Рено. – С азиатской терпеливостью покончено. Скорость скоро завоет всю Землю, как она завоевала уже всю Европу. От колесниц – к экипажам, от автомобилей – к аэроплану! Можно подумать, что чем дальше движется человечество, тем больше оно стремится оторваться от Земли, покинуть ее. Не то чтобы я слишком уж уповал на прялку Ганди: это предрассудок эпохи прерафаэлитов и Рескина. Машины являются полезными рабами, но за ними надо неусыпно следить; принцип здесь сам по себе превосходен, ибо речь идет о том, чтобы благодаря им меньше работать; к сожалению, принцип этот нарушается, потому что машины сразу начинают использоваться для того, чтобы заставить человека трудиться еще больше. Так не будем превозносить изобретателей, они являются нашими палачами, а главное – давайте их ограничим! Ведь скоро на Земле не останется ничего неподвижного.
– Как бы мне хотелось увидеть это!
– Берегитесь, монсеньор. Многие сильные мира сего попались на эту удочку.
– Увидеть, только бы увидеть это! Перестать жить в стране, куда не приходят поезда, которая неизвестна обходящим ее стороною судам, в которой все делается еще вручную, в стране, где ураганы рвут телеграфные провода, где обезьяны пьют воду из фарфоровых изоляторов, где грифы портят радиоантенны, когда усаживаются на них. Можно подумать, что у нас сама природа требует, чтобы все текло медленно и размеренно.
– Пусть все так и будет, монсеньор. Истинная роскошь и есть то, к чему за отсутствием избалованности никто и не думает стремиться, она, возможно, заключается в том, чтобы мочь распоряжаться собственным временем.
– …Увидеть хотя бы разок, что все это правда – то, о чем пишут ваши газеты, что показывают на ваших экранах, говорящих о том, что с каждым днем мир меняется! Гигантские дома, похожие на муравейники, подвесные мосты, поезда на них, дымящие над голубыми от искр трамваями, суда, плавающие под водой; ваша исключительная сила находит проявление в скорости: это гонки спортсменов, лошадей, велосипедов, аэропланов, это рекорды, это люди, выигрывающие состояние за несколько часов и проигрывающие его за несколько секунд; одни, не успев опомниться, умирают на электрическом стуле, другие молниеносно совершают преступления, грабя банки и удирая на автомобилях, вечно ускользая от полиции!
Рено с любопытством смотрел на принца. Такой порывистости ему еще не доводилось наблюдать на Востоке. Жали, вероятно, почувствовал его удивление. Устыдившись собственных откровений, он снова занял свою уклончивую защитную позицию.
– Наши бонзы, конечно, правы, – сказал он. – Спешить – безрассудно. Все равно все мы приходим к смерти.
– Нет, мы приходим к ней по очереди, и на Западе успех заключается в том, чтобы прийти к ней как можно позднее.
– Скажите же, о Превосходный Ум, неужели жизнь там так хороша? – полюбопытствовал Жали.
– Она дурна, монсеньор, но все дорожат ею.
– Почему?
– Потому что мы богаты резонами жизни, и зависть – первый из них: в наших глазах вещь является стоящей, если она принадлежит другому. Именно зависть некогда толкнула буржуа на аристократов, а сегодня сталкивает народ с буржуа, сильных со слабыми, молодых со стариками, женщин с мужчинами. Все у нас сталкиваются, и, быть может, от этого бывает столько молний… Что верно в отношении жителей Запада, верно и в отношении западных стран. Те тоже никогда не складывают оружия. Иные оказываются убитыми, иные – проглоченными, иные – ранеными. Некоторые замирают, настигнутые недугом. Несколько часов назад у них еще были все признаки здоровья – золото в банках, союзники, непобедимая армия: и вот они лежат на земле, теряя силы от новых и старых ран; их разрегулированный механизм продолжает работать, но уже впустую, когда производятся не продукты, а яды; очистки организма больше не происходит, все закупоривается; такие страны, надменные и толстокожие, последними усомнятся в своем могуществе, и в этом их беда. Вспомните про Англию.
– Значит, у государств бывают болезни? – заметил принц.
– Как бывает и старость: слишком старые конституции, пораженные атеросклерозом административные органы; отсутствие денег на медикаменты и в то же время старческая страсть к накопительству, боязнь свежего воздуха, злоупотребление отравами, алкоголь на каждом углу, зато отсутствие молока, а вскорости – беспорядочные рефлексы, «спасайся кто может», здоровых органов за счет остальных, прострация, мания преследования, нищета – все это я видел совсем недавно.
– Где же?
– Во Франции, монсеньор, в моей собственной стране.
– А что потом?
– А потом – общий паралич и смерть. Конечно, жизнь – это болезнь, от которой умирает весь мир; но что можно увидеть там, так это – беспрестанную смерть, смерть, которая является еще и боем, концом, не имеющим надежды ни впереди, ни позади, криком, обрывающимся бессвязным проклятием; а потом – ничего, кроме жуткого небытия под снежным саваном. Я познал его, это мертвенно-белое зрелище, монсеньор, после того как восхищался им и желал его увидеть, и я ушел от него, совершив исход из России, как исходят из ада.
– Вы не щадите Европы!
– Это ничто после тех ударов, которые ей нанесли ее собственные дети от Руссо до Толстого – задолго до того, как сюда вмешалась Азия.
Глаза принца, обыкновенно тусклые, загорелись. В них заиграла отличная от нашей чувственность – подобно тому, как язык с непонятными словами может живо играть интонациями речи. Освещенное снизу лампочкой приборной панели, вокруг которой кружились москиты, его восточное лицо казалось таким плоским, таким непроницаемым: ни один скульптор не мог бы сделать его рельефно-выпуклым или хотя бы примерно в манере лучших ваятелей. Приплюснутый нос, слабо очерченный изгиб рта, тонкая шея, высокая талия, похоже, говорили о его китайских корнях, которыми гордилась королевская семья. И только темноватая кожа и гладкие, жесткие, чересчур густые волосы (настоящая женская шевелюра), разделенные пробором и спадавшие обе стороны, выдавали в Жали полинезийское происхождение – несомненно, по материнской линии.
– Так у тебя дома, о Светоч Истины, всюду зло? – с легкой шепелявостью, которой отличалась его речь, спросил он Рено.
– Не мне учить вас – последователя Совершеннейшего[32]32
То есть Будды.
[Закрыть], монсеньор, что всюду, где присутствует желание, присутствует опасность. Отношения людей с себе подобными можно сравнить с отношениями героев двух кинолент, прокручиваемых в противоположном направлении и в бешеном темпе. Интересы и социальные отношения стали мимолетными и неразрешимыми; отдыха – настоящего, без брома, больше нет; тишина уединения нарушена телефоном и радио, благодаря которому реклама врывается в ваш дом и бьет вас кулаком прямо в лицо. Впрочем, даже имей мы всего в избытке, мы бы все равно не были удовлетворены – настолько Запад теперь уже не может существовать, не испытывая все новых и новых потребностей. Мы живем только для того, чтобы желать.
– Соленая вода увеличивает жажду, – вставил принц.
– На протяжении столетий границей этой страсти служили человеческие возможности: наши изобретения отодвинули ее, если не уничтожили вовсе. Отчего мы – не китайцы, которые, изобретя порох, в течение двух веков пользовались им только для фейерверков? Вот мы опять и вернулись к скорости, которую вы так любите, монсеньор, и о которой мы только что говорили. Ибо это – порочный круг. Очевидно только одно – что в скорости есть нечто притягательное, нечто запретное, есть какая-то трагическая красота с непредсказуемыми последствиями, есть насущная необходимость и проклятие. Все ведет к ней – наслаждение и скука, богатство и бедность, и результат ее – это всегда еще большие разочарования, еще большие потребности, еще больше несчастных случаев, страданий, новых бездн…
От усилий, которые пришлось приложить внешне бесстрастному принцу, чтобы уследить за слишком быстрой речью Рено, у него мелко дрожали губы. Он повторял:
– Мне надо увидеть все это!
Юность на широте тропиков длится какое-то мгновение, человеческое тело без всякого перехода оказывается в зрелости; то же самое происходит и с разумом. Сказать, что ум Жали, такой податливый, пробудился благодаря встрече его с Рено, слишком мало: он буквально вспыхнул. Перед Жали открылся целый мир, и он, преодолев понемногу азиатское сопротивление всему тому, что не укладывается в рамки унаследованных верований предков, увидел этот мир, великолепный и ужасный, всем своим живым воображением.
Жали не отличался особым умом. Ему бывало даже трудно сосредоточить свои мысли, если в игру не вступала чувственность: ему была присуща неспособность, характерная для всех восточных людей, воспринимать если не абстракции вообще, то общие идеи; однако его эмоциональность открывала ему все двери, проясняла ему то, что иначе он не смог бы ухватить. Хотя он был не слишком умен, зато, как все восточные люди, – раз в десять более тонок, нежели средний европеец. В нем, и это было у него общим со многими азиатами молодого поколения, врожденные нерешительность и безразличие начинали поддаваться влиянию гибкого и быстрого ума. Врожденное великодушие и полное отсутствие тщеславия – редкие качества для маленького местного властелина – упрощали очень многие вещи, хотя и осложняли другие, в частности – его отношения с королем-отцом.
Король Индра был похож на растолстевшего от проглоченных змей ибиса: это был еще молодой, эгоистичный и грубый мужчина, диабетик. Последний абсолютный монарх Азии наряду с афганским, сиамским и непальским, он осуществлял правление, приобщая к власти сменявших друг друга фаворитов и полагая, что суть внешней политики – сталкивать лбами иностранные державы. Он тратил огромные суммы (треть государственных налогов) и свое собственное состояние, которое было довольно значительным ввиду большой доходности рисовых плантаций, на собственные нужды и удовольствия и на строительство неуютных для проживания в них дворцов, всецело следуя протокольным правилам, тратя все свое время на разные церемонии, окружая себя актерами и охотно играя тоже, несмотря на отечность ног.
К новым идеям, к прогрессу цивилизации он питал полнейшее презрение и принимал только самый минимум их, и то если они служили его собственному развлечению и возможности удивить подданных. Он ни разу за всю жизнь не ступил ногой на европейскую землю, а из своего короткого путешествия по Индокитаю вернулся, полный неприятия и недоумения. Он запретил у себя лифты, а во время езды по железной дороге всегда боялся, как бы тоннель не обрушился ему на голову. Он был двуличен, словно карточный король, и не останавливался перед террором: революционные движения в Карастре, поддерживаемые китайскими тайными обществами, были потоплены им в крови.
Король Индра любил Жали, потому что тот был его сыном от Первой королевы, а не от сожительницы. Он окружил его великолепием во всем, ревностно заботясь о том, чтобы молодой принц никогда не усомнился ни в своих правах, ни в преданности феодалов, ни в любви верноподданных, ни в услужливости белых чиновников, ни в прелестях времен года, ни в ничтожности мира, лежащего за пределами Запретного города. У Жали было три дворца, как в городе, так и за городом, как для сухой погоды, так и для сезона дождей. Один был выстроен из кедра, другой – из мрамора, третий – из кирпича, все – с крышами из синей черепицы. Он вырос там среди прудов с лотосами, среди роскоши, женщин и праздности. Роскошь была азиатской, то есть совсем иной по сравнению с западной. Она заключалась в обилии у него законных и прочих детей, танцовщиц, ручных животных, преподнесенных богатыми чиновниками, граммофонов, фруктов, сиропов, пирожных и скатанных из цветочных лепестков сигар; она включала визиты к астрологам и священнослужителям, посещения храмов, игры, гонки на моторных лодках. Жали постепенно приобщился к жизни женской половины и внутренним делам королевского дворца, быт которого в 1925 году любопытным образом напоминал интриги кхмерского двора десятого столетия.
Король Индра обучил сына основным европейским языкам, будучи глубоко убежден, что они созданы для общения с различными социальными слоями: французскому – чтобы он мог беседовать с учеными, немецкому – чтобы объясняться с коммивояжерами, английскому – потому, что это был официальный язык королевства и еще для того, чтобы он мог делать займы у банкиров, играть в теннис и посылать телеграммы. Жали бегло говорил на всех этих языках, но сущность его речи оставалась восточной, расцвеченной образами, насыщенной символами, отягощенной вежливыми оборотами. Он хорошо писал, что являлось признаком высокого происхождения: когда он выводил свои красивые письмена, жены с любопытством собирались вокруг.
Китайские учителя, занимавшиеся его образованием, закармливали его классиками, заставляя, согласно традиции, все заучивать наизусть. Потом появились бельгийские святые отцы и напичкали Жали смутными и противоречивыми западными премудростями, представлявшими собою смесь научных чудес с рецептами костоправов, что только увеличило его недоумение и беспокойство. У него были немецкие атласы, но он не вполне представлял себе, какую форму имеет Земля. Он говорил, как учили святые отцы, что она круглая, но вместе с тем его ничуть не удивляли бонзы, утверждавшие, что она имеет форму бараньей лопатки и что Карастра является ее центром. Он имел познания как в химии, так и в магии, как в медицине, так и в знахарстве. В Азии подобные парадоксы встречаются нередко. Те же самые ученые, которые с точностью до одной десятой секунды вычисляли наступление солнечного затмения, готовы в момент, когда это затмение наступит, бить в барабан чтобы не дать Луне проглотить Солнце. Кроме того, Жали прошел необходимое обучение в монастыре. Он вполне овладел Словом и Законами Будды и соблюдал религиозные обряды согласно установившимся обычаям королевства, то есть придерживаясь умеренности в ритуалах и довольствуясь раздачей милостыни нищим, почитанием священных праздников и возведением кое-где памятных святынь.
Как и все в Карастре, Жали любил музыку и пение. Он охотно отдавался чувственным наслаждениям. У него были китаянки, знавшие наизусть множество стихов, пегуанки, искусные ласки которых были особенно ценны в знойную жару, и даже метиски, купленные в Сингапуре. Желание возникало у него по-восточному внезапно, а его удовлетворение было так молниеносно, что любовь угасала в нем раньше, чем успевала зародиться. Незаметно для себя принц усвоил множество знаний, особенно с того момента, когда его перестали учить. Он прекратил мечтать – он стал думать. Европа будоражила его воображение. Что следовало перенять у нее? Если жители Запада редко когда вопрошают Восток, чтобы узнать, как жить лучше, то можно сказать, что каждый молодой человек на Востоке взирает на Европу и Америку как на божества, которые имеют ответ на все вопросы. В природе духа, как и в нравах и политике, существует закон сообщающихся сосудов, благодаря которому самое отдаленное и самое глухое, на первый взгляд, место все же имеет сношения с внешним миром. С помощью бесед, наглядных примеров, чтения книг и даже в еще большей степени – просто воздействия дворцового окружения на наследного принца осуществлялось влияние, противоречащее тому, которое предопределялось ему судьбой. И тут решающую роль сыграло появление Рено.
Этот корректный, аккуратный и благовоспитанный шофер вначале не привлек к себе внимания двора. Ни политическая полиция, ни евнухи, ни астрологи ни в чем не могли его упрекнуть. Он спас от рук малайцев несколько автомашин. Он же заменил колеса с деревянными ободьями у парадных похоронных колесниц на новые, с дутыми шинами. Ему даже дозволялось иметь доступ к принцу и в свободное от работы время. И как мы убедились, тот в конце концов стал видеться с Рено каждый день.
В тот вечер Рено явился согласно приказу в полночь. Оставив позади королевский дворец, скопированный с римского собора Святого Петра, он направился к особнячку принца, миновав краснокожих охранников, поднялся наверх по высоким ступеням и вошел в вестибюль. Созданные для тропического пояса покои были без особых затей. За итальянским фасадом (а весь королевский город был созданием двух поколений неаполитанских архитекторов) обнаруживалась типичная туземная постройка, ажурная наверху, разгороженная циновками и опоясанная выступающей со всех сторон деревянной галереей, украшенной резьбой и папоротниками в кантонских кувшинах. Единственным отличием было то, что вместо пола из тика и лестницы из лиан здесь ступали по ониксу и поднимались по ступеням из белого мрамора, привезенного из Каррары. Комнаты без окон и одностворчатые двери говорили о простой жизни, никогда не подвергавшейся влияниям извне; через входной пролет можно было видеть бахромчатые по краям клинки листьев банановых деревьев, отливающие лазурью. На стенах – портреты принцесс королевского дома в рамах, раскрашенных в национальные цвета, и сильно увеличенная фотография короля, отретушированная вручную, с розовой гуашью на щеках. Над ложем для отдохновений распростерся вышитый шелком тигр с двумя флагами в пасти.
В эту душную азиатскую ночь Рено вспомнил о матери, оставшейся нынешней осенью в одиночестве в экуэновском замке из замшелых кирпичей, исхлестанном ветром, который завывает в высоких, наполовину отапливаемых, наполовину ледяных помещениях: стелющийся по полу печной дым ест глаза, а от сквозняков колышутся занавески.
Принц задержался в покоях короля. Босоногий слуга в голубом переднике и белой куртке принес бетель. Другой слуга – тропические фрукты, очищенные от кожуры, разобранные на части и снова собранные, словно часовой механизм, но уже без семян, косточек и шелухи, распространявшие терпкий аромат. Мимо прошли довольно невзрачные придворные дамы. Королевы, хотя их и не держали взаперти, показывались на глаза редко. Тщедушные, инфантильные и не очень умные, они не играли никакой роли в дворцовой жизни, за исключением, быть может, тех нескольких ночей, когда их вожделели. Рено с интересом наблюдал жизнь этого королевского дворца, мало чем отличавшегося от дома какого-нибудь буржуа на юге Франции. Как он убедился, еще находясь среди китайских миллиардеров, богатство на Дальнем Востоке не поглощает индивидуальности, никогда не проявляясь ни во внешних страстях, ни в тщеславии. Вот и здесь только число и количество предметов из золота, поданных для бетеля, говорило о том, что это – жилище весьма высокопоставленной особы. В стране всеобщей умеренности и социального равенства жизнь принца Карастры мало чем отличалась от жизни сидящего в джонке рыбака. Рено спросил себя, что это вызывает у него – восхищение или насмешку? И улыбнулся, вспомнив о давней конкурсной теме в Дижонской академии: «Чему способствовал прогресс в науке и искусстве – падению или возвышению нравов?» Этот вопрос, заданный более двух столетий назад, так и не был разрешен; а ведь за ним скрывалась и стоявшая перед ним теперь проблема Востока и Запада… В самом деле, говорил он себе, на свете нет «добрых дикарей». Просто у дикарей – другие способы выражать злость, нежели у цивилизованных людей. Вот и все!
Наконец он услыхал твердые гортанные звуки местного наречия. Вошел принц, сделав ему знак следовать за собой. Жали был нарядно, по-китайски, одет в длинное платье из белого шелка и в черную сатиновую обувь. Рено уже научился читать эти застывшие лица и разгадывать кажущееся торжество непроницаемости. Он увидел никак внешне не выражаемое волнение в глазах принца: желтое лицо бесстрастно хранило тайну. Рено чувствовал, что между принцем и королем часто происходят размолвки, особенно с момента его появления здесь. Но из-за чего? Он осмелился спросить у Жали, не притесняет ли его в чем-нибудь отец, но принц ответил:
– Его Величество является для меня Перлом Доброты.
И добавил:
– В том-то вся и беда.
О короле Жали всегда, даже по-французски и по-английски, говорил с тем почтением, которое на языке Карастры выражается в особых словах и в особых глаголах, употребляемых исключительно в отношении монарха Будды или священных слонов, чтобы обозначить их действия или благородные части их тела.
Рено стоял в выжидательной позе, принц усадил его, сам же лег на пол и начал жевать бетель. Потом вдруг сказал:
– Я хочу уехать отсюда, мне нужно уехать.
Это желание терзало его, как боль, оно мучило его. Рено невольно вспомнил про своих знакомых – европейцев, которые, имея в услужении желтых слуг, однажды вдруг обнаруживали, что те исчезли, хотя ничто не предвещало их бегства.
– Ничто не сможет удержать меня здесь, – продолжал Жали. – И отец догадался об этом.
– Разве Ваше Королевское Высочество не имеет свободы передвижения?
– Внутри королевства – да. Но даже для поездки к феодалам, а тем более для выезда из страны необходимо иметь разрешение Совета Короны… Король знает, что я уеду. Мне кажется, он был уведомлен об этом во сне. Я не открывал своего намерения никому, слышите, никому. Но он уже все знает. Впервые он воспротивился какому-то моему желанию. Ночная стража во дворце будет удвоена. Придется ехать очень быстро сегодня вечером, чтобы уйти от полиции, если мы хотим, чтобы нам, как прежде, никто не мешал беседовать… Отец сейчас очень зол на вас… Вы стали ему подозрительны. Он приписывает вам все те изменения, какие он находит во мне.
Принц сделал паузу, чтобы выплюнуть красную слюну в плевательницу для бетеля.
Рено не мог отвести глаз от этого прекрасного спокойного лица, ярко освещенного электрическим светом. Его круглые ноздри раздувались, чернея над ртом, словно две родинки, а губы были того самого цвета, какой коллекционеры китайской монохромной живописи называют «цветом печени мула». Лицо Жали анфас дышало олимпийским спокойствием некоторых статуй Ангкора[33]33
Ангкор (в западной Камбодже) – место расположения древней столицы кхмерских царей с сохранившимися руинами храмов IX–XII вв.
[Закрыть]. А профиль – изогнутая линия скул, слишком округлые черты, слишком нежные припухлости, всегда приоткрытый рот – сообщал ему вид беспомощный и наивный, портивший впечатление и делавший его похожим на молодую обезьянку. Но если смотреть на него слегка сбоку, то свободно спадавшее вниз платье, обнаженные руки, являвшие взору ярко-розовые ладони, сложенные в жесте «призываю землю в свидетели» – как его преподносит буддийская иконография, делали его вылитым юным сыном шакьев и «Ребенком среди докторов».
– Ваше Королевское Высочество очень похожи на Совершеннейшего, – сказал Рено.
– Да будет мне в помощь его пример! – ответил Жали.
И замолк. Какой такой долг и какая такая необходимость столкнулись за этими хитрыми, скрытными, почти невидимыми в уголках плоских век глазами, плотно спаянными своим разрезом с основанием носа? Потом добавил:
– Будда сумел покинуть отца. Вспомните вот это.
И он процитировал одно место из потускневших от времени «Писаний»…
Слова, переложенные на франко-английский, звучали в устах желтокожего юноши как-то странно.
Рено знал, что эти люди умны. Но не думал, что они столь скоры на действия. Охрана и вправду была удвоена. Ночью всюду стали расхаживать патрули…
Несколько дней спустя после завтрака он вдруг почувствовал острейшую боль. Он отправил проверить мочу в аптеку католической миссии, которая дала ответ, что анализ хороший. Поскольку боли не прекращались, он отправился на осмотр к святым отцам сам. Те сделали повторный анализ и обнаружили следы мышьяка. Рено удивился, что моча, которую он послал им двумя днями ранее, оказалась в норме.
– А была ли она вашей? – с улыбкой спросили святые отцы.
Рено весьма позабавила эта попытка отравления, и он стал сам варить себе рис и какао в своей комнате.
«Мне уделяют слишком много внимания, – подумал он. – Я польщен».
Прошло две недели. Произошедшие события вместо того чтобы отдалить молодых людей друг от друга, еще больше сблизили их.
– Как далеко может зайти отцовская любовь? – спросил однажды Жали.
«Она уже зашла слишком далеко», – подумал Рено.
– Все равно меня ничто не остановит… – добавил принц. – Судьба моя – не здесь. Это стоячее болото невежества…
– Достичь счастья можно всюду, тем более – здесь, – возразил Рено, – а приключения – это всего лишь личный опыт.
– Когда происходишь из королевского рода, тебе важнее другие, а не ты сам, – сказал Жали. – Мы – маленький, отсталый и почти дикий народ. Все, что на свете происходит важного, обходит Карастру.
– Исторически, – возразил ему друг, – как раз низшим и дано указывать путь. В наше время речь идет не столько о том, чтобы побудить торжествовать разум, сколько о том, чтобы заставить отступить материальную сторону. Между тем у вас ее ни во что не ставят, отсюда и ваша древняя мудрость, и ваша жизнь, всегда открытая миру невидимого, и ваш душевный покой, и ваше величие. Благодаря им вы не моргнув глазом получили первые благодеяния от белых – их машины, оружие, спиртные напитки, пригодный для экспорта персонал.
– Очень легко победить там, где нет борьбы!
– Истинные клады Востока находятся не в вековых джунглях индуистского мышления, – добавил Рено, – не на рисовых полях эгоистичного Китая, не в шлаке доменных печей Осаки, не в изборожденных морщинами от тракторных гусениц песках Месопотамии или в зарешеченных темницах, покинутых сбросившими паранджу девицами, принявшими московский Серп за Полумесяц, – они здесь, монсеньор! Именно здесь Европа должна бы учиться очищению от пороков. Помогите же ей!
Призыв к солидарности прозвучал слишком по-западному, чтобы тронуть принца. Он лишь развел руками:
– Мир сотворен не для одной только белой расы. Если она гибнет от своих собственных рук после столь же блестящего, сколь и короткого господства, то час ее, видно, пробил и теперь, видимо, пришел наш черед. Во всяком случае, если даже дело идет лишь о моем личном опыте, никто не смеет держать меня в неведении. Если понадобится, я поступлю наперекор воле отца. Все, что не имеет отношения к моей цели, для меня исчезло и ушло навсегда.
Рено бросил на друга пытливый взгляд.
Глаза принца были закрыты, он сидел, скрестив ноги в позе лотоса, держа одну руку на ступне.
– Нужно все познать, – прошептал он, – нужно все познать.
Слышался стрекот цикад. От реки донеслись протяжные фабричные гудки, отраженные и усиленные гладью воды, во дворце ударили в бронзовый гонг. И снова воцарилась тишина.
Принц позвонил по телефону адъютанту. Коротко отдал какие-то распоряжения. Затем, обернувшись к Рено, сказал:
– Через четыре ночи в Гольф-клубе будет праздник. Мы воспользуемся случаем… Приготовьтесь к долгой поездке. Не забудьте про фары дальнего света.
II
Когда Рено приехал и поставил машину у края площадки для игры в гольф, он еще ничего не знал о характере поездки, которую предстояло совершить. На всякий случай он залил полные баки бензина, сменил масло, захватил все свои бумаги, он ждал. Возможно, они отправятся в самый дальний дворец принца – в Северный, что стоит в горах, в самой гуще тиковых лесов, где население – верное и преданное и где телохранители покрывают татуировками все туловище, кроме ладоней и подошв.