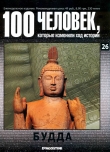Текст книги "Парфэт де Салиньи. Левис и Ирэн. Живой Будда. Нежности кладь"
Автор книги: Поль Моран
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Парфэт де Салиньи окидывала властным взором свое маленькое стадо вольнодумцев; под холодным оком хозяйки салона ее пылкие приверженцы (в Нанте предпочитали, вполне в каббалистическом стиле тех времен, называть их адептами), забывали свое захолустное житье-бытье, свои семейные заботы, своих благоверных, дома в это время бдительно следящих за сохранностью варенья в шкафу. Любопытство, которое испытывала мадемуазель Салиньи к человеческим существам или к коллекциям их идей, было сродни той любознательности, которая в детстве вдохновляла ее собирать гербарий в компании господина аббата. Она прикасалась к истине, к страданиям и вообще к жизни лишь кончиками ногтей. Она считала себя женщиной оригинальной и свободной от предрассудков, однако в ее семье все восхищались ею, что весьма убедительно свидетельствовало об ином: она не стала ни той, ни другой. От католицизма времен своего детства Парфэт сохранила назидательный тон и уважение к иерархии. Ее презрение к привилегиям было всего лишь привилегией наоборот. В ее салоне ощущалась потребность в постоянном притоке информации, которая, как это ни странно, вместо того чтобы обогащать ум, перегружала и притупляла его. Слишком частый пересмотр ценностей и систем переворачивал пирамиду устоявшихся знаний, отчего пирамида нередко упиралась в землю не своим основанием, а вершиной.
«Мадемуазель де Салиньи очень экстравагантна, – шептались в Нанте старые дамы, – но какой все-таки ум!» На самом же деле не было человека менее экстравагантного, чем Парфэт: она контролировала свои вкусы, а все ее страсти были тщательно отшлифованы; ее идеи, о которых говорили, что они влекут ее на нехоженые тропы, просто-напросто выражали присущее многим женщинам амбициозное стремление повелевать модой. Это была всего лишь провинциальная форма борьбы против провинциального захолустья и забвения. Конец света представлялся мадемуазель де Салиньи сентиментальной идиллией, рожденной игрой слегка по-кальвинистски мыслящего ума. Она не могла быть сторонним наблюдателем процесса, не участвуя в нем. «Это безумно интересно», – любила повторять она с английским акцентом по поводу новаций в любых сферах. С упорством, странным образом сочетавшимся у нее с полным отсутствием сосредоточенности, она хотела присутствовать одновременно везде и всюду и потому с легкостью перескакивала от одной доктрины к другой. Филантропия, добродетель, греческие туники, мечты о единстве под сенью Верховного существа заменили ей балы-маскарады в Оперном театре, шарады и ломбер. Эта атеистка исповедовала одну религию – она поклонялась каждой новомодной идее.
– Я не хочу, чтобы азарт и развлечения нарушали бы здесь атмосферу сердечности и тихие дружеские беседы, – говорила она, защищая чистоту своего святилища от настойчивых игроков, желавших иметь в ее салоне столик для игры в реверси.
Не оттого ли, что предшествующее поколение афишировало свой цинизм, не оттого ли, что герцогиня де Грамон посмела как-то заявить, что «нравственность создана лишь для простого народа», а мадам де Матиньон, урожденная Клермон д’Амбуаз, говаривала, что «репутация отрастает, как волосы», Парфэт превозносила добрые нравы? Изысканная, как все те, кто не имеет ничего, кроме изысканности, она точно соответствовала моменту и как бы несла в себе все те условности, которыми был отмечен появившийся всего месяц назад Конвент. Заменив любовь к мужчине любовью к ближнему, мадемуазель де Салиньи оставалась барышней, уважающей обычаи, и не ее была вина, что эти обычаи менялись.
– Мадемуазель де Салиньи – это сама Революция, – заметил как-то господин де Тримутье.
– Если вы правы, то Революция закончилась, – ответил тогда председатель суда.
– Что обсуждается сегодня? – спросил шевалье сидящих в последнем ряду.
– Всеобщее счастье, – усмехнулся председатель суда.
Выступал господин де Тримутье; он широко расставлял руки, пытаясь объяснить слушателям, что такое телеграф. Его голос был исполнен такой нежности и страстности, что издали могло показаться, будто он поет.
– Марсель, – говорил он, – тогдашний комиссар по морским делам в Арле, в 1702 году предложил королю оптический инструмент, позволяющий установить связь на расстоянии двух лье…
– Науки щедро одаривают нас своими благодеяниями, – пробурчал господин де Вьей Ор.
– …мадемуазель Шуэн, любовница дофина, приказала затем провести в Люксембургском саду два эксперимента, которые привели Фонтенеля в такой восторг, что он уже тогда стал мечтать о возможности посылать депеши из Парижа в Рим…
– Когда Ватикан научится телеграфировать Богу, в мире наступит полный порядок, – прошептал шевалье.
– Потом Монж предложил сигнальную машину, установленную в Тюильри. И наконец, шесть месяцев назад Шапп предложил Законодательному собранию некий аппарат, который в настоящий момент изучает комиссия, состоящая из Лаканаля, Дону и меня самого. Так вот, именно эта модель, мадемуазель и дорогие граждане, и будет показана вам в действии после того, как мы сейчас подкрепимся.
Все только и ждали этой передышки, чтобы подняться.
– Вот ведь что потрясает воображение! – с необычайным воодушевлением воскликнул, направляясь в сторону буфета, местный сборщик налогов. Его замечание прозвучало столь громко, что его тут же расценили как своеобразную лесть, лесть, адресованную той, о ком он нередко во всеуслышанье заявлял в городе. «Мадемуазель де Салиньи прекрасна, как элегия».
Все окружили молодую хозяйку, словно желая выразить ей благодарность за славу и процветание, которые телеграф должен был вот-вот принести в Нант и вообще во Вселенную.
– Телеграф – это начало завтрашнего дня, – назидательным тоном произнес новый мировой судья.
– До сих пор мысль продвигалась ползком, а скоро она полетит, – изрек сборщик налогов.
– Быстрее стрелы! – подтвердил счетчик голосов в районном национальном собрании.
– …Ради процветания всех народов, – заявил прокурор-синдик.
Процветание народов, права человека, трехцветное знамя, Лафайет, Брут и телеграф были нечем иным, как новыми одеяниями все той же старой алчной буржуазии, по-прежнему безжалостной к обездоленным и несчастным, несмотря на все свои филантропические заявления. Эмигрировать она отказывалась не столько из чувства долга, сколько по причине апатии, свойственной имущим классам, обреченным погибать из-за своей неподвижности.
Мадемуазель де Салиньи с горячностью воспринимала все новое, каким бы оно ни было, она испытывала ностальгию по будущему и пылко одобряла все, что только начиналось. Эта девственница жаждала все новых и новых рождений, принимала, как подарки, модные идеи, раздвигавшие научный горизонт, географические открытия, новых авторов, неизвестные системы. Когда министром был господин де Калонн, ее считали чувствительной англичанкой, сторонницей конституции, немного позже она стала швейцарской поселянкой, любительницей гуманитарных наук, сейчас же она была римлянкой, пылающей любовью к свободе, ненавистью к тиранам и готовой идти защищать завоевания Республики на самых дальних ее рубежах.
Она, само собой разумеется, как восходящее солнце, приветствовала Революцию, которая представлялась ей строгой, несущей мир и порядок. Учредительное собрание исчезло. Законодательное собрание только что уступило место Конвенту, восстание становилось всеобщим, буря оборачивалась ураганом, но Парфэт де Салиньи сохраняла в своем прекрасном особняке культ Золотой Середины, подкрепленный натурфилософией. Ей удавалось сохранить в своем салоне тот радостный порыв, с которым в 1789 году депутаты Национального собрания клялись в знаменитом зале для игры в мяч добиваться принятия конституции. Революция, которую называли «роскошью бедняков», с недавних пор стала роскошью всех Бабю де Салиньи.
Висевшие в библиотеке двойные портьеры из гродетура не пропускали зимние ветры, дующие сквозь щели. Настоящая светская канонисса, мадемуазель де Салиньи разливала шоколад из желто-палевой шоколадницы, украшенной изображениями приключений Телемаха, и теплый взгляд ее карих глаз излучал нежность, гармонировавшую с нежностью льющегося светло-коричневого напитка. Ее поклонники провозглашали на все лады, что эта девушка явилась в мир подобно Революции, дабы посеять в нем зерна счастья, и каждый из них пытался удивить ее требовательный разум, дабы найти верный путь к ее чувствительному сердцу. Но непреклонная в глазах умеренных, мадемуазель де Салиньи на самом деле склонялась, как и сама Революция, перед силой пришедших последними, которые, как ей казалось, лучше, чем их предшественники, выражали ее идеи. Она начинала как поборница чистоты, а заканчивала как сторонница чистки.
Поэтому внешне мирные и безмятежные собрания в особняке де Салиньи на самом деле являли собой образ смутных времен, переживаемых тогда Францией. Вокруг Парфэт, чья склонность примыкать к последнему новшеству была общеизвестна, велась ожесточенная борьба. Разве не она помогала в составлении наказов третьего сословия депутатам Генеральных штатов? Разве не она была Великим Магистром шотландской масонской ложи? Будучи женщиной, она любила новое, то есть – победителей. Один за другим в ее глазах возвышались: во времена клятвы в зале для игры в мяч – господин де Вьей Ор; потом, в эпоху Конституции – капитан Пьедерьер; после мессы на Марсовом поле – аббат де Пире, поклонник «Истории Магомета», затем гражданин Оксижен Ботиран, по наущению «болота» читавший в Конвенте трактаты, осуждающие деспотизм; в настоящее время царил господин де Тримутье (вот только долго ли это продлится?), и под напором его страстного увлечения наукой особняк де Салиньи последовательно отмечал Воскресенье Арифметики, Воскресенье Сомнамбулизма, Воскресенье Месмеризма; на Троицу перед восхищенной аудиторией читали работы Вольтера о термометре и статьи Монтескье об эхе.
Сегодня настал черед Телеграфа.
Эра комедий и водевилей завершилась. Мадемуазель де Салиньи заменила легкие ужины плотными «республиканскими» завтраками, задававшими тон в Нанте; каждый ел, стоя у стола из красного дерева в форме буквы X, и обслуживал себя сам, на английский манер. «Мадемуазель», как называли Парфэт, бледная, точно севрский фарфор, в своем платье нимфы, но нимфы целомудренной, скорее вызывавшем мысли о музее, чем об алькове, уделяла еде рассеянное и по-спартански скромное внимание.
Господин де Вьей Ор, склонившись к Парфэт с грацией прошлогоднего альманаха, беседовал с ней тем умильно-ласковым тоном, какой употреблял, когда тихо-тихо, с придыханием говорил даме, занятой каким-нибудь вышиванием: «Ах, как это изящно! У легендарной Арахны и то не вышло бы лучше!» Шевалье нежно уговаривал: «Мадемуазель, умоляю вас, выслушайте поэму господина Делиля; это превосходит по своей красоте и „Времена года“ господина Тонсона, и очаровательные „Ночи“ господина Жонга». А господин Ботиран, столь же многословный, как и его идол, господин Ролан, обволакивал хозяйку своими длинными фразами, объясняя ей, почему министр внутренних дел, следуя совету госпожи Ролан, уходит в отставку.
– Такие новости за четыре су можно узнать в любом читальном зале! – ворчал председатель суда. – Этот хват пытается перепевать подслушанное на заутрене Величание!
– А вы заметили, что делает этот наш гневливый Грапен? – шептал ему на ухо шевалье. – Вы только посмотрите, как он прижимается к мадемуазель де Салиньи.
– Увы! Сегодня все сословия смешались! Философия все сломала. Демофиль Грапен, оживленный и раскрасневшийся, походил на перебравшего горячительных напитков члена Братства Крови с картины Пурбюса.
– Большое спасибо, – сказал он, когда Парфэт приблизилась, чтобы налить ему шоколаду. – Но только дайте мне лучше, гражданка, вместо шоколада бокал вина.
По сравнению с методичным господином Тримутье Грапен смотрелся, словно знахарь рядом с врачом. Когда он объяснял мадемуазель де Салиньи, которая, подобно флюгеру, делает поворот в сторону любого нового веяния, почему ей необходимо преобразовать салон Друзей Конституции в народный клуб, его гипнотические глаза бывшего иезуита словно зажимали ее в тиски. Он не обсуждал, он утверждал. Его мысли текли вольно, широко и безостановочно. Сей адвокат, выходец из Нижней Бретани, презирал юриспруденцию и резал прямо, как геометр, по допотопным напластованиям феодальных обычаев. Нант много говорил о нем, и Парфэт в течение нескольких месяцев просила: «Приведите ко мне господина Грапена, это страшно интересно!» Она говорила это так, словно речь шла о какой-то невероятно сильной горилле, которую ей должны были доставить с недавно прибывшего фрегата. Наконец, мировой судья привел Грапена в особняк де Салиньи и Парфэт сразу же восхитилась его вызывавшей трепет неистовостью и той веселой яростью, с которой он не оставлял камня на камне от прошлого, трубя на его руинах гимны победы. При его появлении господин де Вьей Ор пророчески изрек: «Ессе homo, – вот он, человек; теперь талантливых людей задавят люди системы».
– Господин Грапен хочет сказать нам несколько слов, – с мягкой деспотичностью в голосе произнесла Парфэт.
Ее адепты, беседовавшие, попивая кофе, замерли в изумлении. Демофиль Грапен поднялся на верхнюю ступень лестницы библиотеки и с этой трибуны обрушился на собрание.
– Гражданка, – сказал он, делая вид, что обращается только к мадемуазель де Салиньи, – на ученые демонстрации гражданина Тримутье я отвечу в двух словах: Республика не нуждается в телеграфе, она и без этих игрушек сумеет заставить деспотов отступить и вдохнуть в народы любовь к свободе.
И Грапен начал свою длинную речь, в которой холодная сталь слов «приносить в жертву» и темно-красный отсвет выражения «превратить в прах» встречались в каждой фразе.
– Битва при Вальми остановила внешнего врага. Теперь нам нужно уничтожить врага внутреннего: на смену вашим пресным рассуждениям должны прийти обыски домов и безжалостные разоблачения…
И Грапен жестикулировал так, словно держал в руке кинжал.
– Слышно, как сахар тает в чашках, – прошептал шевалье.
– Peccavi, – ответил председатель суда, – каюсь, грешен.
Все эти толстые животы, все эти носы, предназначенные для ношения очков, сидели и, удрученно копаясь в своей нечистой совести, испытывали желание возопить о пощаде. Они повернулись к мадемуазель де Салиньи, но не увидели в ее взгляде ничего, кроме пылкого желания искупления да еще того жалкого преклонения, которое провинции свойственно испытывать по отношению к центральной власти.
– Бдительность! – завывал Грапен. – Бдитель-ность!
– Какая буря… – заметил озадаченный председатель суда.
– Эта буря придет и очистит воздух, – ответила Парфэт.
– Все умеренные, опаздывающие, примкнувшие к нам в последнюю минуту, являются по сути мятежниками! – продолжал неумолимый Грапен.
– Друзья мои, давайте же никогда не будем мятежниками, – умоляла мадемуазель де Салиньи.
– Кем мы являемся – всего лишь кружком педантов или же политическим обществом? Мы должны просвещать народ, показывая ему пример.
– Так покажем же народу пример, – воскликнула Парфэт, переходившая в этот момент из лагеря научного пустословия в лагерь гражданской разнузданности.
– Так будем же в Нанте оком Парижской Коммуны!
– Да, – одобрила Парфэт, преисполненная надежды, – и якобинцы допустят нас в свое лоно.
– Якобинцы не допускают, гражданка, они исключают.
А про себя Грапен в это время подумал: «Эта дочь торговца неграми и сама тоже не больше, чем раба».
– Но ведь тем самым вы отрицаете наши же собственные первоначальные установления, все наши принципы… – пытался возражать господин Ботиран.
– Так приказывает Марат, гражданин! – крикнул Грапен.
– Марат не злой человек, – вздохнула Парфэт, которой вдруг захотелось завести себе недавно вошедшие в моду сережки в виде маленьких золотых гильотин.
– Этого требует Дантон!
– Дантон – это гигант и отец нации, – прокомментировала мадемуазель де Салиньи с той услужливой готовностью согласиться, с тем поспешным желанием сказать «да», которое так характерно для придворных.
Побежденная, сдавшаяся, она была готова простодушно приспособиться ко всему, что несла с собой Революция, но Грапен не слушал ее. Он был мужчиной – представителем нового мира, которому хотелось занять место старого мира; а она была всего-навсего женщиной, стремившейся выжить любой ценой, даже ценой отказа от нормальной жизни, и потому она отвечала на удары лаской.
– Ваш провинциальный федерализм должен быть при-не-сен в жер-тву, – категорично заявил оратор, завершая речь. – Я закончил! Да здравствует Нация!
Мадемуазель де Салиньи встретила его у нижней ступеньки и пожала ему руку; Грапен очаровывал ее слабую натуру, ее нестойкий, податливый ум. Она произнесла фразу, очень естественную в устах представительницы гибнущего общества:
– Демофиль, – сказала она, – нас с вами ничто не разделяет…
Господин Ботиран снова вмешался:
– Простите, нас многое разделяет: да здравствует Нация, согласен, но в то же время да здравствует Король!
– Короля больше нет! – возразил побагровевший Грапен.
– Вам поставят другого… – намекнул шевалье, являвшийся оппортунистом в силу своего орлеанизма.
– Людовик XVI осужден еще до суда! – взвыл Грапен.
– Вы слишком далеко заходите…
– Я готов зайти еще дальше: знайте, что Нанту не нужны консервативно настроенные революционеры, не нужны революционеры-ретрограды, ему нужны цензоры, часовые, судьи!
И он добавил зловещим голосом:
– Ему нужны злодеи.
– Да, именно злодеи, и тогда Франция будет спасена! – горячо поддержала его мадемуазель де Салиньи.
Она провела платочком по краю век, увлажнившихся от сладких слез республиканской добродетели.
– Взгляните на мадемуазель де Салиньи, – промолвил шевалье, – она льет настоящие слезы. Эти глаза суровы лишь для нас.
– Она прекрасна, как «Девушка, оплакивающая мертвую птицу в клетке», – ответил председатель суда. – Ах, если бы Грез мог увидеть ее сейчас!
– Как все-таки прав был наш век, когда изобрел рыдания, – заметил шевалье.
– Подведем итоги, – сказал председатель суда, покидая особняк де Салиньи. – Nota bene…
(Он так часто останавливал шевалье за пуговицу жилета, – всякий раз за одну и ту же, – что эта пуговица в конце концов повисла на нитке.)
– Ситуация такова, что требует от нас, чтобы мы уделили ей максимальное внимание. Не будем больше говорить ab irato[5]5
Движимый гневом (лат.).
[Закрыть]. Во времена, когда в обществе слушали меня, нашим лозунгом был «Король и Нация». Потом он сменился лозунгом «Нация и Король». И вот теперь мы пребываем в ожидании того момента, когда короля не станет вовсе…
– …Donee eris felix[6]6
Donec eris felix, multos numerates amicos. – Пока ты счастлив, у тебя много друзей (лат.) (Овидий, «Скорбные элегии»).
[Закрыть], – начал шевалье, который, предчувствуя, что председатель суда вот-вот приведет какую-нибудь очередную цитату, опередил его. Надо сказать, господин де Вьей Ор имел слабость к банальной оригинальности клише, отчего ему случалось быть и глубоким, как мысль Паскаля, и суетным, как кончик хвоста собаки Алкивиада[7]7
Афинский полководец и политический деятель Алкивиад, заметив, что сограждане восхищаются пушистым хвостом его собаки, приказал его отрубить, а в ответ на неодобрительные замечания по этому поводу сказал, что все идет своим чередом, что теперь афиняне занимаются собачьим хвостом и не мешают ему управлять.
[Закрыть].
– Да, – продолжал магистрат, – Грапен сегодня не скрыл этого от нас. Они будут рассматривать короля как общественную опасность.
– Король такой скучный… – вздохнул шевалье.
– Это одно и то же. Обстановка складывается пренеприятная, шевалье…
– А мы танцуем на вулкане, – закончил д’Онсе к неудовольствию того, кого Грапен называл «одним из бесстыдных пережитков старого режима».
– Именно это я и собирался сказать! Не перебивайте меня все время! Особняк де Салиньи – микрокосмос, где сталкиваются, где следят друг за другом все социальные слои, и этим он похож на Конвент: Грапен – это санкюлотство, входящее в наш кружок.
– Не будем злословить о санкюлотах, чтобы не терять понапрасну время… – предложил шевалье.
Это замечание отнюдь не улучшило настроение председателя суда.
– Вы видите, – с горечью промолвил он, – как растет влияние этого Грапена. Парфэт говорит уже не «мудрый Ролан», а «этот осел Ролан».
– От языка салонов она перешла на язык улицы…
– Градации политического спектра неотчетливы, как оттенки в коробке пастельных красок. Начав с белого цвета, Парфэт сама не заметит, как придет к кроваво-красному колориту. Вы обратили внимание, что она больше не называет Дантона «монстром», а говорит: «этот гигант»? Но всему приходит конец: если мадемуазель де Салиньи хочет якобинцев, то это еще не значит, что якобинцы захотят ее. Умеренным, ослабляющим его, Конвент предпочитает эмигрантов, за счет которых он только и живет; без эмигрантов не было бы битвы при Вальми, не было бы и победы. Дантон не нуждается в похвалах какой-нибудь мадемуазель де Салиньи; они компрометируют его. In globo[8]8
В общем (лат.).
[Закрыть], вот что я хочу вам сказать: пройдет немного времени, и наша Парфэт будет съедена, вся целиком, вместе со всем своим энтузиазмом.
– Во всяком случае, – заметил шевалье, – Грапен уже поедает ее глазами. Рвение к общественному благу неплохо сочетается у него со стремлением к благу частному. Совершенно очевидно, что он зарится на ее деньги.
– Не думаю, что он метит так высоко, – возразил председатель суда. – Мне показалось, он смотрел главным образом на столовое серебро.