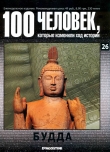Текст книги "Парфэт де Салиньи. Левис и Ирэн. Живой Будда. Нежности кладь"
Автор книги: Поль Моран
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Увы! Бесконечность международных распрей удручает Жали. И он замыкается в себе. Больше никаких излияний. Он замолкнет, он будет жить для себя, будет учиться и попытается во что бы то ни стало сохранить (а это очень важно для азиата из высшей касты) безмятежное спокойствие.
Рекламные щиты у вокзала Виктории – «САМАЯ КОРОТКАЯ ДОРОГА В ПАРИЖ!» – похоже, указали ему новое направление. Французы – народ тонкий и умный, как говорил Рено, когда не был зол, они наверняка куда лучше британцев поймут немое красноречие того примера, который он отныне намерен подавать…
Кстати, последователь Будды должен быть все время в пути. Сезон дождей скоро кончится – в такое время обычно отправляются в дорогу. Если он не подумал об этом раньше, то только потому, что времена года здесь, на Западе, разграничиваются весьма нечетко…
Отныне и единственно ради себя самого шесть раз на дню и шесть раз ночью Жали будет стараться мысленно охватить взором весь мир и заработать себе спасение.
II
Томас Шеннон и Гамильтон Кент останавливаются в Пон-де-л'Арш, на берегу Сены. Их вольный непринужденный вид явно выдает в них студентов крупнейшего английского университета: непокрытые головы, костюмы из кремовой фланели, туфли-лодочки, тросточки с набалдашниками на негритянские сюжеты, приспущенные носки, сумки с висящими замочками. В автомобиле, среди разнообразной клади, торчит пыльный призрак какой-то женщины: это сестра Кента. Они втроем прибыли из Гавра и направляются в Париж. У Шеннона, типичного ирландца, довольно бедного, тем не менее манеры таковые, будто у него «денег – полная мошна», так что все называют его «милордом». В распахнутом вороте его рубашки на груди видна татуировка – большой четырехмачтовик. Он у них всем заправляет. У его друга Кента внешность скромного, изголодавшегося человека. Это – сын Юлия О'Кента из Венсенна (штат Индиана), Главного Дракона местного отделения ку-клукс-клана, хромового магната – пуританина, парня, который сделал себя сам, который долгое время сморкался в кулак, а нынче может грозить всем премьер-министрам на свете и пускать дым сигары в лицо королям. Розмари Кент, только что сошедшая с океанского парохода «Левиафан», прибывшего из Нью-Йорка, – девушка лет двадцати, гордость колледжа, она хороша как день.
Радость всей троицы, впервые в этом году садящейся за трапезу во Франции, ни с чем не сравнима. Для американцев в зависимости от их происхождения европейские страны являются в той или иной степени родным домом: ирландские политические деятели обнаруживают здесь дрогедские свинарники, люди из Нового Йорка открывают для себя старый Йорк, евреи – чикагские короли – умиляются при виде своего гетто в Моравии, словно великая актриса, навестившая мать-консьержку. Но Франция предлагает любое прошлое на выбор, кроме своего собственного. Быть может, именно поэтому она всем и нравится. Жизнь здесь почти ничего не стоит. Здесь все дышат тем запахом старой, с гнильцой, цивилизации, тем ароматом карнавала, который романтики ищут в Венеции, а тонкие натуры довоенного времени – в иных домах Китая.
– Когда я во Франции, – признается Розмари, – мне кажется, что у меня вечные каникулы.
Шеннон:
– Париж для жителей Штатов – это одновременно и холостяцкая квартирка и загородный домик.
– Более того, – добавляет Кент. – Франция – это страна, которая всегда терпела лишения, только чтобы позволить себе роскошь платить блестящим индивидуальностям; она веками жертвовала всем ради них, и была права, так как именно они научили мир достойно жить и мыслить. Наша дорогая Америка – полная тому противоположность: это чудесная машина по производству стандартного счастья, которое удовлетворяет огромное большинство, но душит элиту.
– Да, мы задыхаемся.
– Зато теперь, – перебивает Шеннон, – пароход «Мэйфлауэр» поможет нам пересечь Атлантику в обратном направлении. И путь его пройдет через Панамский канал!
– Милый, хохочущий Париж, не поддающийся токсинам! Милая Франция, оставшаяся последним верным зеркалом, у которого мужчины могут узнать, говорят ли им правду, а женщины – хороши ли они еще!
Кент ставит свой радиоприемник прямо здесь же и начинает ловить волны. Все надевают наушники, и Европа, преодолев воздушные пространства, со змеиным шипением обрушивается на невинную Нормандию. Слышатся джаз-банд из Мадрида, курсы котировок на хлопок из Манчестера, обрывки югославской лекции о сонной болезни, и все вдруг заглушает вагнеровский музыкальный фестиваль, пробившийся из невидимого Мюнхена. Над зеленой лужайкой разносятся радиоголоса всех народов. В этот момент во дворе трактира «Мельница-Кокетка» появляется Жали.
Ободренный деревенским видом харчевни, Жали вошел внутрь, чтобы спросить молока и фруктов – свою обычную еду. Однако, переступив порог, он очень удивился, увидев вместо гарсонов в нормандском наряде (набитые соломой деревянные сабо и хлопковые колпаки), вместо глиняных кувшинов с сидром и нависающих балок, вместо всего этого опереточного убранства – солидный ресторан с диванчиками светло-желтого бархата и метрдотелями во фраках. Он хотел уже повернуться и уйти, как вдруг:
– Монсеньор! Какая удача! Теперь мы вас никуда не отпустим! Вы – единственная личность, от желания встретить которую мы просто умирали после того, как вы так благородно покинули этот кембриджский детсад.
– Да! Беда профессоров в том, что они считают, будто их университет – это вся вселенная!
– Клянусь святым Патриком, когда видишь подобные вещи, начинаешь гордиться, что Ирландия не имеет общей территории с Европой!
У Шеннона с вечно взъерошенными волосами и неправильно застегнутыми пуговицами, с вечно ошарашенным видом, словно его только что подбрасывали вверх на одеяле, имелась лишь одна страсть – ненависть к Англии, и каждый, кто был с Англией не в ладах, сразу делался его другом: именно это связывало его с Кентом. Жали, разумеется, являлся жертвой англичан. А Шеннон имел очень большое влияние на друга и на его сестру Розмари. Та смотрела на принца во все глаза.
Жали добирался до Парижа пешком, шагая по дороге, ведущей туда из Дьеппа и пробавляясь подаяниями и поденной работой на фермах. Он специально сделал крюк и зашел в Экуэн, где мать Рено не пожелала принять его в своем замке, а сторож объяснил, что «в поденщиках теперь не будет нужды до самой жатвы». Он два дня провел у могилы Рено на коммунальном кладбище. На принце все еще была одежда того бедняка, которому в Кембридже он отдал в обмен свой костюм от Пуля[58]58
Знаменитый лондонский портной.
[Закрыть], то есть вельветовые штаны, затянутые ниже колен ремешками, красный шарф и старая шоферская куртка из черной кожи.
Кент представил его своей сестре Розмари. Она присела в поклоне.
– Ты знаешь, это он не пожелал выдать лисицу. Это из-за него мы дрались тогда, когда Шеннон чуть не потерял глаз!
– Я покинул Лондон три недели назад, – сказал Жали, – я отправился в путь как только кончился сезон дождей – согласно предписанию Будды. Я переплыл море тайком, на грузовом судне, поскольку у меня нет паспорта.
– Нет паспорта?!
– Да. Мои приключения дискредитировали нашего посланника. Он уже не смог больше, как ему подобало, завтракать в «Тарфе». Ему пришлось закрыть Миссию и уехать в Шотландию.
– Ну и, как навербовали вы прозелитов? – спросил Кент.
– Ни одного. Французы не религиозны. Я думал, что потерпел неудачу в Лондоне оттого, что начал со слишком большого города, однако здесь, в деревне, оказалось еще хуже: никто меня не слушает, когда я рассказываю о Совершеннейшем. А между тем, когда он проходил по сельской местности, люди выходили его встречать… Под Руаном на меня составили протокол. Один сельский священник подал мне хлеба, я сказал ему, что явился во Францию, чтобы опрокинуть зло – подобно тому, как слон опрокидывает тростниковую хижину. «Зло и есть слон, а ты – тростник, – сказал он. – Народ у нас недобрый». – Значит, я смогу увидеть злых слепцов, – сказал я. – Они будут оскорблять тебя… – Но это лучше, чем забросать камнями… – А если они сделают и это? – Я скажу им: ваша доброта так велика, ибо вы не убили меня. – А если они тебя убьют? – Я скажу: спасибо вам за то, что освободили меня.
– Изумительно! How wonderful[59]59
Как красиво! (англ.).
[Закрыть]! – воскликнула Розмари Кент.
– Что бы вы хотели на завтрак?
– В моих правилах – принимать то, что дают, ничего не прося и ни за что не благодаря.
– Скажите, много в Азии таких принцев, как вы?
– Нет, думаю – я один.
В меню значился омар по-американски и заяц в сметане.
– Я возьму только молоко и фрукты, – заметил Жали. – Впрочем, у меня и денег больше нет.
– Что за удивительное существо! – воскликнул Кент. – Знаете, сестра шепнула мне сейчас на ухо, что, послушав вас, она ощутила желание спасти свою душу.
Розмари в знак уважения протянула Жали несколько веток сирени:
– А цветы, монсеньор, не опасны для души?
– У меня нет души, – ответил он. – Ни у кого нет души.
– И вы, вы это говорите?
– Ну да. Нет такой вполне определенной вещи под названием «душа». Возьмем, к примеру, ваш автомобиль. Его мотор – это автомобиль?
– Нет.
– А колеса – это автомобиль?
– Конечно, нет.
– А кузов – это автомобиль?
– Еще меньше.
– Так вот, если ни мотор, ни колеса, ни кузов не являются автомобилем, равно как и само слово «автомобиль», то и слово «душа» не обозначает никакой определенной вещи. Существует лишь последовательность явлений и ощущений; они связаны между собой подобно продвижению по лесу обезьян, которые хватают одну ветку, отпускают ее, хватают другую и так далее. Будда также учил, что не существует «Я», есть лишь видимость того, что ваши журналисты называют личностью.
– Вот и пришел конец этому «Я», этому европейскому сторукому идолу! – воскликнул Шеннон. И с присущим ему блестящим красноречием ударился в рассуждения, от которых ничего не остается в памяти.
Жали приступил к завтраку и уже больше не разговаривал. Он никогда не умел делать оба дела одновременно, как это умеют белые. Он молчал, зато смотрел на Розмари. Он впервые ел в присутствии женщины. Она курила, задавала вопросы, улыбалась, пудрила носик, и ему никак не удавалось уследить, когда же она подносит пищу ко рту. Трапеза закончилась, а Жали казалось, что девушка и не начинала есть. Невозможно было представить себе существо более красивое – с короткими, цвета соломы, волосами, с тугими завитками над ушами, с телом ангела-атлета, обрамленным нервными, выразительными, немного длинноватыми руками и закинутыми высоко одна на другую ногами: ни одного дня грусти нельзя было прочесть в родниковых глазах, ни одного дня недомогания – на коже, ни одного сожаления в уголках рта: совсем гладкое личико.
Она смотрела на Жали, полуоткрыв рот.
– Чувствую, к своему совершеннолетию моя сестра сделается буддисткой, – сказал Кент.
– Ведь мы захватим вас с собою в Париж? – спросил Шеннон, очень хотевший привлечь внимание своим въездом в город по дорожке Булонского леса.
– Нет, я предпочитаю идти пешком. Я буду там через три дня.
– Где вы будете жить? – спросила Розмари.
– Нигде, это не имеет значения.
– Но ваш адрес? – У меня его нет. Я ничего и никого не жду.
– А мы остановимся в гостинице «Дюпюитрен». Однако не хотите ли вы сказать, что у вас нет счета в банке?
– Да, у меня его нет. Я не обладаю более ничем, кроме себя самого.
– Монсеньор, как отразилось на вас то, что вы больше не богаты?
– Это возвратило мне слух, зрение и аппетит.
– А еще говорят о привилегиях богачей! – Богачи являются привилегированными в том смысле, что, имея все, они могут гораздо скорее, чем бедняки, понять, что все это – ничто.
Он ожидал от нее презрительного взгляда. Но она в упор смотрела на него с какой-то острой и тонкой душевной проницательностью в глазах, с какой-то присущей только блондинкам властностью, с каким-то особым сиянием и солнечным очарованием. Она добавила:
– Что ж, мне это нравится.
Жали проводил их на улицу. Там у него сжалось сердце. Их автомобилем оказалась новенькая синяя красавица «бугатти» класса «гран при». Если Кент предложит ему вести машину, он не сможет устоять.
– Не хотите подержаться за баранку? – со смехом бросил ему Кент, усаживаясь за руль.
– Мы наверняка тут же врежемся в дерево, – произнесла Розмари. – Не надо требовать от восточных людей того, чего они не умеют делать.
Жали задрожал.
– Верно, – ответил он спокойно, – я не смог бы отвезти вас туда, куда я направляюсь.
Жали вошел в Париж утром, через горбатый мост Обороны. Открывшаяся взору картина оседала в центре под тяжестью Сены, потом выпрямлялась, вытягиваясь в сторону Триумфальной арки. Он остановился в Булонском лесу, напротив ипподрома Лоншан, соблазнившись резвой речушкой и поляной с незатоптанной травой: любой пейзаж с водой представляется раем восточному человеку. Ничто здесь не напоминало поверхности стоячих прудов Карастры, обрамленных грязно-серыми банановыми деревьями, и чавкающего берега, на котором греются кайманы, подстерегая случайно забредших черных свиней: лишь заводы Блерио[60]60
Блерио Луи – французский авиатор и конструктор, уроженец Камбрэ (1872–1936).
[Закрыть] погрузили в воду сваи трех своих огромных труб. Жали уселся под ивой на берегу небольшого озера. Это место почти ничем не отличалось от того, где когда-то, скрестив ноги, сидел на своем желтом, сложенном вчетверо плаще Будда, размышляя об инобытии. И точно так же, как и тогда перед ним, согласно преданию, здешние дети пускали среди кувшинок бумажные кораблики.
Жали провел под ивой три дня: ему хотелось ухаживать за ней, причесывать ее; он смотрел на нее, нежно трогая рукой, ибо все деревья – братья той Священной смоковницы, под которой на Всеведущего снизошло просветление, все они – участники воздаваемых Будде почестей. Правы те, думал Жали, кто сказал, что дерево для буддистов – то же, что крест для христиан.
Его не тяготило ни воздержание во всем, ни целомудрие, не тяготило его и молчание: с помощью старых грез он предавался новым. Неподалеку от него по вечерам, после работы в цехах, члены союза коммунистической молодежи проводили занятия по уличному бою. Жали вспомнил слова Рено, говорившего, что французы часто ненавидят друг друга, и он стал соблюдать пост в покаяние за них. Потом, поскольку ночи были еще прохладны, он сделал себе шалаш. Это привлекло внимание сторожей: его убежище было разрушено. Он сравнил себя с Учителем, которого демоны тоже пытались изгнать из-под дерева, и улыбнулся.
Он перебрался через мост и нашел себе укрытие среди холмов между Медоном и Сен-Клу. На переднем плане здесь возвышались пузатые газгольдеры. А позади – Париж, словно животное, одновременно и пугающее огромной массой, и удивляющее тонкими оттенками красок. Со своего холма Жали мог объять его целиком, господствовать над ним. «Вот так же прекраснейшие беседы Учителя, – думал он, – всегда имели обрамлением лес, но такой лес, в котором город не исчезал из виду. Издали города представляются вечными; лишь приблизившись, замечаешь, что они постоянно подвергаются переплавке, словно монеты. По мере того как поднимаешься над ними, все случайное исчезает, остается только сущность».
И Жали медленно произнес фразу, которая казалась ему самой прекрасной на свете: то было описание Нирваны, короткое, но такое емкое, что разом и успокаивало и подпитывало его: «Сломлено тело, воображение погасло, все ощущения исчезли, развитие получило остановку, познание обрело покой». В этом – весь буддизм с его переходом, не гримасничающим и не трагичным, в инобытие, с его бесконечным покоем. Жали повторил эту фразу две тысячи раз. По мере повторений суть мысли сделалась настолько тонкой, что он перестал осознавать ее.
Поскольку буддистские правила запрещали находиться в городе с вечера до утренней зари, Жали спускался в Париж по утрам и собирал там милостыню, стоя молча с кружкой для подаяний на шее и потупив глаза, потом возвращался обратно. На кухне ресторана «Голубой павильон» ему давали поесть (по понедельникам он мог бы в изобилии запасаться там провизией на всю неделю, если бы учением не запрещалось хранить пищу одного дня до другого). Кроме того, через забор военной казармы в Сен-Клу бросали ему старую рваную форму, из которой он с помощью бечевки мастерил себе одежду.
* * *
Будучи свободен от семьи, не думая больше о Карастре, словно он отведал того самого лотоса, что заставляет забыть про родину, без труда преодолев этапы целомудрия и бедности, Жали не питал больше надежд на покорение мира, зато с каждым днем все успешнее покорял себя. То была привилегия самоотречения, обещание скорой метаморфозы. Конечно, Париж – это не Бенарес, и король с либеральными взглядами король в белых одеждах отнюдь не спешил выехать ему навстречу на слонах в окружении факельщиков, куртизанка Амбапали не поджидала его в манговом лесу, ни один министр не пригласил его на обед, чтобы потом попросить у него духовных наставлений, и ни один софист не заинтересовался им настолько, чтобы спуститься с горы только ради того, чтобы расставить ему словесные ловушки, но надо было принимать Запад таким, каков он есть.
Однако демон Мара, Лукавый Мара, неусыпно следит за всеми.
Пять часов утра – над Сен-Клу клубится туман. Занимается грязно-серый день цвета пустоты: в такое время обычно будят детей, чтобы дать им горькое слабительное, в такое время узнают о том, что им отказано в обжаловании. Несколько молодых людей в смокингах и несколько женщин в накидках из шиншиллы и расшитых золотом тканей проходят через сад одной виллы, у ворот которой их ждут автомобили: они разъезжаются по домам – спать. В это время мимо проходит закутанный в желтое сукно Жали, спускавшийся вниз, в город, за пропитанием.
– Надо же! Привидение! – сказала одна дама.
Жали поднял голову. Когда она произнесла эти слова, он как раз думал о том, что если бы он мог в одно мгновение обогнуть землю, то сейчас явился бы домой в самое приятное время – в вечерний час, в час, когда китайцы продают дымящийся перец, когда рыбаки до самых подмышек погружаются в фиолетовую воду реки, брызгая ею друг на друга, когда европейцы выходят из дома с непокрытыми головами, беря с собой пробковые шлемы лишь для того, чтобы приветствовать ими друг друга из автомобилей. Этот неповторимый миг прохлады продлится совсем недолго – между догорающим днем и давящей влажностью наступающей ночи. Жали направился бы во дворец, приготовленный для той, которую он любит больше всех на свете.
Спустившись с крыльца «а ля Жемье»[61]61
Фирмен Жемье (1869–1933) – известный французский актер и режиссер.
[Закрыть] своего дома с кубическими террасами и круглыми крепостными башенками из бетона по краям, хозяйка владения – сама элегантность – в золоте и вечернем платье (не обращая внимание на предрассветную прохладу, которая могла погубить если не ее самое, то по крайней мере ее орхидеи) провожала гостей до ворот. Жали как раз проходил мимо, их взгляды встретились. У нее вырвалось громкое:
– Как? Ты не узнаешь меня? Я – Анжель, Анжель Вантр из Лондона, Коммершиаль-роуд! Теперь – Анжель Лирис, по прозвищу Бархатный Язычок.
Да, это – Анжель, та самая, которой он обязан своей первой ночью в Европе! Она самая – с густыми синими ресницами, красивым грудным голосом. Она бросается Жали на шею:
– Как ты ужасно одет, милый! А где твои волосы! Ты вышел из тюряги?
Потом вполголоса:
– Те жемчуга… конечно, я поступила не как католичка: я их быстренько сплавила и, как видишь, неплохо устроилась… Кончилась невезуха! Ты знаешь, что такое первоначальный капитал, это – все и вся. Потом надо только уметь втирать людям очки. Прости, извини меня, – добавила она, – я до смерти устала. Когда я выпровожу этих дам и господ, я завалюсь спать, но приходи в два часа ко мне на обед, мы наговоримся всласть. Запомни адрес: улица Пьера Бенуа, три.
Анжель Лирис купила этот дом два месяца назад у одной американки, оказавшейся, если можно так выразиться, в нужде. Эпоха поддельных лаков и тигровых шкур, начавшаяся незадолго до войны вместе с Габи Делис[62]62
Габи Делис – нашумевшая до войны артистка парижских и лондонских мюзик-холлов.
[Закрыть], закончилась; галантный стиль подвергся влиянию прикладных искусств. Теперь в моде стали гостиные, отделанные соломой, будуары, украшенные рыбьей кожей, потолки, покрытые пергаментом, а лестницы – замшей, все освещается трубками дневного света и выпуклыми стеклами прожекторов; и при этом кругом – модели судов, атласы, армиллярные сферы[63]63
Совокупность кругов, наглядно изображающих пути движения важнейших небесных тел.
[Закрыть] и снова суда. Жизнь женщин – совсем не то, что жизнь мужчин с их методичным давлением на аморфную массу общества: это игра с капризными зигзагами, такими же неожиданными, как у температурной кривой при малярии, с крутыми поворотами фортуны, которые, впрочем, застают их всегда в полной готовности и прекрасном расположении духа. Продав драгоценности, подаренные ей принцем, Анжель вернулась в Париж и поступила на содержание к какой-то торговке антиквариатом, которую никогда не видели и к которой она присовокупила, среди прочих, молодого и очень богатого писателя, а также друзей последнего, коих видели у нее уж слишком часто.
Гордясь своим знакомством со «святым», Анжель предложила к услугам Жали свой дом, но он воспользовался только доступом в ее сад, куда с тех пор часто приходил под вечер, чтобы свершить омовение и молитву. Общество окружавших Анжель Лирис юношей (именно их Боссюэ красиво назвал «безумными поклонниками века»), беседы, которые он вел с ними на этих господствующих над городом холмах – все это казалось Жали естественным, как жизнь Будды среди того изящного окружения, какое имелось у знаменитых индийских куртизанок и куда короли, брамины, высшие чиновники и богатые купцы приходили послушать Всеведущего. Анжель являлась для него чем-то вроде бенаресской красавицы.
Жали уже научился различать европейцев: до сей поры он, как все азиаты, не видел разницы между каким-нибудь португальцем и шведом. Теперь он мог распознать две-три нации, хотя еще путал англичан с немцами. Он открыл целую иерархию у «чужеземных демонов». В густой толпе оригиналов, составляющей западное общество, он различал теперь и нюансы – национальность и индивидуальность. Чем дальше на запад, тем это было сложнее. Он обнаружил, что французы очень любят женщин. «Когда они разговаривают с женщинами, – говорил он, – их лица делаются улыбчивыми и мягкими». Эти белые гораздо лучше ведут себя дома, нежели на Востоке: здесь они предстают без расовых предрассудков и довольно умными. Рике, молодой писатель-миллионер, считавшийся самым главным в доме Анжели, так хорошо воспитан и так скромен, что никто даже не знает его фамилии. Его можно называть просто Рике и его трудно считать покровителем Анжели, ибо скорее это она оберегает его от великого множества друзей.
Своим неистовством, своим избытком нервной и жизненной энергии здесь надо всем властвует близкий друг Рике – Жан-Клод Поташман. Как – Поташман? Не родственник ли он г-на Иешуа Поташмана из Сити? Да, это его сын, но только он – француз. Неужели этот бледный юноша, пылкий и неуемный, мог произойти от сытого финансиста? Да, по прямой линии. В московских еврейских семьях всегда есть правая и левая сторона, как в Ветхом Завете. Справа – жирный царь, оппортунист и консерватор; слева – пророк, худосочный, непреклонный, который с каждым днем увеличивает тому, первому врагов. Вот такой контраст являло собой и семейство Поташманов. Жан-Клод возглавляет передовой печатный орган, который финансирует Рике: это крайне правый журнал под названием «Бог». По четвергам его редакционный комитет обедает у Анжели в Сен-Клу.
«Мы возьмем Бога за горло, – написал однажды Поташман, – и заставим его говорить».
И «Бог» делает это, ежемесячно высказывая свое весьма тенденциозное объяснение Вселенной либо за обеденным столом, либо через печатный орган новоявленного Моисея, у которого прорезались зубки. Поташман, оставив позади неотолистов, занял в католической партии, передовую позицию, при которой он делает ставку одновременно и на Сакрэ-Кер[64]64
Церковь (базилика) на Монмартре в Париже.
[Закрыть], и на Кремль. Его ум, сочитающий интерес к противоположному лагерю сочетается со страстью к профанации, постоянно стремится спутать все карты, чтобы иметь возможность возобновить игру на лучших условиях. К великому удивлению семинаристов, в своем последнем номере журнал «Бог» воспроизвел фотографии Бога, сделанные Меном Рэем, рядом с фетишами из Верхней Убанги.
В воздухе носятся новые истины. Обращение в ошеломляющие веры, гомосексуализм, пропаганда отчаяния, устав «Клуба самоубийц», нацеленного на разведку по ту сторону смерти, возвращение к публичной исповеди, конфессия Катакомб, проекты будущей кампании против дьявола.
Жали привыкает быстро ухватывать чужую мысль и быстро отвечать.
– Ну как, принц, обрели вы, наконец, вашу Нирвану?
– Нет еще, – отвечает Жали. – Я стараюсь заслужить это. Зато я уже знаю, где ее искать.
– Не у Бишара[65]65
Известный магазин дорогих безделушек в Париже.
[Закрыть] ли? – перебивает Анжель.
– Прикуси язычок, болтушка!
– По крайней мере, сударь, вы ощущаете божество? – настаивает какой-то бойкий пепельно-серый человечек.
– Конечно, недотепа, он его ощущает, – отвечает Поташман. – Наша Азия не может без этого!
– Ха! – вставляет Рике. – Твоя Азия ведет себя, как пожилые дамы после войны: делает короткую стрижку, рвет завещание и начинает ходить на танцы.
– Вы видите Будду, сударь? Вы можете сообщить нам какие-нибудь откровения? Мы напечатаем их без изъятий.
– Нам запрещено хвастать экстатическими видениями, – отвечает Жали.
– Но как же так? Если вы хотите спасти Запад, покажите ему Бога!
При этих словах в глазах Поташмана-младшего проскальзывает такая же дрожь, какая пробегает по ушам у зайца.
– Будда говорит, что человечество должно погибнуть, прежде чем Бог явит себя.
– Группа издания «Бог» полностью симпатизирует Шакьямуни. В свете сказанного, дорогой мой, вы поймете, в чем вся трудность: если вы будете приспосабливать буддизм к Западу, вы неминуемо впадете в теософию последнего…
– …которая так же соотносится с буддизмом, – сказал какой-то завитой барашек, – как слепки с оригиналами.
– …Или не приспосабливайте его, подайте его нам таким, каков он есть, и тогда вы, дорогой друг (простите, что говорю вам это), постоянно будете оказываться на грани фарса.
При этих словах Поташман указал пальцем на желтое одеяние Жали.
– Насмешки для меня – ничто, – отвечает тот. – Я оставил все. Я – «ушедший человек».
– Ушедший человек! Какие точные формулировки может найти наша Азия! – восклицает Поташман, в котором намек на кочевую жизнь пробудил наследственные инстинкты и он настроился на лирический лад. – А у Европы одни только «пришедшие люди». Пожалуйста, будемте друзьями, Жали! Я, знаете ли, хотя и белый, нисколько этим не горжусь!
– И вы неправы, – отвечает Жали.
Поташман поддается нервической потребности непременно быть любимым. Он наклоняется к Жали и гладит его.
– Вы знаете, наш Бергсон испытывает симпатию к буддизму, наш Эйнштейн, благодаря теории относительности, воссоединяется с ним. Нас ничто теперь не разделяет.
– Извини, Поташман, – вставляет Рике, – вспомни, что Шопенгауэр в еврейском характере, в его материалистическом оптимизме видел, и не без основания, живую антитезу буддистскому аскетизму и пессимизму.
– Фу ты! Я ведь крещеный! И то, что ты тут говоришь, чтобы меня задеть, меня никак не касается. Так будем друзьями?
– У меня был только один белый друг, и я потерял его, – отвечает Жали.
– Его имя?
Жали молчит. Поташман, томимый жаждой информации (этой родной сестры пропаганды) не отступается.
– Это был француз? Молодой? Который пожил на Востоке? Да?… Он умер?.. Вот глупец! Наверняка это Рено д’Экуэн, мой товарищ по руанскому лицею! Потрясающий тип… Чудовищно отчаянный… Приятной наружности… Созданный для наслаждения красивыми женщинами и красивыми идеями и по-глупому отправившийся гарцевать перед смертью!
У Жана-Клода Поташмана манера с таким чувством и убежденностью говорить о счастье и с таким отчаянием – о несчастье, что Жали, общаясь с ним, предпочитает избегать этих тем.
– Ах! Если подумать, что всех нас ожидает, – заключает Анжель.
– Да не говори ты об этаких вещах, типун тебе! – произносит, передергиваясь, Поташман, который свято верит в самоценность земной жизни, а по четвергам приносит с собой тонометр, чтобы после обеда каждый мог померить давление.
Жали чувствует, что вызывает любопытство у этих молодых людей, но у них нет никакого желания быть спасенными. Они разговаривают только об инстинкте, о Лотреамоне[66]66
Лотреамон Исидор Дюкасс (1846–1870) – французский писатель, которого сюрреалистическая школа считала одним из своих предтечей.
[Закрыть], об умопомешательствах, а потом издают тоненькие, прилизанные и пресные романы, выдержанные в худших французских традициях. Это – очаровательные маленькие эгоисты. Женщины, у которых они бывают, и те, вышедшие из простонародья, что являются подругами Анжели, более всего отвечают зову их сердца. Среди них – прекрасная сиделка Марго д’Амбли, владелица розовой книжной лавки Жанна Метраль, Гита Паскали из «Опера».
Жали больше не носит своего желтого одеяния. Зато почти каждый вечер он беседует с этими женщинами: польщенные его вниманием, они самозабвенно слушают его; узнав, что желтый цвет – это цвет париев, они ввели его в моду. Рощи Сен-Клу превратились в цветники из желтых нарциссов. С каждой Жали обращается ласково, по-доброму и даже галантно: «Подобно тому как пчела не наносит вреда цветам, сбирая с них нектар, мудрец умеет ходить по городу среди женщин».
Им всем очень любопытно узнать об особенностях «местного колорита». Когда Жали хочет толковать им об истоках страдания, они жадно просят:
– Расскажите нам лучше про «Камасутру».
Как всех европейских женщин, их завораживает соблазнительный декор азиатских страстей, и они надеются заполучить какие-то эротические рецепты и новшества. Между тем Азия целомудренна: чувственная жизнь в ней проста, а дух, питающий ее амурные дела, наивен.
Жали слишком неискушен и робок, чтобы высказать это, но он это чувствует. А как заставить услышать себя тех, в ком балет «Шахерезада»[67]67
«Шахерезада» – балет, поставленный М. М. Фокиным и Л. С. Бакстом в Париже в 1909 году и имевший огромный успех.
[Закрыть] и танцевальные номера мюзик-холла «Палас», где красивый и смуглый от охры танцор истязает белую женщину, породили невысказанные желания? Жали думает об их товарках из Индии, которых Ганди называл «своими падшими сестрами» и которых этот Великий индус сумел использовать в революционной деятельности. И он, в свою очередь, протягивает женщинам руку, чтобы поднять их, чтобы они, доверившись ему, занялись старинными честными ремеслами. Он расточает им духовные советы и называет их «ревнительницами». Они соглашаются с ним, но следуют лишь своим инстинктам. Они соглашаются с юным принцем и крепко обнимают его за шею. Они ласкают его, так как это единственный способ у женщин выразить свое одобрение. Однако каждая мечтает о монастыре как о приятном уединении только когда слишком устает от танцев, выказывая желание стать одной из apasikas – монашек, о которых им рассказывал Жали. В сущности, они играются с ним, как с каким-нибудь медвежонком или пекинесом: если бы он не был так хорош собой, они давно бы «бросили» его.