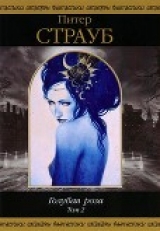
Текст книги "Голубая роза. Том 2"
Автор книги: Питер Страуб
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 86 (всего у книги 94 страниц)
Я дошел (это были еще добентлевские времена) до Эри-стрит и, прислонясь к стене дома через улицу от отеля, стал ждать появления тени. Она непременно снова покажется мне и вынуждена будет признать, что я, как и она, стою над людской толпой, выделяясь силой своих желаний. Моя уверенность была сродни уверенности любовника в том, что этой ночью возлюбленная наконец сдастся (он предвкушает восхитительные плотские радости). С каждым мигом, что она не появлялась, ожидание становилось все более приятным, поскольку это был миг перед тем мигом, в который она возникнет. Когда у меня затекла шея, я опустил голову и сквозь стеклянные двери отеля бросил взгляд в вестибюль «Элефанта», когда-то поражавший меня своей недоступной роскошью. Теперь, стоило мне того захотеть, я запросто мог бы снять номер на четвертом этаже и предстать перед Этель Кэрроуэй на ее родной почве. Но мне казалось, что правильнее стоять там, где я стоял некогда, – так ярче можно дать понять, какой путь я прошел за это время. Я прождал час, другой, я промерз до костей, и меня мучила жажда.
От выпитого шампанского у меня разболелась голова, ныли ноги, а уверенность стала ослабевать. И все же уйти я не мог – Этель Кэрроуэй подвергла меня испытанию, которое с каждой минутой становилось все суровее. Исполненный решимости выдержать его, я поднял воротник пальто, сунул руки в карманы и уставился на темное окно.
Временами я слышал шаги прохожих, то слева от себя, то справа, но, оглядываясь на звук, никого не видел. Должно быть, это шампанское, решил я, подобно наркотику в крови, шутит со мной шутки и обманывает чувства, поэтому я еще пристальней уставился на по-прежнему темное окно. Пусть она и не хочет показываться и признавать меня, встретившись со мной взглядом, я имею право на ее признание. Тут из темноты Эри-стрит вновь донеслись звуки загадочных шагов, как будто сама Этель Кэрроуэй явилась, чтобы лично встретиться со мной, но призрачная фигура в черном моему нетерпеливому взору так и не предстала.
Я так и не понял – ведь я ничего не знал о Зримых и тех, кого увидеть невозможно, и то, что принимал я за уверенность, было лишь уродливой ее племянницей – самонадеянностью. Наконец я, предмет внимания и фокус мириадов пар взирающих на меня невидимых глаз, около трех часов ночи наконец сдался и на плохо слушающихся ногах побрел домой через невидимую толпу тех, кто в отличие от меня отчетливо понимал, что произошло и почему. А утром я поднялся с измятой постели, чтобы снова начать воровать.
* * *
Понимание, эфемерное, как пришедшее во сне внутреннее озарение, эфемерное, как роса, пришло лишь с разоблачением, повлекшим за собой потерю состояния, Безымянного Компаньона, супер-пупер «бентли», элегантной одежды, веселых карибских отпусков, репутации, работы (вернее, обеих работ: продавца и вора), личной жизни, свободы, множества гарантированных конституцией гражданских прав и, наконец, жизни. Как и все вы, я бы предпочел все утраченное мной – вещи, людей, положение и условия существования – элементарному акту понимания, и тем не менее не могу отрицать неожиданного удивительного ощущения некоего пикантного, неопределенного состояния довольства, которого совершенно невозможно было предвидеть во время моего последнего деяния в качестве свободного человека, которое явилось рука об руку с моим кратким просветлением. Это испытанное мной чувство неожиданно сильного, хотя и загадочного удовольствия, связанного с моим странным озарением, частенько занимало мои мысли во время долгих месяцев суда и заключения.
Я уже давно перестал бояться разоблачения, и зловещие (см. Шекспира) последствия такового должны были казаться ответственному, серьезно преданному и преданно серьезному ответственному работнику мистеру Вордвеллу 1960 года каким-то совершенно несбыточным кошмаром. Еженедельно весьма приличная сумма переходила из костлявых, испещренных старческими пятнами клешней мистера Макнейра в мои приветствующие ее руки, и после выхода на пенсию лет эдак через десять я рассчитывал отправиться в свободное плавание, располагая приблизительно двумя миллионами долларов, а может, даже и тремя. В ловушки моего работодателя продолжали попадаться сотрудники, которым, по-видимому, так на роду было написано, да и вообще в последнее время таких несчастливцев становилось все меньше и меньше, поскольку почти все уже знали о византийски сложных методах слежки и проверок, которые неизменно оказывались беспомощными перед лицом моих выдуманных цифр, постольку они были разработаны тем самым мошенником, которого призваны были вывести на чистую воду. Если бы ненавистный мистер Макнейр в ознаменование очередного десятилетия не затеял очередного обновления персонала, я бы через тридцать, а то и все сорок лет безбедного существования в каком-нибудь тропическом портовом городе, отведав всех известных людям наслаждений – от утонченно-изысканных до грубо-чувственных, мог бы рассчитывать, придя наконец к пониманию смысла моего столь продолжительного ожидания у отеля «Элефант», осознанию того, кем были те невидимые существа, чьи шаги я там слышал, а также самой Этель Кэрроуэй и ее отказа признать того, кто, заблуждаясь, считал себя ее духовной ровней. Но он продолжал свой сомнительный мозговой штурм, и я уже начал было подумывать: а не прекратить ли его, превратив его мозги в кашу – «в мерзкую, мерзкую кашу» – при помощи очень кстати забытого кем-то молотка.
Подлинные же обстоятельства моего падения совершенно банальны. Возможно, впрочем, они таковы всегда. Кузнец плохо подковывает коня, и – король убит. Путник слышит чей-то шепот в пивной, и – король убит. Что-то вроде этого. В моем же случае сыграло роль стечение, казалось бы, совершенно безобидных обстоятельств. Идиотский ремонт добрался уже до задней части второго этажа. День ото дня подбираясь к отделу расчетов и к кабинетам – моему и мистера Макнейра. Приливная волна рабочих, стремянок, холстины, строительных козел, отвесов, деревянных метров и тому подобного наконец докатилась до наших дверей, а потом и затопила кабинеты. Поскольку мой работодатель жил над магазином в уютном гнездышке, которое видели только особо приближенные к нему персоны, он приказал, чтобы ремонт и переоборудование, а фактически едва ли не золочение его офиса производились в рабочие часы, поэтому он испытывал сравнительно небольшие неудобства спуститься на один этаж по лестнице и начать заниматься привычным делом: перепархивать от покупателя к покупателю, вынюхивая, заискивая, льстя. Поскольку у меня такого удобного логова не было, а в его берлогу путь мне был заказан – даже по самой неотложной производственной необходимости, – мой собственный кабинет подвергался куда более незначительному ремонту в промежуток между шестью – временем закрытия магазина – и семью, то есть целый час переработки. Дело, которое могло бы быть сделано максимум дня за два, заняло целых десять, в конце каждого из которых я параллельно своим прямым обязанностям должен был заниматься и негласными, связанными с фиктивными книгами и подсчетом дневного денежного урожая. И все это под безразличными взглядами рабочих, устанавливающих свои пыточные инструменты.
Мозолистые крепкие ребята передвигали мой письменный стол то с левого борта на правый, то с юта на бак, а в день моего падения заявили, что мне пора бросаться за борт, поскольку наш босс потерял терпение и они собираются заканчивать. Я прыгнул за борт и попрощался с уходящими сотрудниками у входных дверей. К шести сорока пяти почти во всем магазине, кроме задней части второго этажа, погас свет. В шесть пятьдесят пять я прошел по знакомым коридорам к двери своего кабинета и тут увидел Гарольда Макнейра, который решил спуститься сюда из своего султанского дворца наверху, чтобы повынюхивать, и сейчас в одиночестве стоял возле моего одинокого письменного стола в моем заново отделанном кабинете и изучал неопровержимые свидетельства моих разнообразных преступных казнокрадств.
Работяги сейчас только должны были начинать собираться, но закончили раньше обычного; мистер Макнейр сейчас должен был давать выход своей ненависти к пороку в бархатом будуаре наверху, но он скользнул вниз, чтобы они не забыли поклониться ему перед уходом. Рано закончив, рабочие ушли, не замеченные мной, через заднюю дверь. Во всем здании мы остались одни. Когда мистер Макнейр повернулся ко мне лицом, неприятные черты его лица были искажены смесью радости и ярости, превративших его в демоническую маску. Спасения не было: он ясно понял, что увидел. Он двинулся ко мне, бормоча бессвязные ругательства. По давней усталой привычке я приготовился к наихудшему.
Мистер Макнейр остановился в футе от меня и продолжал поливать меня бранью, тыча при этом мне в грудь костлявым пальцем. Его лицо покрылось опасными розовыми пятнами, кажется, такой цвет называется горячечно-розовым. Он ухватил меня за лацкан пиджака и потянул к столу. Чем больше он ругался, тем сильнее багровел. В конце концов он выпалил кучу вопросов, а может, это был один и тот же вопрос, только повторенный многократно, не знаю. Я не мог разобрать слов. Я оцепенел от его напора; я как будто снова оказался у Докведера. Вот снова помеченная купюра, разъяренный босс, пристыженный Фрэнк Вордвелл, несчастный мальчишка, вдруг сменивший солидного скрытного взрослого человека.
И тут вдруг этому несчастному мальчишке показалось, что выкрикивающий оскорбления человек перед ним страшно напоминает двух его прежних мучителей – миссус Дранкензанд и Плохиша Тевтобурга, в особенности последнего, не лоснящуюся крысу в жемчужно-серой шляпе, а красноглазого, проклятие моего детства, которое вдруг выскочило из дверей магазина, чтобы обрушить на голову и тело град резких, точных, похожих на ножи кулаков. Я пережил момент чисто физического ощущения настолько чуждого, что поначалу даже не смог найти ему подходящего названия. Я понял только, что в душе у меня произошел какой-то взрыв. И лишь немного погодя осознал: то, что я чувствовал, было болью, непрекращающейся вечной болью, так долго скрывающейся где-то во мне. Ощущение было такое, будто я вышел из своего собственного тела. Или, наоборот, вступил в него.
Передо мной на моем дубовом кресле лежал молоток, забытый уходящим владельцем. Стоило мне заметить его, как я уже знал, что сделаю. Моя рука нашла молоток, молоток нашел голову мистера Макнейра. Пораженный, удивленный, но еще не успевший испугаться, мистер Макнейр с громким криком отскочил. Я двинулся на него. Он попытался перехватить оружие, и я схватил его за морщинистую руку. Головка молотка еще дважды тюкнула его по маленькому крепкому черепу. Невиданное ярко-красное чувство расцвело во мне, и имя этому удивительному чувству было Дикий Гнев. Мистер Макнейр рухнул на колени, я ударил его в лоб, и он опрокинулся на спину. Он визжал и орал, и я отоварил его по башке еще с полдюжины раз. Наконец из его ушей и ссадин на шишковатой голове начала сочиться кровь, и тогда я нанес ему сильный удар, пришедшийся над правой бровью. От этого его тело дернулось и забилось в конвульсиях, я нагнулся над делом рук своих и принялся наносить удар за ударом до тех пор, пока его голова не превратилась в бесформенное кровавое месиво. Казалось, каждый удар вызывал в душе Фрэнка Вордвелла новый взрыв блаженной боли и ярости, а еще казалось, что эти благословенные взрывы происходят в каком-то знакомом, но давно забытом уголке души, уголке, где эмоции представляли собой самостоятельное существо, не внутри и не снаружи, видимые, дышащие, совершенно живые, как и сам Фрэнк Вордвелл, этот пребывающий в трансе человек, раз за разом опускающий окровавленный молоток на труп столь презираемого и почитаемого врага. А потом в другом уголке моего сознания поднялось неожиданно пришедшее на память лицо Этель Кэрроуэй, глядящей... хотя и не видящей опозоренного мальчишку... меня на Эри-стрит, и тут наконец, как награда за все, настал краткий восторженный момент понимания, а с ним и этот прилив необъяснимого, почти интеллектуального удовольствия, которое я так часто вспоминал в последующие месяцы. Этель Кэрроуэй, думал я, это было знакомо, это потрясение, этот последний вздох...
Потом в кабинет в поисках забытого молотка вошел грузный здоровяк в сером пиджаке и кепке в сопровождении другого еще более грузного здоровяка, и все, что я понял, мгновенно улетучилось в налетевшем кратком вихре. Четырнадцать месяцев спустя, пройдя примерно по стопам Этель Кэрроуэй, я как легкое облачко покинул свое опаленное, все еще подергивающееся тело, по-прежнему пристегнутое к электрическому стулу главной тюрьмы штата.
Первое, что я заметил, кроме неожиданного ощущения боли и чувства общей легкости, которая казалась скорее результатом новых отношений с земным притяжением, чем с действительной утратой веса, – присутствие в камере гораздо большего количества людей, чем, насколько мне помнилось, присутствовали при великом событии. Во всяком случае, там было никак не более дюжины свидетелей, причем все мужчины, включая меня. Во время интересного периода между тем моментом, когда на мои глаза легла повязка, и появлением удивительного облачка, сорок или пятьдесят человек, многие из которых были женщинами, даже несколько детей, каким-то образом набились в камеру. Несмотря на удивительную природу того, как я покинул свое смертное тело, эти новоприбывшие не обращали на меня ни малейшего внимания. Они расступались передо мной, не сходя с места, так что я мог остаться или уйти, по собственному усмотрению. Не обсуждали они и восседающий на троне труп злодея, Фрэнсиса Т. Вордвелла, от которого поднимались струйки белого дыма и исходили смешанные запахи мочи и горелого мяса, хотя именно этот объект, несомненно, находился в центре внимания изначальных двенадцати присутствующих, один из которых нервно поглаживал потрепанную Библию, другой сцепил руки на солидном брюшке, облаченном в габардин, остальные же изрядно изгрызенными карандашами торопливо царапали в блокнотах свои «наблюдения». Новоприбывшие смотрели на них... на того типа с Библией, на начальника тюрьмы и на лихорадочно пишущих репортеров. То есть, я хочу сказать, они буквально уставились на этих совершенно ничем не примечательных людей, упивались их видом, буквально пожирали их глазами.
Еще я заметил, что, кроме сорока или пятидесяти мужских и женских теней, разделявших, как мне только что пришло в голову, мое новое состояние, все в камере, включая облупившуюся зеленую краску на стенах, включая циферблаты с делениями и огромный рубильник, включая почерневшие кожаные ремни и рассеивающиеся клубы дыма, включая даже сероватый слой дорожной пыли, покрывающий недавно начисто вымытый черно-белый мозаичный пол, также включая даже изгрызенные карандаши пишущих, но более всего включая те двенадцать смертных существ, которые собрались посмотреть на казнь Фрэнсиса Т. Вордвелла, смертные существа, можно сказать, лучезарной ординарности, невыносимой поразительной сердце захватывающей затмевающей свет неправдоподобной...
Второе, что я заметил, так это что все...
В этот момент в меня ворвался мой собственный голод, более сильный, более мощный и куда более переносимый, чем поток вольт, отделивший меня от тела. Алчущий не меньше, чем остальные, так же тянущийся ко всему, что вы, еще живущие, не можете видеть, я жадно обернулся и уставился на ближайшего смертного человека.
* * *
Стоя у куста цветущей азалии на лужайке у дома Плохиша Тевтобурга, я наблюдаю, мягко выражаясь, за тем необыкновенно многим, что щедро предоставлено моему наблюдению. После всего того, что было рассказано, нет нужды описывать – как я намеревался в начале нашего путешествия – все то, что я вижу перед собой. Разумеется, улица передо мной запружена моими товарищами Незримыми, бродящими взад и вперед, разумеется, шесть или семь Незримых в этот момент праздно растянулись на тщательно ухоженной, засаженной импортным кентуккийским мятликом лужайке, наслаждаясь созерцанием особенно красивого в наших краях в это время года небом, ожидая появления на этой сцене крайне важного, единственно имеющего значение бесценного смертного, либо одного из обитателей Тюльпановой аллеи, либо кого-либо из обслуги. Эти выжидающие, в частности, как и я сам, напоминают заядлых театралов, которые, уже в который раз оказываясь на любимом спектакле, сжимают сумочки или театральные бинокли и подаются вперед, глядя на поднимающийся занавес, затаивают дыхание, глаза расширены, сердце уже заранее колотится, когда на сцене начинают появляться актеры и занимать положенные места, начинают звучать дорогие их сердцу знакомые слова, снова ставятся старые как мир проблемы, снова начинает раскручиваться сюжет, на сей раз, возможно, стремящийся к финалу, равному по напряженности нашему вниманию. Правильно ли они сыграют на этот раз? Получат ли они желаемое на этот раз? Увидят ли они? Нет, разумеется, нет, они никогда не увидят, однако мы все равно наклоняемся вперед в страстной сосредоточенности, когда их исполненные страдания голоса поднимутся снова и увлекут нас всем, чего они не знают.
Плохиш уже совсем плох. Сейчас ему должно быть за восемьдесят, хотя, может, и за девяносто, впрочем, для его возраста разница небольшая, – и на удивление уважаемая личность. Он был избран – надеюсь ясно, что я за него не голосовал, – в городской совет примерно в то же время, когда состоялось мое «Восхождение» на второй этаж, а потом все рос и рос, пока большинством голосов накануне моей кончины не был избран мэром и на этом посту продержался четыре срока, или шестнадцать лет, после чего слабое здоровье (эмфизема) не дало ему возможность продолжить политическую карьеру. В его особняке на Тюльпановой аллее, как говорят, множество комнат – семнадцать, не считая двух кухонь и десяти ванных. Но я появляюсь здесь не для того, чтобы восхищаться особняком моего старинного врага, теперь, как я полагаю, обреченного постоянно оставаться в четырех стенах в полной зависимости от инвалидного кресла и баллона с кислородом. Само собой, я не появляюсь на Тюльпановой аллее в это время дня позлорадствовать. (Даже Плохиш Тевтобург сейчас замечательный персонаж, выходящий на сцену и поднимающий отважный старческий голос.) Я прихожу сюда, чтобы увидеть один-единственный момент.
В это время дня за ближайшим к кусту азалии окном маленькая девочка открывает дверь комнаты. Она младшая внучка Плохиша Тевтобурга, единственный плод неудачного второго замужества его младшей дочери Шерри-Линн, дочери от его собственного неудачного второго и последнего брака. Ее зовут Эмбер, Джасмин, Опал, что-то вроде того, ах да, Тиффани! Точно, ее зовут Тиффани! Тиффани пять или шесть лет – это всегда серьезная темноволосая девочка с неопределенного цвета глазами, обычно одетая в практичный джинсовый комбинезон с нагрудником и лямками, похожий на фермерский, только белого цвета и с узором из цветочков, щеночков и котят. Вторым набором украшений являются пятна от еды, кетчупа и тому подобного. Под этим очаровательным одеянием Тиффани чаще всего носит бонлон с высоким воротом и длинными рукавами, голубой или белый, или, в зависимости от времени года, белую хлопчатобумажную футболку. На ногах у нее неуклюжие неброские бутсы, мода на которые прошла лет десять назад, в случае с Тиффани нечто вроде кроссовок, по бокам эти растоптанные уродины помечены розовыми галочками. Тиффани – ребенок с землистым, почти оливковым цветом лица, в котором практически не заметно генетического наследия дедушки. На ее круглой мордочке частенько видна серовато-белые пыльные пятна (со времени удаления мэра Тевтобурга на верхний этаж уход за домом оставляет желать много лучшего), впрочем, равно как и на манжетах ее бонлона и на ироничной пасторали белого комбинезона.
Неопределенного цвета глаза, в пыльных пятнах, землистого цвета кожа, волосы, свисающие неровно остриженными прядками и локонами, выбивающимися из неаккуратно собранного хвоста, пухлые ручонки грязные, причем по-разному, одна скорее всего только что прошлась по футовой длины волосам, унаследованным скорее всего от матери, не отличавшейся особым умом, что приводило к приступам эгоизма и меланхолии, пухлощекая и с небольшим животиком, таким образом, склонная к излишествам в зрелые годы, и несмотря ни на что совершенно очаровательная, мало того – ослепительно, невыразимо красивая.
Так вот это глазастое маленькое чудо входит в комнату в обычный час и по привычке шествует прямо к телевизору, стоящему под нашим окном, прикусывает зубками, жемчужно-белыми и прямыми как римское шоссе, нижнюю губку и включает телек. Из динамиков начинает извергаться оглушительная музыка. Самое время для приключений Тома и Джерри. К этому времени большинство Незримых, растянувшихся на кентуккийском мятлике, собираются вместе со мной у окна, и по ходу дела подтягиваются и остальные, прогуливавшиеся по Тюльпановой аллее. Тиффани отходит от телевизора и усаживается на пол перед одним из кресел. Кресла стоят так, чтобы в них было удобно сидеть взрослым, которые воспринимают телевидение совсем не так, как Тиффани, и уж в любом случае не следят с замиранием сердца за захватывающими приключениями Тома и Джерри. Она усаживается по-турецки, задирая ступни в помеченных розовыми галочками кроссовках едва ли не к голове, подпирает лицо руками, взгляд ее устремлен в мерцающий экран. Тиффани никогда не смеется и даже улыбается крайне редко. Она занята серьезным делом.
Обычно ее не слишком-то чистые ручки покоятся на обтянутых хлопчатобумажной тканью коленях, на ее розовогалочных кроссовках или в небольшой впадинке между ступнями и остальным телом. Порой ручонки Тиффани бесцельно шарят по полу вокруг ее ножек. Эти движения лишь добавляют мышино-серые пятна пыли или грязи на тех частях конечностей, которые вступают в контакт с полом.
Во время всего этого личико юной особы сохраняет выражение мягкой неподвижности, мягкое бессознательное выражение ныряльщика, бросающегося в глубокую воду, и это сочетание мягкости и неподвижности вызовет еще больший восторг, каждое мгновение осознания или восторга, каждое столкновение между действием и зрителем, короче говоря, вы, люди, каждая эмоция, которая заставила бы любого другого ребенка с хохотом кататься по полу или прижимать грязные кулачки к щечкам, каждая эмоция считается мгновенно зримой, высеченной неброскими, но могущественными рунами на чистом листе лица Тиффани. Когда призрачный свет телеэкрана омывает черты лица завороженной малышки, ее губки то поджимаются, то обмякают, лобик ее то и дело прочерчивает взрослая морщина, загадочные мешки под глазами наполняются то ужасом, то слезами, то и дело уголки рта трогает легкая улыбка. Радость как свеча озаряет ее глаза, все лицо озаряется душевной радостью. Учтите, я еще даже не упомянул мечтательного выражения ее полных щек и местечек под глазами, вызванных движением тысяч мышц, каждый из которых вызывает к жизни отдельный персонаж, как в книге, только пикантнее, – мимолетную тень персонажа.
И время от времени беспокойная ручонка возвращается на место и успокаивается на колене, на кроссовках, на мгновение проходится по свисающим космам, замирает, а потом с невыразимым терпением приближается к разинутому рту и – палец за пальцем – проникает в него, чтобы быть обсосанной, облизанной, согретой и, самое главное, очищенной от многочисленных слоев грязи. Тиффани ест. Она ест все, что находит, все, что попадается ей на глаза. Все отправляется ей в рот, поглощается Тиффани. Хлебные крошки, может быть, но в основном пыль, ниточки бог знает от каких тряпок, время от времени пуговица или монетка. Когда она наконец справляется с пальцами, она начинает грызть ладошку. А еще чаще она протягивает только что начисто облизанный указательный палец и сует его в нос, где он неустанно суетится, ищет, находит и наконец вновь появляется на свет с блестящей находкой, которая тут же без колебаний отправляется в рот и задумчиво пережевывается до тех пор, пока полностью не усвоится организмом Тиффани, откуда и произошла.
Мы наблюдаем за ней так внимательно, мы так теснимся возле окна и куста азалии, что время от времени она отрывает глаза от экрана, видимо, услышав какой-то едва слышный вариант того, что я дважды слышал на Эри-стрит, и смотрит в наше окно.
Она видит всего лишь окно, куст. Почти сразу она снова переводит взгляд на экран и возобновляет бесконечную жвачку. Я поведал вам об Этель Кэрроуэй и о том, как она выронила своего младенца, и я поведал вам о себе, о Фрэнке Вордвелле, бьющемся в застенках собственного сознания, но поверьте, нет на свете зрелища более захватывающего, чем Тиффани. Она объемлет и превосходит живую Этель и живого Фрэнка, и можете не сомневаться, дорогие мои, намного превосходит всех вас.








