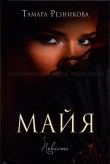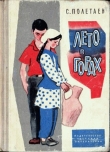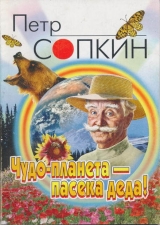
Текст книги "Чудо-планета - пасека деда!"
Автор книги: Петр Сопкин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
ВЕРНЫЙ КОНЬ
Когда приехали на пасеку, деда в первую очередь выпряг Гнедка из повозки, снял с него сбрую и отвел под навес при конюшне. Вернувшись, пояснил:
– После трудной дороги конь должен хорошенько отстояться, отдохнуть. После уж отправим его на пастбище.
Мы принялись распаковывать поклажу на повозке. Продукты, одежду, книги – все снесли в дом. Он состоял из двух комнат. Первая служила кухней и хозяйственным помещением. Здесь были газовая плита, обеденный стол, шкаф с посудой, табуретки, большущий старинный сундук, окованный узорчатыми железными пластинами. На стенах висели полки, забитые всякой всячиной. Вторую комнату, гостиную и одновременно спальню, мы не успели рассмотреть как следует – дед окликнул со двора.
Он уже вывел Гнедка за калитку, скреб его бока и спину какой–то металлической штуковиной. Конь, опустив морду и поджав уши, вздрагивал при каждом прикосновении к нему. Но не проявлял особого беспокойства, стоял смирно.
– Ему не больно? – поинтересовался Витька.
– Больно, говоришь? – переспросил дед. – Как бы не так. Ишь, опустил морду от удовольствия. Он же взмок в дороге. А остыл – шерсть скаталась. Вот расчешу ее – ему и будет облегчение.
Закончив скрести, дед снял с Гнедка узду, похлопал его по крупу и со словами «гуляй, гуляй!» вернулся к дому, присел на крыльце. А конь и не думал уходить. Потоптавшись у ворот, он уставился мордой к нам и заржал. Дед спохватился:
– Ах, прости старика. Совсем забыл.
Он тут же вошел в дом. На крыльцо вернулся с краюхой хлеба. Гнедко, не дожидаясь приглашения, протиснулся в калитку и с ржанием подскочил к крыльцу. Получив краюху, принялся ее жевать. Управившись, повернулся к хозяину.
– Все! – развел руками тот. – Получил положенное. Ступай!
И Гнедко боком, боком отступил от дома. Очутившись за калиткой, игриво взбрыкнул и поскакал на противоположный от усадьбы склон. Собаки с веселым лаем понеслись за ним.
– Разве скажешь, что он старик? – спросил сам себя дед. – Лукавец да и только.
– А сколько лет живут лошади? – воспользовался я подходящим моментом, чтобы выяснить век коня.
– До двадцати лет живут. А бывает и больше. Век коня от условий, от ухода зависит. Гнедку сколько дадите? Все равно не угадаете: уж шестнадцать стукнуло. Я так думаю: пяток лет замены ему в работе не потребуется. Столько же, если не больше, он еще… пенсионером поживет. Давайте так условимся: вечером, когда управимся, я вам все доложу про Гнедка.
Напоминать не пришлось. Поужинав, мы вынесли на крыльцо кошму, удобно на ней расположились, и дед принялся вспоминать то, как связала его судьба с Гнедком:
– Жить ему еще в молодости было заказано: подлежал отправке на бойню. О том я узнал случайно и вызволил его из погибели.
Происходило все так. По малолетству Гнедко был на редкость дикошарым коньком. По заведенному в колхозе порядку, его трехлеткой обротали в табуне и отправили в бригаду. В ней строптивцу предстояло стать рабочей лошадью.
Но не тут–то было. Не поддавался Гнедко объездке. Сколько ни бились – все без толку. Вернули в табун. А там какой прок его держать? Вот и решили пустить под нож.
А у меня в ту пору неважный был конишко. Серый, слепой на один глаз. Гляди да гляди, чтоб не угодил где под обрыв. Решил я взглянуть на дикошарого. Табун, в аккурат, верстах в десяти от пасеки стоял. Увидел коня – сердце захолонило. С виду он – хоть на выставку! Не мешкая, к начальству подался. Дозвольте, прошу, мне из этого дикаря добрую лошадь выходить. А мне в ответ: «Во–первых, второй лошади тебе не положено. Во–вторых, ты что, Николай, белены объелся? Разве можно в горах на такого змея положиться?»
Но я не отступил, заранее обдумал доводы. Во–первых, объясняю, Серка передам, куда велите. И, во–вторых, это моя забота – как совладать в горах со змеем.
Вижу, заколебалось начальство. А я продолжаю наседать: могу расписку написать. Если что и случится – сам за себя в ответе.
Подбросил, кажись, я им задачку. Наконец, так они мне отвечают: «Серко пусть пока при пасеке находится: все равно не приручить тебе звереныша. Ну, попробуй, коли надумал, поищи на старости лет приключений. Пиши расписку, что под свою ответственность его забираешь».
С двумя табунщиками кое–как обротали Гнедого. Они же подсобили мне увести его на пасеку. И стали мы с конем друг перед дружкой выказывать характеры: кто кого перехитрит да перетерпит.
Шесть месяцев день в день я с ним бился, пока не сломил, не сел на него. Все это время он был у меня на привязи. Кормил его только у стойла. В поводу прогуливал, водил поить. Если по делам шел – за скотом, на кордон или на соседнюю пасеку, – его тянул за собой, как непокорную собачонку. Заседлал только на пятом месяце – в специальном станке, построенном для подковывания лошадей. Что он первое время проделывал под седлом? Видеть надо. Взвивался на дыбы свечкой, падал, визжал… Зверь – и только.
Седла я с него не снимал. А через пару недель снова перехитрил: вторично затолкал в станок и погрузил в седло пару мешков с прском. На этот раз Гнедко бунтовал поменьше: тяжкий груз мешал. Песок он возил дней двадцать, после чего я отважился сесть на него.
Но подле пасеки это было большим риском: местность неподходящая. Сплошь деревья, кручи, ручей… Не равен час расшибет. Повел я гнедого в поводу на Тур—Джайляу. Это километров восемь от пасеки по прямой тропе. Место там просторное, равнинное – самый раз для объездки лошадей.
Пока поднялись на Джайляу, он ладом пропотел – с мешками–то на горбу! Но я не дал ему передышки. Чабаны помогли мне снять груз и сесть самому. Когда они дали коню волю, он и понес, и понес… Но я заранее продумал направление – держу его в гору, да в гору. Как он ни изворачивался, ни изловчался – не удалось меня сбросить. Я же сохранил кавалерийскую хватку. К тому же вес во мне был тогда подходящий: под девяносто кило! Тягаться ли ему со мной?
По неопытности горячего необъезженного коня нетрудно загнать. Поэтому я то и дело осаживал гнедого, не давал мчаться галопом. А ему не нравилось – вытанцовывал кренделя, рвал поводья. Но деваться некуда: час от часу конь становился все покладистее.
На пасеку возвращались по объездной дороге. Конь ладом упрел и шел ровно, только злобно фыркал и время от времени крутил мордой, грыз удила, как бы проверяя мою бдительность.
На второй, третий и четвертый день я повторил маневр на джайляу. А на пятый отважился прогуляться до своего села. И пошел, пошел у меня Гнедко. А еще через пару месяцев лучшей верховой лошади и не пожелаешь.
Молва о том моментально разнеслась по округе. Тут уж понаходились на вчерашнего звереныша охотники. Каких только коней в обмен не предлагали. Даже председатель наведался, чего раньше никогда не бывало. И ему приглянулся скакун. Что я мог поделать? Спасло меня только одно: гнедой близко не подпустил к себе колхозного голову. Тот и отступился.
Через полгода, когда пришлось сдать Серого, стал приучать Гнедка к упряжи. И снова он выделывал. Сбрую изуродовал, пришлось новую заводить. И двое саней по зиме разбил вдребезги. Но я все сносил спокойно. Тем, видать, и доконал упрямца. Признал он меня. Но еще лет десять считался только с хозяином. Другие лучше не подходи. Ни с какого бока, ни с какой целью. Даже корм от постороннего не принимал. Во, характерец! Да и сейчас не больно каждого подпустит. Подход да подход нужен. Даже годы не смирили его.
– Может, ему пора бы на пенсию? – встрял я со своим предложением. – Ходил бы, отдыхал без работы.
– Я же вижу: есть в нем еще сила. Лет на пять–шесть хватит. А без дела он зачахнет. И ты меня не переубеждай. И не перебивай, пожалуйста, если есть желание до конца выслушать рассказ. Или не интересно?
– Очень интересно. Извини, – признался я.
– То–то. Кроме всего, он меня множество раз из беды выручал. А однажды от верной смерти спас. Так что мы с ним квиты.
Было это зимой. Отправился я рано утром по дрова, в глухомань забрался. От ходьбы по глубоченному снегу да от азартной работы изрядно вспотел. И не поберегся – скинул с себя полушубок. Когда до пасеки добрался, уж в жар бросало. Кое–как запряг Гнедка в сани, завернулся в тулуп и айда в Тургень. А в дороге как в пропасть провалился, потерял сознание. На беду и ночь накатилась. Очнулся я уже в больнице.
Оказывается, конь почуял неладное. И повернул к людям, на совхозную ферму. Подвез сани к одному из домов и давай тыкать мордой в окно. Вышли люди, а он ржет тревожно, подзывает, значит. Люди – к саням. Обнаружили меня в беспамятстве. Удачно, на ферме машина оказалась. Она и доставила меня в больницу. Там уж постарались. Когда самое опасное было позади, врачи признались: до Тургени Гнедко живым бы меня не довез.
МУРЛЫКОВИЧ
Про кота Ваську мы вспомнили в первый же день, за обедом. Раньше он жил в селе и был нашим баловнем. Поэтому и захотелось увидеть его побыстрее.
– Кот явится только ко сну – проверено! – огорчил нас дед. – Уходит летом спозаранок и дотемна где–то шастает, мышкует. Но спать является в дом.
Не меньше нас, пацанов, привечала кота и баба Аня. Потом между ними произошел нешуточный раздор. И неизвестно, чем бы все кончилось, не подоспей вовремя дедушка.
Произошло вот что. По весне наседка вывела восемнадцать цыплят. Старушка останавливала знакомых и с придыханием выкладывала свою радость: «Век прожила. А такое впервой: подложила под квочку восемнадцать яиц – и изо всех цыплята вылупились. Ни одного болтуна!»
Но торжествовала бабуля всего неделю, пока цыплята находились взаперти, в прибаннике. Затем выводок был переселен в сарай. Днем он под опекой наседки гулял по двору. А к вечеру бабушка недосчиталась одного цыпленка. На другой день исчезли сразу два…
– Што за напасть? – встревожилась баба Аня. И куда подевались?.. Никак, соседский кот? На своего Ваську она не могла подумать. Кот слыл воспитанным, важным. Больно надо ему с цыплятами связываться. Да и не бывало сроду у бабушки такого, чтобы свои кошки в собственном доме шкодили. И решила баба Аня все самолично выяснить. В субботу она привязала наседку посреди двора, чтобы цыплята были на виду. И засела в укрытие, за поленницу дров. Стала терпеливо наблюдать.
Откуда было Ваське знать, что хозяйка снизойдет до слежки, устроит засаду. Он, особо не таясь, подобрался к цыплятам. И выждал момент, когда один из них сунулся к его носу. Кот без шума сграбастал жертву и метнулся с глаз долой, на сеновал.
У бабы от увиденного аж дыхание перехватило. Но она быстро совладала с собой, тоже без лишнего шума приставила к сеновалу лестницу. И накрыла воришку в самый разгар трапезы. Кот не успел опомниться, как был посажен в пустую бочку. Хозяйка прикрыла ее крышкой, да еще и камнем придавила сверху, для надежности.
Весь день бабушка придумывала плутишке подходящее наказание. Она беспрестанно подходила к бочке, грозилась коту смертной казнью. А вечером объявился дед: родных повидать да в баньке попариться.
Вот уж когда разошлася бабуля! Дед ничего толком понять не может. А она велит ему немедленно принять меры.
– Какие еще меры? – спрашивает дед. А когда догадался, так и прыснул со смеху: – Против кота–то? Ну и насмешила! Сколько лет души в нем не чаяла. И на тебе: меры применять…
– Тебе бы только зубоскалить, – пуще прежнего разошлась старушка. – Выходит, из–за разбойника я без курей останусь? Ежели не пожелаешь мер принимать, я сама лишу его жизни…
– Чего, чего? – насторожился дед.
– А чего слышал, – кипятилась баба. – Лишу, говорю, его жизни. Иль, не веришь?
С этими словами она метнулась в амбар. Оттуда явилась с огромным молотком.
При тебе и прикончу. Наблюдай, – произнесла грозно, направляясь к бочке.
Деда как ветром сдуло с крыльца. Он стеной преградил путь бабе Ане, молча отнял молоток, после чего произнес вежливо:
– Неуж–то миром нельзя вашу ссору решить? И не жалко такую красоту губить?! Дозволь мне на пасеку его свезти. Цыплят там нет. А с пчелами едва ли управится: слишком их много. Всех не переловит.
– Все бы шутил, – все еще сердито отозвалась бабушка. Но решение деда, видать, ее устраивало.
– Вот и договорились, – заключил дед. – А до утра пусть в бочке посидит, глядишь, вину осознает. Поди, не издохнет с голоду? Хотя, как провинившемуся, ему, по тюремным законам, хлеб с водою положен.
– Гляди, изголодался. Без хлеба обойдется. Шоб ему не переварило,.. – напоследок пробурчала бабушка и отправилась по своим делам.
…Горы покрыла ночь. Мы уж разобрали постели, а кота все не было. Спрашивать не решались. Надеялись, что объявится. Уверял же деда, что на ночлег он в дом обязательно приходит.
– Как по расписанию появляется. Теперь будет с минуты на минуту, – угадал наши мысли дед.
– И верно: с крыльца донеслось просительное мяуканье. Дед открыл дверь и шутливо скомандовал:
– Смирна-а!.. Равнение на Мурлыковича!
Мы замерли, подчиняясь команде. Кот вошел важно, с безразличной гримасой на морде, хвост трубой. Как он изменился! Раздался в длину. Черно–бурая шерсть на нем горела, будто ее только что покрыли лаком. Повстречаешь его в лесу – подумаешь: какой–то зверь. Грозный с виду, хотя и мал ростом. Такого, глядишь, и волк устрашится. А что? Вцепится когтищами в морду серому разбойнику. Всякое может быть.
Посередине комнаты кот остановился, недоверчиво покосился на меня и Витьку, будто вопрошал: «Кто тут еще завелся?» Мы притаились от греха подальше. Разве узнаешь, что у него на уме?
Но кот не долго нами интересовался. Он подошел к деду, потерся о его ноги, затем дал круг по комнате. Еще раз покосился на нас. Как бы проверял: свои или чужие? И размашисто сиганул на дедову кровать.
– Почему ты назвал его Мурлыковичем? Ведь это же наш Васька? – вспомнил я дедову команду.
– Да, тот самый кот. Только имя у него теперь Мурлыкович. На пасеке он начал новую жизнь, стало быть, с новым именем. И баба ваша мое решение одобрила. При другом имени она быстро забыла про загубленных им цыплят.
– Что он без ужина спать будет? – поинтересовался Витюшка.
– Да. С ранней весны и до поздней осени не притрагивается в доме к съестному, – отвечал дед. – И все потому, что тут кругом столько мышей! Лови – не хочу. В усадьбе теперь Мурлыкович – главный санитар. Без него сколько хлопот бывало: не знал где, что от мышей схоронить. Теперь, при нем, благодать: все лежит открытым и никакой пакости. Что это я раньше не удосужился завести кота? Вот недотепа.
При этих словах дед залез под одеяло. Кот тотчас устроился у него в ногах.
– Помнит свои обязанности, – похвалил его дед. – Он у меня заместо грелки. А мурлычет как – словно артист! Выходит, и греет, и развлекает меня Мурлыкович. С ним, когда рядом нет людей, не так одиноко. Особенно в долгие зимние ночи.
ЗОРЬКИН ЭЛИКСИР
На пасеке было заведено: утром и вечером пить парное молоко. Дед сильно сердился, если кто-нибудь из гостей отнекивался от давно установленного им правила. Нас бабушка успела перед отъездом предупредить:
– Не станете парное молоко пить, он вас живо домой турнет. Не посчитается, что вы его внуки.
– По правде, я не очень–то в это поверил. У деда и без того забот – полон рот. Больно нужны ему лишние хлопоты. Но бабуля оказалась права. Никакие дела не мешали деду проследить – опорожнили или нет мы свои кружки.
Признаться, с непривычки пить теплое, пенистое молоко не очень–то приятно. В первый же вечер я подсел к деду и попросил:
– Можно мне вместо парного пить холодное молоко? По две кружки…
Дед не дал мне договорить:
– У мамки дома хоть по три пей. А здесь, будь добр, не перечь моему уставу. Какие могут быть исключения?
Я вспомнил бабушкино предостережение. И не стал более гневить деда, через силу допил молоко.
Дед принял от меня пустую кружку, повертел ее в руках. Заулыбался в пышные усы. Легонько толкнул меня локтем в бок:
– Живой? То–то! Чай, не отраву предлагаю.
По утрам, подоив корову Зорьку, дед перво–наперво процеживал молоко в стеклянные банки. Тут же ставил на стол три кружки: себе – по л литровую, нам – поменьше. Наполнив их доверху молоком, приговаривал:
– Испьем–ка эликсиру с языка Зорьки. На день грядущий.
А по вечерам в этой присказке менялись последние слова. Дед по обыкновению заключал: «…на сон богатырский».
– При чем тут язык Зорьки? – не разобрался я в дедовой присказке.
– Экий ты, братец, непросвещенный?! – изу–милея дед. – К чему только в деревне живешь, если простого не знаешь? И то правда: не все сразу познается. Так вот, в народе издревле говорят: молоко у коровы на языке. Станешь хорошо кормить, поить ее – с молоком будешь. А нет – так и молока не дождешься.
– Выходит, Зорька не обижена, если каждый раз почти по ведру молока дает?
– А чего ей еще надо? – подхватил дед. – Тут кругом благодать. Травы стеной стоят, в человеческий рост. Вода родниковая, чистая, как слеза. И жары той нет, что в долине. Для скотины тут, брат, настоящий рай.
– Зимой в горах, ты сам рассказывал, – снега глубокие. По пояс наметает, иногда и больше. Наверное, скотине худо приходится?
– Той что на воле, стало быть, дикой – ей при большом снеге трудновато. А наша неудобств, считай, и не испытывает. Сена мы в достатке накашиваем. Стоит себе у стойла и жует сколько хочет. И нынче приступим к его заготовке в июле, когда трава созреет. На пасеке соберется целая артель – приедут ваши родители, папины друзья. Глядишь, и баба Аня заявится. Да нас трое. Во какая силища! Вот где закипит работа.
В мой с дедом разговор Витька не встревал. Он подал голос, когда я выяснил все свои вопросы:
– Деда! Кто тебя корову научил доить?
– Как кто? Моя матушка. Раньше в деревне всяк был приучен. А как же иначе? Какой ты селянин, если со скотиной не умеешь обращаться? На земле живешь – вот и имей от нее полный достаток. Это сейчас люди пообленились. Иные или в город за молоком едут, или вовсе без него обходятся. Тьфу… Срамотища…
Дед умолк, насупился. Витька заерзал на табуретке от неловкости. И, чтобы отвлечь деда от грустных мыслей, поинтересовался:
– А молоко ты с детства любишь или как?
– Сколько себя помню – всегда с молоком. Да и что за жизнь, повторяю, в деревне без молока? Война только с ним разлучала. И то разок пофартило. Глотнул, что ни на есть, настоящего, парного.
От последних слов деда повеяло загадочностью. Я встрепенулся:
– Расскажи, будь добр, как это произошло?
По военным меркам случай был не совсем обычный, – вспоминал дед. – Наш полк занимал боевую позицию под Брянском, на окраине леса. И тут было получено сообщение, что неподалеку гитлеровцы с гуртом коров к железнодорожной станции пробиваются. Намереваются, стало быть, их отправить в свое фашистское логово. Наш комполка, смелый, лихой рубака, тотчас отдал приказ: отбить стадо.
Операцию, как сейчас помню, провели на редкость удачно. – И без шума, и без потерь. Загнали, значит, коровенок в укрытие, в лес. И только остановили стадо, как они рев подняли. Мы, деревенские, быстро причину угадали: забеспокоились дойные коровы. Их с полсотни оказалось.
Комполка, не мешкая, к брату–солдату с вопросом обратился: «Есть ли способные подоить буренок?»
Нас, кавалеристов, десятка полтора вышло из строя. Начали мы доить коров. Те сразу и поутихли, присмирели. Молока, кажись, с десяток ведер набралось. Командир и говорит: «Не пропадать же добру. Раненых напоить досыта. Всем остальным – губы смочить…»
Будто эликсиру тогда я глотнул. Так и проносил всю войну на губах запах парного молока! А вы, бесята, вздумали от него отказываться. Э–хе–хе, времена…
– А что стало с теми коровами? – поинтересовался Витька.
– Коров тогда мы вглубь брянских лесов отправили, к партизанам. Там базировалось крупное соединение. А что с ними дальше стало – мне не известно.
Дед помолчал минутку и закончил рассказ так:
– Не держать корову на пасеке – так и куры засмеют. Я как определился сюда, первым долгом обзавелся телочкой. С той поры коровы у меня не переводятся. Молоко парное, скажу я вам, лишь поначалу пить неприятно. А привыкнешь – и меду не надо.
Дед оказался прав. Через пару дней мы уж не представляли жизнь на пасеке без парного молока.
РОДНИЧОК ГОВОРУН
Деду шло быть воспитателем. Мы с Витькой сразу отметили, что из него вышел бы неплохой учитель. Он был требовательным. Разговаривал с нами на равных. Командовал только в шутку. Но больше всего нам понравилось то, что дед полагался на нашу самостоятельность.
Умел дед держать слово. Например, наказы наших родителей были для него законом. С них и начиналась наша новая жизнь на пасеке. Как и обещал папе, дед в первый же вечер, когда управился по хозяйству, побеспокоился о нашем распорядке дня:
– День будете начинать, как отец велел, с зарядки. А после нее что положено? Верно, умываться. Холодной воды, надеюсь, не боитесь?
– Никак нет! – выпалили мы по–солдатски.
– Добре. Тогда советую к говоруну бегать. Водица в нем… Мертвого воскресит или нет, не скажу. Не испытывал. Но сон как рукой снимет. Тысячу раз проверено.
– Что за говорун? – переглянулись мы с Витькой?
– Так родничок прозывается, – растолковал дед. – Я считаю: он тут всему голова. И пасека благодаря ему здесь создана, на нем и держится.
– Больно загадочно объясняешь, – заметил я.
– А ты как хотел? Жизнь – она сплошные загадки, зачастую ими объясняется. Прежде, чем строить поселок или, скажем, обосновать хутор, человек подбирает подходящее место. Главное тут условие – вода. Она для жизни людей второе значение имеет, после воздуха. Под нашу пасеку прадеды облюбовали эту впадину не случайно. Причиной тому родник–говорун. Он поит студеной водицей всю местную живность.
– А кто его говоруном назвал? – полюбопытствовал Витя.
– Мне так приглянулось. Да он и по правде говорун! Когда услышите его, сами убедитесь, что прав ваш дед.
– Видишь, в чем отгадка, – обратился ко мне брат.
Я понимающе закивал головой.
– Так вот, – продолжил дед, – отправляясь умываться к роднику, захватывайте эту канистру. Видите, я приспособил к ней ручки, чтобы удобно было нести ее вдвоем. Будете доставлять воду для нужд пасеки. Посчитаем, это ваша основная обязанность по хозяйству. Да что на пальцах объясняться? Познакомлю вас с родником, пока на дворе светло. Незачем до утра экскурсию откладывать.
Мы с канистрой пошагали за дедом. Собаки поднялись без приглашения и поплелись за нами. За поворотом дед свернул вправо, на тропу. Она убегала вниз по пологому склону, упиравшемуся недалеко, в низине, в заросли тальника. Метров за сорок от зарослей дед неожиданно остановился и велел нам притихнуть. Пыхтевшие позади собаки тоже выполнили команду: улеглись прямо на тропе, притаились.
– Слышите? – после паузы дед указал рукой на кусты тальника.
– Похоже, вода журчит, – первым отозвался Витька.
– Будто ее льют из лейки, – добавил я.
– Верно, напоминает, – согласился дед, – словно из лейки вода шлепается. Это и есть ручей. Особенно вечерами, при луне, он отчетливо разговаривает. Я иногда специально прихожу послушать. Луна словно по заказу ручья подкатывает к макушкам тальника. Протяни руку – и достанешь ее. А он, несказанно радехонький, все журчит и журчит. И так они цельную ночь вместе: она светит, а он, знай себе, журчит, будто ее развлекает.
Дед постоял с минутку молча и размашисто зашагал к тальнику, мы едва поспевали за ним. Остановился он у громадного светло-зеленого куста, опоясанного густой, высоченной травой. Из нее высовывалась белесая труба, толщиной в гусиное яйцо. Из трубы проворно выбивалась упругая струя воды, слабо серебрясь под лучами закатного солнца. Водица с размаху шлепалась в неглубокую скалистую лунку, пенясь, барахталась в ней. Брызги бисером разлетались во все стороны. Присмотревшись, я обнаружил, что бурлящая в лунке вода выталкивалась в арычок. В нем она сразу успокаивалась. И, не спеша, продолжала путь по низине, исчезая с глаз в зарослях в двух–трех шагах от лунки.
Дед молча сложил ладони в пригоршню, подставил ее под струю. Зачерпнув водицы, стал аккуратно пить.
– Всем водам водица! – похвалился дед, напившись досыта. – Испробуйте–ка.
Мы с Витькой принялись копировать деда. Но у нас не выходило зачерпнуть воды так ловко, как получалось у него. Мы больше измочились, чем напились. Вода была ледяной, зубы ломило. Но мы крепились, не подавали ВИДУ, что прошибает дрожь.
Дед понимающе наблюдал за нами. И не упустил случая пошутить, сделать вывод:
– Это вам заместо крещения. Попривыкнете. И поймете, что на свете не сыскать лучшей водицы.
– Кто эту трубу приделал? – спросил Витька, отступив от ручья.
– Да все моя затея. Примостил ее, чтобы удобнее было набирать воду. Раньше она скатывалась по каменистому откосу. Никак, бывало, не подладишься. Приходилось черпать в посудину ковшом. Одна морока. Теперь удобно. Порядок тут наводить приходится частенько. Со скота–то какой спрос? Забредет, напакостит. Однажды собрался огородить родник. Да передумал. Скотину тоже понять надо. Ей тут удобно напиться.
Позднее, когда взошла луна, мы намекнули деду, что интересно бы послушать ручей ночью. Он охотно согласился. Шли, как и прежде, гуськом: за дедом – Витька и я, а следом – Дружок с Джоном.
Когда дед остановился посредине склона, мы замерли без напоминаний. Действительно, родник журчал куда звонче, чем утром. Даже прослушивалась какая–то неизвестная нам мелодия. Долго мы простояли, вслушиваясь в бесконечную мелодию, рассматривая на небе звезды. Здесь, в горах, они были значительно крупнее, чем в селе, и светили намного ярче. А луна, казалось, зацепилась за макушку тальника. Она несла свою вахту. Заодно присматривала за нами, чтобы не снимали с неба звезд. И не замутили бы родничок–говорун.
![Книга «Память-счастье, как и Память-боль…» [Воспоминания, документы, письма] автора Юрий Манн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pamyat-schaste-kak-i-pamyat-bol-vospominaniya-dokumenty-pisma-416345.jpg)