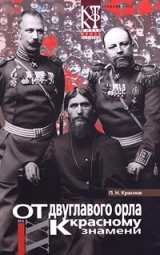
Текст книги "От Двуглавого Орла к красному знамени. Кн. 1 (др. изд.)"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 65 страниц)
XXIX
После чая Саблин с начальником штаба собрались ехать верхом в штаб корпуса.
На улице, за палисадником поповского дома, бравый вестовой гусар в коротком полушубке и краповых чакчирах, в ярко начищенных сапогах до самого колена, держал под уздцы вороную рослую лошадь. Сытая кобыла нервно рыла тоненькой точеной ногой снег, вздыхала и слегка пофыркивала, косясь на крыльцо, откуда должен был выйти ее хозяин. Блестящая тонкая шерсть была ровно приглажена и на солнце отливала в синеву. Коротко, по репицу остриженный хвост нервно взмахивал вправо и влево, отмахиваясь от воображаемых мух, или с силой бил по крупу. Леда знала, что она хороша, что она любима своим господином, что впереди хорошая прогулка по мягкой, усыпанной снегом дороге, сладкий запах хвойного леса и солнце, а после теплый сарай поповской усадьбы, обильный корм и радостная встреча с ее старым другом Флорестаном, и от этого все существо ее было наполнено радостным волнением, сердце мощно билось и наполняло жилы горячею кровью. Она косилась на крыльцо, сердясь на хозяина, что он не идет, и поглядывала на стоявшую поодаль группу из трех лошадей – начальника штаба и двух вестовых. Она их всех знала и всех ценила по-своему.
Толстого и ленивого Бригадира, казенно-офицерского коня Семенова, она глубоко презирала за его лень, за то, что он конь, за то, что он не понимал и не мог оценить всей ее кобыльей прелести и кокетства. Голубка – серая кобыла вестового, с которой ей часами приходилось стоять рядом, была ее поверенной в лошадиных тайнах. Она то объедала ее, выбирая лучшие травки из подкинутого им обеим снопка сена, то отдавала ей гордо свой недожеванный овес. «На, мол, ешь, Бог с тобой!» Кобылу Бочку вестового Семенова она также презирала, как и Бригадира, уже за одно то, что она покорно ходила за Бригадиром и стояла рядом с ним.
Леда слышала сквозь две двери голос своего хозяина и то прижимала тонкие, блестящие, душистые, шелковой шерсткой покрытые уши к темени, то косилась ими на двери, выворачивая темный агатовый глаз так, что белок показывался с краю, и тяжело вздыхала.
«И чего томит! И чего там болтают, – думала она. – Скорее, скорее бы!»
Но вот он вышел. Она еще не увидала его, но всем существом своим почувствовала его приближение. Она нервно вздрогнула, перестала копать снег и замерла в сладостном ожидании.
– Леда! Леда моя! – услышала она ласковый голос и тихо откликнулась сдержанным ржанием.
– Ишь, отвечает! Узнала, – сказал вестовой Ферапонтов.
Леда рассердилась на него. «Не мешай мне», – будто сказала она и ударила гневно задней ногой о землю.
Мягкая, так хорошо знакомая рука потрепала ее по шее и по щеке и поднесла ко рту кусок сахара. Но Леда не взяла сахар. Она вся отдалась волнующему чувству душевной любви, она отбросила сахар и сладостно нюхала руку своего хозяина, своего господина, своего Бога!
– Ишь ты, и сахар не ест, – сказал Ферапонтов, – баловница! А узнала, ей-Богу, узнала. Соскучилась за вами.
Натянулось левое путлище, коснулось бока колено, и сразу приятная тяжесть легла на седло, и Леда почувствовала свободу. Ей хотелось прыгнуть, затанцевать, подбросить задом, взвизгнуть и поскакать, задрав хвост, но мягкое нажатие на нижнюю челюсть железа мундштука и прикосновение сапог к бокам сказали ей: «Нельзя». Она перебрала всеми четырьмя ногами, точно не зная, с какой начать, и пошла, широко шагая, подняв голову и шумно вбирая теплеющий под солнцем воздух.
Радость движения, радость жизни охватили ее простое существо и передались такими же простыми ощущениями счастья, сладостным сознанием свободы и силы самому Саблину.
Играючи она неслась широкою рысью и как бы говорила всем – и лошадям ее сопровождающим, и маленьким воробушкам, и белке, пугливо вскочившей на елку и смотревшей оттуда любопытными черными глазами: «Смотрите, какая я, смотрите, как я могу», – и со стороны казалось, что она совсем не касается земли своими тонкими напруженными, как струны, ногами.
– Какая красавица ваша Леда! – сказал Семенов, – все любуюсь на нее и не могу налюбоваться.
– Не правда ли? – ласково сказал Саблин и потрепал Леду по шее.
Леда согнула крутую шею, скосила глаз и под нажатием мундштука пошла шагом. Она поняла похвалу, поняла ласку, и гордая и счастливая, вытянувши шею на отданных поводьях, шла, себя не чувствуя от охватившего ее восторженного сознания, что она любима своим богом…
– Я очень рад, что вам удастся порадовать Карпова, – сказал Семенов. – Я с ним без вас ближе познакомился. Прекрасный юноша.
– Хороший офицер, – сказал Саблин.
– Его мечта – умереть на войне. Вы знаете, он был в лазарете Императрицы и очарован. Мне кажется, бедняга безумно влюбился в великую княжну Татьяну Николаевну.
– Ну, это не страшно, – сказал Саблин.
– Он грезит умереть героем, и чтобы только ее о том уведомили.
– Мальчишество, – сказал Саблин.
– И право, ваше превосходительство, есть много хорошего в этом мальчишестве. Ведь сколько их убито, сколько умерло по лазаретам с пустым сердцем. А этот умрет с сердцем, полным счастья и любви.
– Зачем так? Может, еще нас с вами переживет.
– Ох, ваше превосходительство. Сколько их убито. Помните Сережина.
– Гусар?
– Гусарик… Так его сестры в корпусной летучке звали. Красоты неописанной был юноша. Что за брови, что за усики, пел – божественно! И помните сестру Ксению – француженку. Ну, любовь между ними была, чистая, хорошая… О помолвке думать не смели. Каждый себя считал недостойным. Тогда в разъезде, у Камень-Каширского рота германцев отрезала ему путь. «Ребята! За мной!» – в шашки врубился в роту, выскочил и всех людей вывел. Но у самого две пули в животе. Как он доехал – чудо. Привезли в летучку. Ну, Ксения над ним. Я был тогда в лазарете. Посмотрел на нас, на Ксению. Страдал, должно быть, ужасно. «Как хорошо умирать!» – сказал, вытянулся, закрыл глаза и умер. Вот такой же и Карпов. Эти молодчики не только не скажут, но и не подумают, что живому псу лучше, нежели мертвому льву.
– А есть такие, что говорят так? – спросил Саблин.
– Было немного. Становится больше. А ведь Карпов… Да ему теперь что-нибудь отчаянное поручить. Только осчастливите!
«Какая хорошая дорога», – думала Леда, идя по широкой аллее между двух канав, обсаженных громадными липами. Солнце пригрело, и снег таял. Черная, блестящая и жирная земля обнажилась на колеях.
– «Тут бы галопом хорошо! Ну, милый! Галопом»…
Саблин понял ее просьбу, он подобрал поводья, разобрал по-полевому и не успел приложить шенкеля, как Леда радостно свернулась упругим комком, отделилась от земли и пошла, далеко выбрасывая правую ногу и подставляя левую красивым и легким галопом. Она прибавила ходу, на нее не рассердились.
«Вот хорошо-то!» – думала она, косясь на тяжело скакавшего Бригадира, и все прибавляла и прибавляла хода. Хвост ее вытянулся в одну линию с крупом, и красивым опахалом свешивались с него блестящие волосы.
Так и дошли они все, возбужденные быстрым ходом, счастливые и взволнованные, полевым галопом до самого господского дома, где помещался командир корпуса.
XXX
– У комкора начдив 177 и ком 709 полка, – сказал румяный, завитой офицер-ординарец в изящно сшитом френче, пропуская Саблина и Семенова в темную гостиную, уставленную богатою старинною мебелью. – Впрочем, я доложу-с…
Он вышел и сейчас же вернулся. Ему доставляло удовольствие говорить входившими тогда в моду сокращенными выражениями, вместо «командир корпуса» – «комкор», вместо «начальника дивизии» – «начдив».
– Комкор вас просит, – сказал он.
Саблин прошел в небольшой кабинет, где сидел знакомый ему по Петрограду генерал-лейтенант Зиновьев и какой-то мрачного вида пехотный полковник. Командир корпуса, старый генерал от инфантерии Лоссовский, встал ему навстречу.
– Как скоро вернулись, – сказал он. – Не понравилось, поди, в тылу! Но как я счастлив! Вы очень и очень кстати. Давайте посоветуйте нам. Я с Леонидом Леонидовичем никак не согласен. Вы знакомы? Начальник кавалерийской дивизии генерал-майор Саблин. Наш Мюрат…
– Как же, – сладко улыбаясь, сказал Зиновьев. – Имели удовольствие встречаться в Петроградском округе. – Я думаю, – обратился он к корпусному командиру, – генерал мог бы нам помочь.
– Вот видите, Александр Николаевич, – показывая широким жестом на карту, сказал Лоссовский, – у нас тут разногласие. И опять я слышу те слова, которые я терпеть не могу слышать и которых я не должен слышать : «Это невозможно». Позвольте, господа, на войне нет невозможного. Там, где люди готовы отдать жизнь, там не может быть ничего невозможного. Да-с, – он надул крупные пухлые губы и разгладил свои усы с подусниками. – Поди, Суворову Багратион не говорил, что эт-то невозможно. Русскому солдату, милый полковник, все возможно. Все. Дело только в проценте потерь. Только в проценте! А на войне, не без Урона. Да-с…
– Но, если, ваше превосходительство, процент потерь будет равен ста – ничего не выйдет, – сказал почтительно, но грубоватым тоном командир полка.
Лоссовский пожал широкими плечами.
– Тут дело все в том, – сказал он, обращаясь к Саблину, – что нам надо подыскать петровского солдата, знаете, того богатыря, которому Петр Великий в споре с немецким королем Фридрихом о дисциплине приказал прыгать в окно. Надо отыскать офицера, который смело и не задумываясь пошел бы на верную смерть. И вот полковник Сонин такого у себя в полку, а Леонид Леонидович у себя в дивизии не находят-с. А? Как вам это покажется?
– Мне это не вполне понятно, ваше высокопревосходительство, – сказал Саблин.
– Извольте, я вам объясню. Глядите на карту.
Лоссовский пододвинул Саблину громадный план, склеенный из многих листов, на котором до мельчайших подробностей было изображено расположение наших и немецких войск. Две зубчатые линии, извилистая и ломаная – красная и черная, сходились и расходились, закрывая собою контуры лесов, болот, деревень.
– С первым дуновением весны, как пишут в хороших романах, мы переходим в наступление, – тихо и таинственно заговорил Лоссовский. – Это, конечно, секрет полишинеля. Об этом говорят все жиды местечка Рафаловки и пишут немецкие и русские военные обозреватели. Командарм возложил прорыв позиции на мой корпус. Ну, меня еще усилят. Вы понимаете, что надо сделать загодя кое-какие работы, подготовить новые позиции для батарей, срепетировать, так сказать, всю пьесу, чтобы долбануть без отказа. Я хочу прорыв на узком фронте и сейчас же в этот прорыв, еще теплый – кавалерию – две-три дивизии, вас в том числе. Ну вот, милый Александр Николаевич, рассмотрите на карте и скажите, где бы вы нанесли удар и где повели демонстрацию.
– Места и позиция мне хорошо знакомы, – сказал Саблин. – Я дрался с дивизией здесь осенью, я закрепился на ней и передал позицию пехоте.
– Ну вот и отлично. Так где же?
Саблин долго вглядывался в карту и, наконец, сказал:
– Удар я нанес бы у Костюхновки, демонстрацию у Вольки Галузийской.
– Ну вот, что я говорил, – с торжеством обратился Лоссовский к Зиновьеву.
– Его превосходительство так говорит потому, что не знает обстоятельств, – хриплым, простуженным басом сказал командир пехотного полка. – Тут есть одно роковое обстоятельство. У Костюхновки, сами изволите видеть, наши и неприятельские окопы сходятся вплотную. Тут так называемое «орлиное гнездо». Между нами и ими всего тридцать шагов. Солдаты свободно переговариваются между собою из окопа в окоп. Тут не то что выйти невозможно безнаказанно, но посмотреть в бойницу стального щита нельзя. Ухлопают.
– Ухлопают первого, а перед вторым, перед цепью растеряются и сдадут, – сказал Лоссовский.
– Ну, конечно же, – подтвердил и Саблин. – Сами посудите, здесь тридцать шагов. Мгновение и уже пошла штыковая работа. Позицию занимает польская бригада Пилсудского. Да никогда поляки не выдержат удара. Вы только к проволоке подойдете – они уже бегут. А там, где вы хотите, – густой болотистый лес. Артиллерийская подготовка невозможна. Проволочные заграждения в три полосы и все с фланговым обстрелом из пулеметов, укрепления глубокие, местами бетонированы, и занимает их венгерская спешенная кавалерия. Этих-то мы знаем! Умеют умирать. Да и идти придется три версты. Сколько дойдет? Тут вы наверняка положите двадцать, тридцать человек, а там, пока вы дойдете, вы потеряете сотни людей.
– Ваше превосходительство, – сказал командир пехотного полка, – в этом у нас и спор. Тут целая, изволите видеть, психология. Наверняка. Наверняка-то никто и не идет. Там каждый думает, – ну убьют кого-нибудь. Да, может быть, не меня, а другого кого-то. А тут именно меня. Это ведь, как самоубийством кончить, под поезд, что ли, на рельсы броситься. Никто не хочет – наверняка-то. В этом и вся штука. Я уже говорил не раз. Хотели мы тут сами поляков ликвидировать, фронт выровнять, ну, вызвал охотников. Наверняка-то никто и не идет. Что ему Георгиевский крест, когда он его наверняка не увидит. Один штабс-капитан, пьяница притом, согласился было. Я, говорит, пойду. В пьяном виде, понимаете. А потом раздумал. «У меня, говорит, жена и дети, ведь уже наверное вдовою, да сиротами будут». Другой тоже вызвался. Подпоручик один. Порохом мы его зовем. Смельчага, знаете, феноменальный. Ночью ли караул неприятельский снять, в бою ли на батарею броситься – первый человек. Три раза ранен. Одного глаза нет. Кажется, уже калека. Совсем было сговорили. Тебе, мол, все равно. Все одно безпутной головы не сносить. Согласился было, а потом и на отказ. «Нет, говорит, наверняка не пойду. Нехорошо испытывать Бога. Будь хотя один шанс, пошел бы, а когда никакой надежды нет, – не могу».
– Тут, ваше высокопревосходительство, – сказал Зиновьев, – надо свежих людей, которые всех подробностей бы не знали. Вот если бы, скажем, накануне штурма Александр Николаевич своих бы молодцов прислал. Между казаками наверно есть такие отчаянные, что и наверняка пойдут. В свою судьбу верят. Я помню, у Лабунских лесов в августе 1914 года замялась моя пехота. А рядом казаки были. Чаща непроходимая. Орешник там разросся, что прямо джунгли какие-то. А оттуда австрийцы так и садят. Казаки пришли. Спешились, перекрестились – и айда – так и ухнули в лес. А за ними моя пехота. В два часа лес покончили. Пленных больше шестисот набрали. Так и тут бы. Свежего кого-нибудь. Кто не был еще под гипнозом страха. Ведь сидят мои люди здесь всю зиму, и дня не проходит, чтобы кого-нибудь не убили и все в «орлином гнезде»! Каждые полмесяца я новую роту ставлю и каждую неделю пять – десять человек в этой роте ухлопают. Вся дивизия «орлиное гнездо» знает.
– Что вы скажете, Александр Николаевич, – сказал Лоссовский. – Мысль не плоха. А подумайте-ка? Примените кого из своих. Кого, может быть, и не жалко.
Саблин долго молчал.
– Нет. Всех жалко, – сказал он. – Я понимаю – послать на подвиг, когда есть хотя один шанс, что посланный уцелеет, это одно, а послать, когда нет ни одного шанса, – это уже другое. Посылаешь эскадрон в атаку, знаешь, что половина не вернется, но ведь не знаешь, кто именно ляжет – а тут послать и знать, что эти погибнут… Но я понимаю, что все-таки это надо сделать.
– Сделайте, Александр Николаевич. Я на вашу славную дивизию надеюсь, – сказал Лоссовский. – Подберите, что ли, какого негодяя, которого все равно суду предать надо и расстрелять, Георгиевский крест ему авансом и вдове тысячу рублей. А? Что? Правда?
– Нет, ваше высокопревосходительство, – серьезно, в глубоком раздумье, словно не сам он говорил, а кто-то другой произнес с расстановкой и, чуть заикаясь от охватившего его волнения, Саблин, – чистое дело, святое дело надо делать и чистыми руками, – я найду вам человека. Только скажите мне когда и позвольте съездить самому и осмотреть обстановку.
– Не угодно ли в первую лунную ночь пожаловать ко мне в дом лесника, вместе и поедем. Днем-то туда не пройдешь. На выбор бьют по дороге. Место открытое. Я позвоню вам по телефону, – сказал Сонин.
– Хорошо. Я осмотрю все сам и найду офицера! – сказал, вставая, чтобы откланяться корпусному командиру, Саблин.
– Спасибо, Александр Николаевич, – пожимая руку Саблину; сказал Лоссовский и признательно большими выпуклыми серыми глазами, в которые навернулась слеза, посмотрел в самую душу Саблину.
XXXI
Назад в свой штаб, к великому негодованию Леды, Саблин ехал шагом и маленькою рысью, не торопясь и не позволяя ей прибавлять хода. Стало совсем по-весеннему тепло. Солнце с голубого ясного неба светило ярко, и ожили ручьи в лесу, сливаясь в придорожные канавы и напевая сереброголосыми струями ликующий весенний гимн. Там, где на пути туда были темные пятна жирной земли среди белого снега, были теперь большие лужи, и снег отошел далеко от них и стал рыхлый и ноздреватый. В шинели было жарко. Лоб намокал под папахой. Лес был полон таинственных шорохов, будто готовился к весеннему маскараду и искал и сзывал могучие соки земли. С ветвей шла капель, шуршащая по старым листьям и тихо раздвигающая невидимыми ручьями мох, птицы перекликались звончее, и выбежавший на дорогу серый пушистый заяц не бросился опрометью назад, но привстал на задние лапки и стал внимательно вглядываться в приближавшихся лошадей. Леда удивилась его нахальству и, вся насторожившись, напружинила спину, готовясь прыгнуть от притворного испуга. Семенов не выдержал и крикнул на весь лес такое «тю!», что лес задрожал и целый пласт снега упал с соседней елки, а заяц исчез моментально в лесу. И долго ему чудился страшный окрик, и на всем скаку он выделывал прыжки, выметывая таинственные петли.
К штабу подъезжали в третьем часу.
– Вам и отдохнуть не придется, ваше превосходительство, – сказал Семенов, стеком показывая Саблину на выстраивавшихся вдоль поповского палисадника гусар и казаков – Георгиевских кавалеров и на хор трубачей, разбиравших инструменты.
– Ничего. Я чувствую себя отлично. Прогулка освежила меня, – отвечал Саблин.
Весь домик священника был перевернут вверх дном. Из столовой в гостиную широко, на обе половинки, распахнули двери и сквозь обе комнаты протянули длинный обеденный стол. Собрали всю посуду, какую могли найти в селе, и стол был накрыт на двадцать приборов. Давыденко, любитель выпить, воспользовался поездкой к кавказцам, у которых всегда каким-то чудом было вино, и привез маленькие бутылочки Сараджиевского коньяка и толстые темные бутылки кахетинского, белого и красного.
Скатерти были разноцветные, посуда разнокалиберная, не всем хватило салфеток и рюмок, но стол был убран ветками елок и сосен, букетами, стоявшими посередине, а с потолка свешивались три больших клубка зеленой омелы, усеянной белыми ягодами.
Ординарцы постарались придать обеду торжественный вид. Старалась и матушка, запершаяся на кухне с Семеном и помощником шофера Поляковым.
Все офицеры штаба, командиры гусарского и донского полков, от которых были награждаемые люди, командир артиллерийского дивизиона, ротмистр Михайличенко и хорунжий Карпов были приглашены на обед. Батюшка в парадной лиловой рясе похаживал вдоль стола, потирая руки и устанавливая стулья.
– В тесноте, да не в обиде, – говорил он, улыбаясь радостной улыбкой и косясь на бутылки. – Прямо пир Валтасара у меня. Уму неподобно. Прощенья просим.
Трубачи встретили Саблина маршем того гвардейского полка, в котором он провел двадцать лет своей жизни и который был связан для него со столькими жгучими, сладкими и тяжелыми воспоминаниями… Этот марш слыхал он, когда впервые вышел в полк и взволнованный счастьем свободы приехал в полковое собрание… Этот марш сыграли ему и Вере Константиновне трубачи, когда после венчания вышли они из церкви… Под звуки этого марша повезут хоронить его тело.
Так верил Саблин и иначе не мог себе представить своих похорон.
Со звуками этого марша сливались в его воспоминаниях громовое «ура» и осеянный вечным солнцем лик венценосного вождя Российской Армии Государя Императора.
И всякий раз, как Саблин слышал мощные аккорды своего полкового марша, сердце теснилось волнением и глаза туманились слезою.
Саблин слез с лошади, потрепал ее по шее и дал ей сахару. Он обошел фронт людей и поздоровался с ними. Все знакомые, бодрые люди, герои Железницы, отдохнувшие в тылу солдаты были румяны, и глаза их блестели от сытой спокойной жизни. У казаков кудри вились и отливали металлом. Люди были красавцы, молодец к молодцу, высокие стройные, большинство сероглазые или с голубыми глазами, смело и радостно смотревшими на Саблина. При ответе ровные, крепкие зубы ярко блестели из-под усов.
«Как хороши наши солдаты! – подумал Саблин. – Лучше и красивее нет на свете».
– Герои Железницы, – сказал он, становясь против фронта, – именем Государя Императора поздравляю вас Георгиевскими кавалерами… Вы…
Саблин хотел продолжать, но дружный громовой ответ – «покорнейше благодарим, ваше превосходительство!» – прервал его.
– Носите эти кресты с честью! – говорил Саблин. – Помните, что этот крест святого великомученика Георгия обязывает вас и в бою, и в мирной жизни вести себя так, как надлежит вести Георгиевскому кавалеру. Вы должны для других людей своего взвода быть образцом храбрости и честного исполнения долга перед Царем и Родиной, И, когда придете вы в родные села и деревни, каждый и там будет смотреть на вас, как на кавалера, и вы должны вести себя честно, быть трезвыми и разумными работниками на счастье России и на радость нашему великому Царю…
– Постараемся, ваше превосходительство, – крикнули дружно солдаты.
Саблин пошел к правому флангу. На фланге гусар стоял командир полка и рядом с ним лихой длинноусый ротмистр Михайличенко, командовавший эскадроном гусар, ворвавшимся в Железницу. Капитан Давыденко подал Саблину коробочку с орденом.
– Именем Государя Императора поздравляю вас, ротмистр, с орденом Святой Анны второй степени с мечами.
Он подал коробочку ротмистру и протянул ему свою руку для пожатия.
– Покорно благодарю, ваше превосходительство, – отчетливо, по-солдатски, отчеканил ротмистр, крепко, до боли, сжимая руку Саблина. Одну секунду они смотрели в глаза друг другу, и Саблин понял, что этот немолодой уже ротмистр, – и Саблин знал это, – очень неглупый и образованный человек, философ, отличный семьянин, муж прекрасной пианистки и отец четырех детей, – этот ротмистр, не колеблясь, в эту минуту пойдет на смерть, увечье и смертные муки… За кусочек золота, покрытого эмалью, на алой ленте. Он знал, что сегодня будет послана от него в семью радостная телеграмма, и немолодая и некрасивая мадам Михайличенко будет плакать слезами радости.
«Как это непонятно», – подумал Саблин, и странное волнение охватило его самого. Дальше стояли солдаты. Саблин каждому подавал Георгиевский крест с продернутою ленточкою и каждому говорил одну и ту же стереотипную фразу: «Именем Государя Императора награждаю тебя Георгиевским крестом!».
Солдаты неловко брали крест, большинство крестилось и целовало его. Сзади командир полка с ординарцем Саблина, корнетом фон Далем, суетились, прикладывая ленточки с крестами к шинелям. И опять Саблин видел взволнованные лица, слезы на глазах и радостное возбуждение.
«Много ли надо человеку, – думал Саблин, – грубо отштампованный кусочек белого металла и клочок черно-желтого шелка, а сколько радости, сколько готовности умереть за это! Немногого стоит жизнь человека!»
На правом фланге казаков стоял полковник Протопопов, и рядом с ним хорунжий Карпов. Едва только Саблин взглянул в большие лучистые глаза Карпова, опушенные длинными изогнутыми ресницами, как ему вспомнился Облонский в «Анне Карениной» и его восклицание при встрече с Левиным: «Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам».
Такою радостью и вместе с тем смертельною тоскою были наполнены эти чистые большие глаза юноши, так ясно смотрели из них и счастье любить, и отчаяние сознавать полную безнадежность своей любви, что Саблину даже жутко стало. Так смотреть должен был Вертер, так смотрят… самоубийцы…
Давыденко исполнил свое обещание. Он подал Саблину не только прекрасную кавказскую, всю в серебре и золоте шашку, но у головки эфеса скромно блистал искусно вделанный в нее беленький крестик и Георгиевский новенький темляк был ловко, по-кавказски ввязан на шейку эфеса. Тонкая без украшений, щегольская джигитская портупея черной кавказской сыромяти была надета на кольца. Шашка лежала на подушке малинового бархата с вышитой собачкой, не совсем гармонировавшей с положенным на нее оружием.
– Именем Государя Императора и по постановлению Георгиевской думы я счастлив, хорунжий Карпов, передать вам это оружие храбрых. Пусть из рода в род передается оно у вас, как память о вашем славном подвиге.
Лицо Карпова, похудевшее от раны, покрылось румянцем, и дрогнувшим голосом Карпов поблагодарил Саблина.
– Хотите, я пошлю ей телеграмму, – сказал Саблин.
– Кому? – чуть слышно спросил Карпов.
– Татьяне Николаевне, – сказал Саблин так тихо, что Карпов только по движению губ догадался, о ком говорит ему его генерал.
– О да, если можно, – заливаясь краской до самых волос, проговорил Карпов.
– Ну конечно! А вы напишите письмо.
Ординарец, улан фон Даль, надевал на смущенного Карпова новую шашку, снимая его старую, простую. Саблин подходил к правофланговому казаку, застывшему в напряженной позе с повернутой направо головой.
«Этот юноша, – думал Саблин, – умрет с наслаждением и совершит какой угодно подвиг. Он пойдет вперед даже и тогда, когда будет знать, что его наверное ожидает смерть.
Но смогу ли я послать его?..»
И уже дрогнувшим голосом Саблин сказал казаку: «Именем Государя Императора награждаю тебя этим Георгиевским крестом».
Рука его дрожала, когда он передавал крест.








