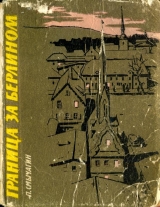
Текст книги "Граница за Берлином"
Автор книги: Петр Смычагин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Ох, хлопцы, знали б вы, как впивается в тощую кожу цемент! Так и рвет, как рашпилем, аж в мозгах отдается, а кровь от холодной воды стынет… Я после того месяца два не мог сидеть. Штаны в том месте все время промокали и засыхали так, что аж ломались… Вот на такого бы гада тебе посмотреть, Фролов, ты бы узнал и то, чего никогда не снилось…
Этот страшный рассказ взбудоражил солдат. Они начали спорить. Одни доказывали, что лучше смерть, чем такое унижение; другие утверждали, что безрассудная смерть никому не нужна, если этой смертью ничего не достигается, что это только на руку фашистам, что Земельный тогда не дожил бы до Дня победы и не был бы с нами.
Не знаю, чем кончился спор, так как меня окликнул Таранчик, сообщив, что с линии привели задержанного. Когда я вышел из сада, Соловьев, конвоируя задержанного, подходил к подъезду дома.
Меня поразило сходство задержанного с тем человеком, который стрелял в меня несколько часов назад. Те же кривые ноги, тяжелый торс и бычий взгляд. Несомненно, это был Густав Карц. Он был без головного убора, жесткие темные волосы торчали в разные стороны. Увидев меня, он впился недоумевающим, несколько испуганным взглядом и замедлил шаг, так что Соловьев, зазевавшись, почти наткнулся на него.
Поравнявшись с Таранчиком, пленник ударом расшиб ему лицо и, резким движением опрокинув маленького Соловьева, пустился наутек. Таранчик, быстро придя в себя, вскинул автомат, но я успел остановить его. Они с Соловьевым бросились в погоню. Я тоже пытался бежать, но после первых же шагов убедился, что не в состоянии этого сделать.
Густав Карц, выскочив со двора, свернул в поле и бежал к линии. Таранчик отмеривал саженные шаги во всю длину своих ног, но расстояние между ним и Карцем сокращалось медленно. Соловьев отстал. Беглец оглядывался на погоню через правое плечо, поэтому не видел, что сзади несколько слева бежали солдаты, перескочившие через задний забор сада. Кто-то из них крикнул, и это ускорило развязку.
Карц, оглянувшись налево, повернулся к бегущим и направил пистолет в сторону безоружной погони, впереди которой бежал Земельный. Раздался выстрел, но никто не убавил шага. Карц судорожно рвал кожух пистолета, – выстрела не получалось. Тяжелый парабеллум полетел навстречу подбегающему Таранчику. Тот успел закрыться автоматом и со всей яростью бросился на Карца. Подоспевший Земельный заломил руку бандита и посадил его на землю.
Все это произошло так быстро, что не только я, но даже приотставшие солдаты не успели добежать до места свалки.
– Ишь, осел, еще после войны покушается на единственную жизнь ефрейтора Таранчика, – сказал он, подходя ко мне с задержанным. Кровь на ссадине смешалась с грязью, но Таранчик победно улыбался.
– Какой же это осел? Это – матерый волк, – возразил я. – Соловьев, почему перебежчик не был разоружен сразу при задержании?
– Так мы и не подумали… Он даже не пытался бежать или сопротивляться. Такой робкий был…
Соловьев, конечно, понимал свою ошибку, но служба на линии была для нас новым делом, а ошибки во всяком новом деле неизбежны. Бдительность солдат особенно усыплялась тем, что абсолютное большинство задержанных не только не имело оружия, но даже перочинных ножей или лезвий для безопасной бритвы. Это были мирные люди. Такой случай был первым и многому нас научил.
Когда Густава Карца привели в комнату, он тяжело опустился на стул и, не дожидаясь вопросов, заявил:
– Можете расстреливать сразу: я отказываюсь отвечать на ваши вопросы.
Но это не был мужественный вызов. Карц походил на побитого пса, который рычит от страха. Карц хорошо помнил законы военного времени, знал, чем платили гитлеровцы советским людям за малейшее непослушание.
– Откуда вы взяли, что вас собираются расстреливать?
– Такова воля победителя.
– Здесь порядки совсем не те, что были у вас в фашистской армии. Ни расстреливать, ни даже допрашивать я вас не собираюсь. Мне только непонятно, куда вы девали патроны.
– Какие патроны? – удивился Карц.
– Пистолетные.
Он недоуменно передернул плечами, вывернув нижнюю губу.
– Вы не понимаете вопроса? Хорошо, я задам его иначе, понятнее. Один патрон из вашего пистолета израсходован только что на солдата, другой – на меня, третий – на вашего собственного сына и на вашу любовницу. Так?
Лицо Густава прояснилось. Он согласился со мной.
– Там, кажется, на двоих хватило одного патрона?
– Да.
– Где же остальные патроны из обоймы?
– А их и не было, господин лейтенант, – оживился Карц. В его глазах мелькнула какая-то надежда. – Этот пистолет давно у меня валялся, и в нем было только три патрона.
Этому нельзя было поверить: не из-за трех патронов хранил он оружие, подвергая себя опасности, ибо был строжайший приказ о сдаче всех видов оружия. Однако я согласился с ним, чтобы продолжить разговор.
– А почему вы избрали именно этот участок для перехода через линию? В районе Грюневальда ближе и удобнее: лес, а здесь открытое место.
– Я считал, что погоня будет именно в том направлении. – Карц несколько успокоился и, навалившись на спинку стула, повеселевшим голосом продолжал: – Не мог же я думать, что судьба сведет меня с вами в один день два раза! О, если бы знал, что встречусь с вами сегодня еще раз, то обошел бы это место за сто километров.
– Ну, а если бы я не знал вас?
– Тогда я мог бы сойти за самого обычного немца, какие переходят линию десятками.
Расчет бандита был прост и верен.
Отчего же Густав Карц успокоился, когда речь зашла о самом тяжелом его преступлении: убийстве двух человек? Было видно, что он особенно тщательно скрывает количество патронов. За этим, должно быть, скрывалось другое преступление.
Поздно вечером я отправился к бургомистру и от него позвонил по телефону в Грюневальд. Полицейский обещал завтра же увезти Густава Карца для дальнейшего следствия.
4
Дни летели за днями в напряженной будничной жизни. Орел все еще болел. Рана затянулась скоро, однако как только он резко наступал на поврежденную ногу, корка на больном месте лопалась, и рана кровоточила.
На линию проверить посты я отправился пешком. За аркой меня окликнул Карпов, стоявший на посту у подъезда.
– Возьмите вот это, товарищ лейтенант! – Он успел взять плащ-палатку и бежал с ней ко мне. – Возьмите: дождь будет.
– Откуда тебе это известно?
– Возьмите, не пожалеете!
Он кинул мне плащ в руки и бегом вернулся на пост. Мне ничего не оставалось делать, как перекинуть навязанную вещь через руку и двигаться дальше. Этот сибиряк хорошо знал природу, внимательно наблюдал за ней и, кажется, даже вел дневник погоды.
Действительно, парило сильно; ласточки проносились над самой землей; воздух был недвижим, дышать было нечем. С юго-запада из-за горизонта выплывали белые барашки облаков, не предвещавшие никакого дождя.
Избушка, которую мы называли караульным помещением, стояла у самой линии, справа от дороги. Но это не было обычное караульное помещение, это скорее был пересыльный пункт для задержанных. До избушки оставалось еще с километр, то есть половина пути, когда подул легкий ветерок. Он пробирался в рукава и за ворот гимнастерки, приятно охлаждая тело.
Вдруг набежала тень. Я обернулся к солнцу – на него наползала огромная черная туча с фиолетовыми краями. Не успел я пройти и полкилометра, как рванул буревой ветер, полетели редкие, очень крупные капли дождя. Они громко щелкали по асфальту, образуя темные пятна величиною почти с пятак. Дождь быстро усиливался, сделалось темно, начался ливень. Накинув плащ-палатку, я поспешил под ветхую крышу избушки.
В ней было двое: Жизенский и Митя Колесник. Они сидели за столиком, наблюдая за линией через окно. Жизенский, как всегда, аккуратно одетый, доложил, что дела идут хорошо, задержанных пока нет и на постах все благополучно.
По окнам хлестал дождь, скатываясь сплошным потоком со стекол. Избушка то и дело вздрагивала от мощных ударов грома и поминутно освещалась ярким синеватым огнем молний. В углу, у двери, появилась течь. Но скоро дождь резко начал спадать, громовые удары слышались все дальше и дальше, становилось светлее.
– А у нас тут собачки стали появляться, – словно невзначай обронил Митя Колесник.
– Что за собачки? – насторожился я.
– Одну мы видели с Журавлевым, когда я тут на посту стоял. Ту мы и во внимание не взяли. Бежит овчарка, ну и хай себе бежит, думаем. А сегодня рано опять в том же месте проскочила. И такая же точно! Овчарка.
– В какую сторону бежали?
– Туда, на ту сторону.
– Надо попытаться задержать, если еще появится такая собачка, – посоветовал я.
Стало совсем светло, выглянуло солнце, но над нами еще висел край тучи, и падали последние капли дождя, редкие и крупные, как перед началом грозы. Трава под окном избушки живо расправилась, сверкая на солнце прозрачными изумрудными каплями.
На улице было свежо, дул слабый ветерок, в выбоинах на дороге стояли лужи, отражая куски голубого неба.
– А вон она, товарищ лейтенант! – вдруг крикнул Жизенский, поправляя выбившиеся волосы и указывая в противоположную от линии сторону.
Огромными прыжками к линии бежала большая овчарка.
– Жалко, – сказал я, – хорошая собака…
– А я хлеба принесу, – подхватил Митя и бросился в избушку.
– Не надо! – крикнул Жизенский. – Какой дурак пустит собаку, чтобы она за каждым куском кидалась.
Собака быстро приближалась к линии. В это время с английской стороны из деревни Либедорф выскочили два легких танка. Они мчались к линии. Команда держала люки открытыми. Надо сказать, что англичане не имели на линии постоянных постов, а время от времени проезжали вдоль нее на легких танках, видимо, демонстрируя свою мощь.
Не доехав до линии, англичане круто свернули вправо от дороги и теперь неслись по засеянному полю, взрывая гусеницами целую тучу комьев мокрой земли и уничтожая посев. По этой же дороге к нам приближался легковой военный автомобиль, рассекая лужи на асфальте.
Митя все-таки вынес хлеб и бросил недалеко от себя, пытаясь окриком обратить на него внимание собаки. Но она, словно не видя нас, бежала в строго определенном направлении. Жизенский припал на колено и ловил эту стремительную цель на автоматную мушку.
Собака была уже возле самой линии. Послышалась короткая очередь – собака сделала огромный прыжок, проскочила между колючей проволокой линии, словно запнувшись, вытянулась во всю длину и затихла на земле, откинув голову.
Мы были еще далеко не опытными пограничниками, да и охраняли мы не границу, а демаркационную линию, на которой многое допускается из того, что запрещено на государственной границе.
Но мы хорошо знали и всегда строго выдерживали одно правило. Если приходится стрелять, то стрелять лишь с тем расчетом, чтобы ни одна пуля не легла на противоположной стороне.
Жизенский стрелял вдоль линии, и пули ложились на нашей стороне, но пораженная собака оказалась за линией. Мы стояли, соображая, как достать оттуда собаку, а тут еще подскочила к самой проволоке эта английская машина.
Из нее вышел щупленький, небольшого роста капитан английской армии. Маленькие очки в серебряной оправе и невоенная осанка придавали ему вид гражданского человека. Он улыбнулся нам и после обоюдного приветствия жестами, сказал что-то на английском языке. Я ответил ему на немецком языке, что не знаю английского.
– Очень хорошо, – тоже по-немецки сказал капитан. – Добрый день… Вам нужна эта собака?
– Да, нужна.
Трудно было поверить глазам. Капитан без единого слова полез в грязь за убитой собакой, не щадя своих желтых блестящих ботинок. Он безо всякой брезгливости ухватил ее за хвост, выволок на дорогу и просунул под проволоку.
Мы были изумлены до крайности. Капитан же осторожно перелез через проволоку и подал мне руку:
– Будем знакомы, – сказал он. – Меня зовут Чарльз Верн.
Я ответил рукопожатием и сказал, что меня зовут Михаилом.
На вид ему было лет сорок. Остренький носик на бледном лице все время как-то по-смешному дергался, от этого сползали очки, и он поправлял их ежеминутно. Русые усики были аккуратно подстрижены. Он не выпускал моей руки из своих рук, словно извиняясь, говорил:
– Вот сбылась моя мечта – встретиться с советским офицером и пожать ему руку. – Глаза его горели от возбуждения, он переступал с ноги на ногу и, казалось, хотел сказать еще что-то, очень важное.
– А раньше разве не было такой возможности?
– К сожалению, господин лейтенант, или как это у вас? М… м… не было, – ответил он и, заслышав гул танков, пошел к проволоке. Оказавшись по ту сторону линии и глядя на приближавшиеся танки, он зло говорил:
– Что делают, подлецы! Что делают! Сколько хлеба попортили. Ведь можно же было ехать по старому следу, так нет – они топчут новые участки хлеба.
– А кто же позволяет им это делать, господин капитан?
– О, дорогой мой, в том-то и дело: кто позволяет! Я начальник штаба здешней батареи, а только смотрю на это и развожу руками.
Танки приближались.
– Господин лейтенант, – словно опомнившись, продолжал он, – смогу ли я приехать к вам когда-нибудь в другое, более удобное время.
Трудно было сразу ответить на такой вопрос. В спешке я ничего не понял, не успел разобраться в намерениях этого господина.
– Пожалуйста, приезжайте, – ответил я, чувствуя, что молчать дальше уже неудобно.
Чарльз Верн вскочил в машину, круто развернул ее на шоссе и, поднимая радужные столбы брызг, помчался к Либедорфу.
Жизенский и Колесник осматривали собаку, оттащив ее к избушке. Когда я подошел к ним, они читали записку, извлеченную из потайного карманчика на ошейнике.
– Гляньте, товарищ лейтенант, как наш сержант стрельнул, – сказал Митя, указывая на рану в передней лопатке собаки. – Прямо ворошиловский стрелок!
Записка была совершенно безобидная. И если бы кто-нибудь из нас нашел ее на дороге и прочел, то, несомненно, бросил бы, не обратив на нее ни малейшего внимания.
«Милый дядюшка, – говорилось в ней, – спасибо Вам за совет. Я устроился на работу. Об этом я уже сообщал. Ева тоже работает успешно. В следующий выходной она собирается к Вам в гости. Когда же мне придется побывать у Вас, – не знаю.
О наших общих знакомых ничего не могу сообщить, потому что никого из них давно не видел. Ева слышала, что Ганс скоропостижно умер, а добрый дядюшка Карл очень болеет и, кажется, безнадежен. А без него развалится вся его семья, потому что дети непослушны и все время ссорятся между собой. Хоть бы вы приехали и помирили их.
С приветом Макс».
– Собаку закопайте, а если еще появится – не пропускать! – крикнул я сквозь гул танков, выезжавших на дорогу и направлявшихся в Либедорф.
Из открытых люков были видны вооруженные солдаты. Они победно улыбались, а сержант с переднего танка размахивал в воздухе пистолетом и что-то кричал нам. Потом кричали все, и все размахивали руками, обернувшись в нашу сторону. Танки вышли на дорогу и скоро удалились.
– Сообщите об этом на все посты, а если будет собака с той стороны, постарайтесь проследить ее путь, насколько это будет возможно.
Я пошел было по клеверному полю, стараясь отыскать след собаки, но клевер закрывал следы. Только изредка удавалось найти хорошие оттиски лап и по ним держать направление. Выйдя на широкий проселок, заросший мелкой травой, я совсем сбился со следа.
Потратив минут двадцать на поиски, я убедился в их бесплодности и пошел по проселку к большой дороге. Вполне ясно было лишь одно, что собака была пущена не из Блюменберга, ибо направление показывало много левее крайнего дома деревни.
Шагая по дороге домой, я вспомнил о приезжавшем офицере английской армии. Чего он хотел, этот офицер? Друг он или коварный враг?
К вечеру с северо-востока потянулись лохматые бурые тучи. Прохладный ветер рано загнал всех в дом, а когда ужинали, зашумел частый ровный дождь.
Я лег спать раньше обыкновенного и во втором часу ночи был разбужен сильными ударами грома. Дождь, казалось, сплошным потоком лил на крышу и шумными ручьями падал с нее, шипя и плескаясь где-то внизу. Яркие полосы молний то и дело разрывали темноту, ослепляя глаза. Треск этот был так силен, что звенели стекла в окнах и вздрагивал весь дом.
Любуясь диким разгулом стихии, я выкурил одну за другой две сигареты и снова лег спать. Раскаты грома быстро удалялись, дождь резко спадал…
– Пожар! Пожар, товарищ лейтенант! – кричал в самое ухо Соловьев, толкая в плечо и сдернув с меня одеяло.
Я открыл глаза: в комнате было темно, только свет от лампочки со двора проникал через окно.
– Где?
– А вон, вон, смотрите! Отсюда хорошо видно!
Внизу, в деревне, в том месте, где изгибалась речка и где стояла мельница Пельцмана, раскачивалось пламя, подгоняемое порывами ветра. Людей не было видно.
– Поднять всех по тревоге!
– Слушаюсь! – шепотом ответил Соловьев и, шлепая босыми ногами, побежал вон.
Я взглянул на часы: без четверти три. В нижнем этаже захлопали двери, забегали люди.
На посту у подъезда стоял Фролов. Это он заметил пожар, разбудил и послал ко мне Соловьева.
Дробный топот сапог огласил пустынную улицу. Солдаты бежали за мной, разбрызгивая лужи. Дождя не было. На небе между разрывами туч кое-где мелькали яркие крупные звезды.
На заставе оставались только Фролов, связист и Чумаков, который, как старший, должен был сообщить на все посты, что своевременной смены не будет.
Около мельницы, когда мы к ней приближались, бестолково суетились несколько человек. Двое метались и кричали около распахнутых дверей, которые были обвиты огненной каймой.
– Он погиб! Теперь он погиб! – охрипшим голосом повторял высокий худой немец с тонким горбатым носом и бледными губами.
– Кто погиб? – быстро спросил Земельный, подбегая к нему.
– Шеф! – выкрикнул немец с выражением надежды в округленных серых глазах. – Мой шеф! Господин Пельцман… – добавил он, безвольно опустив нижнюю губу, и еще более округлил глаза, когда увидел, что Земельный, не дослушав его, устремился прямо к дверному проему, заглядывая в него.
Солдаты побежали вокруг мельницы, не зная, что делать, ибо никакого пожарного инструмента не было. По улице спешили разбуженные жители с ведрами, лопатами, шлангами…
– Склад! – визгливо закричал кто-то. – Хлеб!!
Мельница и склад составляли одно здание, сложенное из камня. Порыв ветра выхватил из фронтона огромный язык пламени, и в ту же минуту подгоревшие стропила затрещали, заскрежетало железо креплений, и половина крыши над мельницей обрушилась. Сверху полетели обломки раскаленного шифера; в небо взвился столб искр и черного дыма; освобожденное пламя закипело с новой силой. По ветру, словно подвешенные на парашютах, плавно полетели яркие угли. Они неслись на юго-запад, в деревню, и оседали там между домами.
Некоторые из бегущих, очевидно, жители ближних домов, заметив эти искры, поворачивали назад. Старичок, трусивший впереди с коротким ломом в руках, с ужасом взглянув на искры, запрокинул голову и в этом положении остановился, решая, видимо, бежать ли вперед или вернуться назад.
Таранчик в два прыжка подскочив к нему, выдернул лом и быстро вернулся с ним, набросившись на замок склада. Старичок, словно обрадовавшись тому, что его освободили от тяжелой ноши, круто развернулся и с удивительной легкостью и проворством пустился назад.
Таранчик, вложив короткий лом в серьгу замка, пытался взломать его, но замок и петли были слишком крепки. Откуда-то вывернулся Земельный с огромной кувалдой. Он молча раздвинул толпившихся у дверей склада и, размахнувшись, ударил по замку. Сверкнули искры – замок слетел. Все, у кого не было пожарного инструмента, бросились в склад и стали выносить мешки с зерном и мукой.
Соловьев, заскочив на штабель мешков, сбросил оттуда брезент, старый комбинезон, несколько пустых мешков и скатился по штабелю, разобранному сверху. Все это поспешно схватил Земельный, и они побежали к речке.
Земельный, Соловьев и Карпов, завернувшись в мешки, что достал Соловьев, бросились в речку, затем побежали на мельницу. Пожилой мужчина, протянув шланг от водопровода из соседнего сада, упорно боролся с пламенем у входа в здание. Карпов взял у него шланг и передал Соловьеву, шагавшему сзади.
Соловьев сразу направил струю на спины товарищей.
Спрашивая разрешения на эту операцию, Карпов уверял, что на все потребуется не более одной минуты. Но прошла минута, вторая…
Подъехал Редер с двумя старенькими пожарными машинами и сокрушенно объяснил, что пожарную команду вызвать не удалось, потому что телефонная линия нарушена грозой.
Под ногами путался все тот же сухой высокий немец с безвольно отвисшей губой и округленными глупыми глазами. Он, не переставая, скулил о погибшем шефе, ничего не делая для его спасения.
Машины поставили у реки, и с двух сторон на верх горящей мельницы обрушились мощные струи воды.
Прошло три минуты – из мельницы никто не возвращался. Таранчик вытряхнул из мешка зерно, намочил мешок в подвернувшемся ведре с водой, обвернул голову и потребовал у Жизенского, чтобы он сопровождал его струей из шланга пожарной машины.
В это время в дверях показалась чья-то завернутая в брезент полусогнутая спина с тлеющими пятнами. Это был Земельный. Он тащил вместе с Карповым под руки толстого Пельцмана, а Соловьев поливал их и, насколько было возможно, себя.
Пельцмана подхватили и отнесли на траву, а солдаты снова бросились в речку и, окунувшись, сбрасывали с себя обгоревшие лохмотья.
Вокруг пострадавшего собрался народ. Ему терли виски, опрыскивали водой, но он не подавал признаков жизни. Таранчик, растолкав всех, с навернутым на голове мокрым мешком, разорвал на пострадавшем рубашку, обнажил ему грудь и встал над ним на колени.
– Доктора! За доктором надо послать! – послышался скорбный голос длинного немца с отвисшей губой (больницы и вообще какого-либо медика в деревне не было).
– Дурак, – спокойно возразил Таранчик на русском языке. – Что он, умирать погодит, что ли, будет ждать твоего доктора? – а сам крепко взялся за запястья толстых рук Пельцмана и стал делать искусственное дыхание. Окружающие безмолвно смотрели на Таранчика.
В это время обрушился потолок над мельницей, и послышалась бойкая команда Редера:
– В окна, в двери давайте! В двери!
Обрушившись, потолок сделал полезное дело, потому что огонь улегся в каменной коробке, а оставшуюся часть крыши над складом беспрестанно поливали водой, так что теперь склад был в безопасности. Все, что можно было вынести из него, было вынесено. Искры теперь уже не летели на деревню, и оставалось заглушить этот бушевавший в каменных стенах огонь.
Усилия Таранчика не пропали даром. Пельцман очнулся и его увезли домой под плач и причитания жены и взрослой дочери.
Сила пожара заметно убывала, к тому же снова начал накрапывать дождь, и опять послышалась команда вездесущего Редера:
– Брезенты давайте сюда! Брезенты!
Мешки с мукой, спасенные от огня, старательно укрыли, чтобы уберечь их от воды.
Пожар был ликвидирован. Теперь заливали тлеющие головешки. Толпы зевак – женщин, подростков и стариков – стали медленно расходиться по-домам.
– Ну, дедушка, пора и нам домой, – сказал я Редеру, собрав вокруг себя солдат.
– Спасибо! Спасибо вам! – растроганно, с дрожью в голосе говорил Редер. – Спасибо, добрые люди! Вы спасли не одного Пельцмана, а всю деревню и от пожара, и от голода… Спасибо, – всхлипнул старик и, словно назойливую муху, смахнув слезу, скатившуюся на нос, вдруг ожесточился и закричал на своих:
– Чего стали! Делать вам нечего?!
В шестом часу утра мокрые, усталые и грязные мы возвращались на заставу.
– На тебя, Таранчик, немцы теперь молиться будут, – пошутил Соловьев.
– Ничего ты не смыслишь, Соловушка, в этих делах, – назидательно сказал Таранчик. – Разве же зазря получил я еще в школе значок БГСО? И не жду, чтобы на меня молились. Что эти люди, глупее тебя, что ли? Уж не молиться, а хоть бы догадались гимнастерку мне да штаны постирать: теперь не домоешься, после этой грязюки…
– А что, Таранчик, – сказал я насмешливо, – достаточно намекнуть дедушке, что вот мы вам пожар потушили, а вы нам за это…
– Что вы, товарищ лейтенант, – смутившись, возразил Таранчик. – Да разве ж какая-то фрау или любая женщина в свете сможет так постирать, как помоет-постирает сам ефрейтор Таранчик! Да никогда в жизни!
На другой день, перед вечером, на заставу пожаловал сам Пельцман. Одет он был по-праздничному, как и тогда, когда ехал на совещание мелких промышленников. Та же визитка, та же «бабочка» под толстым подбородком на безукоризненно белой манишке. Только шел он теперь очень тяжело, опираясь на толстую полированную дубовую палку. Короткие усы опалены. Лицо, неестественно красное, казалось шире его узкополой шляпы. Глаза налиты кровью. На правой щеке, возле уха, – ожог.
День выдался жаркий, и солдаты, не занятые на постах, собирались идти на речку стирать обмундирование.
– Я, господин комендант, хотел бы видеть того солдата, который спас мне жизнь, – сказал Пельцман, отдуваясь и присаживаясь на лавочку у садового забора.
– Вот он, – указал я на Таранчика.
– Не-ет, – возразил Таранчик, понявший, в чем дело. – Вон кто его спас, – указал он на Земельного, Карпова и Соловьева. – Они спасли тело, а я вроде бы душу вставил в вашу милость, господин Пельцман. Только и всего. А во что ж бы я душу вставил, если бы не было такого богатого тела?
– Что, что он говорит? – живо поинтересовался Пельцман. Земельный перевел слова Таранчика, выбросив все, что могло обидеть Пельцмана.
– Извините, – сказал Пельцман, поднимаясь с лавки и доставая из бокового кармана пачку марок, – извините, но больше у меня сейчас нет. – Он подал марки Земельному.
Карпов, увидав деньги, сделал лихой поворот кругом, присвистнул и, чеканя шаг, пошел к арке. Соловьев попятился за спину Таранчика, а Земельный, держа руки по швам, подался вперед и сверлил взглядом владельца сгоревшей мельницы.
– Я много вам благодарен, большое вам спасибо, но, понимаете, сейчас, сегодня у меня нет больше денег, – оправдывался Пельцман, считая, что Земельный обижен малой суммой.
Земельный отвел от себя руку Пельцмана и, не отрывая от него взгляда, четко выговорил:
– Мы не за деньги вас спасали.
– Да, но… чем же я должен с вами расплатиться? – пролепетал Пельцман, совершенно растерявшись.
– Мы не из тех, кто греет руки возле чужого несчастья! – резко сказал Земельный, повернулся и пошел за Карповым.
Таранчик, заложив руки назад, встал на место Земельного перед Пельцманом и совершенно невинно спросил:
– А сколько стоит ваш живот и вместе с головой?
– Что, что он говорит?
– Он спрашивает, сколько стоит ваша жизнь, – перевел Митя Колесник.
– Моя жизнь? – засмеялся Пельцман. – Моя жизнь… Я не знаю, сколько стоит моя жизнь… потому что меня никогда не продавали, и я никого не покупал, – веселее заговорил Пельцман, догадываясь о шутке. – Возможно, нисколько не стоит, потому что на людей цены нет…
– Ну, а раз нисколько не стоит, – произнес Таранчик, выслушав перевод, – то нечего нам и торговаться. Зря хлопцы перли этот мешок.
Солдаты захохотали, а Таранчик, показав, что он и разговаривать не хочет, махнул рукой и пошел от Пельцмана. Пельцман, смущенно улыбаясь и разведя руки, обратился ко мне, как бы спрашивая: «Что же делать?».
– Поезжайте домой, – сказал я, – отдыхайте спокойно, поправляйтесь. Нам ничего не надо. Единственное, чего бы мы хотели, так это пожелать вам, чтобы и вы всегда помогали людям в беде.
Пельцман поклонился и, опираясь на палку, тяжело пошел к машине, оставленной за аркой.








