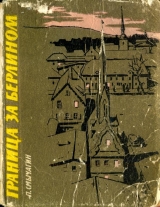
Текст книги "Граница за Берлином"
Автор книги: Петр Смычагин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Все замолчали, потом Мартов сказал:
– Сейчас всего не предусмотришь. На месте больше вопросов появится, а спрашивать не у кого будет.
– Как это не у кого, а телефон зачем? – возразил Коробов.
– Телефон есть телефон, – заметил Блашенко, – а решать многое придется самостоятельно: по телефону комбат не увидит у вас всего.
…Солнце село. Жара схлынула. Идти стало легче, и мы решили не делать привала до развилки дорог, где моему взводу надлежало свернуть направо и пройти еще километров восемь до места.
Шел двенадцатый час ночи, когда мы остановились на привале. Взводу Мартова предстояло сделать еще километров пятнадцать. Коробов же рассчитывал попасть на свою заставу только к утру.
Рота сошла с дороги и расположилась на отдых. Солдаты, развязав вещевые мешки, «расправлялись» с консервами и сухарями.
И странное дело. О роте нельзя было сказать, что жила она очень дружно. Но теперь, когда ей пришлось разделиться, может быть, даже не надолго, на привале не было обычного оживления. Солдаты моего взвода растворились в двух других взводах и тихонько беседовали. Мы лежали на жесткой, выжженной солнцем траве за кюветом дороги. Мартов наказывал мне:
– Ты почаще звони нам, а в выходной приезжай. Мы с Ильей рядом будем, нам веселее.
– Вот какая дьявольщина, – заговорил молчавший до сих пор Коробов. – Ну, вы с Леней, допустим, заправские друзья. У вас мнения во всем сходятся, вы всегда вместе… Ясно, что вам не хочется расходиться. Но ведь я, почитай, слова доброго с тобой не говорил: все шутки да колкости, да и пришел ты к нам давно ли. А вот лежу теперь, и тоска какая-то наваливается, будто теряю что…
– Ну, расчувствовались, – перебил его Блашенко, одиноко сидевший в стороне, – барышни. Будто навек расстаются. Строиться! – скомандовал он и, резко поднявшись, пошел на дорогу.
Я выстроил свой взвод на повороте, ведущем в Блюменберг, и подал команду «шагом марш». Оставшаяся часть роты провожала нас взглядами. Блашенко, помахав рукой, крикнул:
– Счастливого пути!
Мы сразу взяли хороший темп и менее чем через полтора часа наша маленькая колонна остановилась перед аркой заставы в Блюменберге.
Застава находилась на юго-восточном склоне огромного пологого холма, по вершине которого проходила демаркационная линия. А ниже, у самого подножия холма, вдоль маленькой речки раскинулась деревня.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Дом, в котором расположилась застава, оказался просторным. Солдатская спальня, столовая и кухня поместились в нижнем этаже. Кроме того, здесь нашлась маленькая комната для связиста и побольше – для оружия. Ленинская комната и мое жилье – наверху.
А вот с досугом… В полку мы регулярно посещали кино, самодеятельные концерты, иногда приезжали артисты. Здесь не только не было всего этого, не было даже выходных дней. Увольнениями не очень баловали и в полку, но иногда солдаты ходили в город, знакомились с его достопримечательностями. Здесь некуда было ходить, ибо в деревне имелось только две «достопримечательности»: маслозавод и мельница.
В этих условиях одними уставными требованиями не обойдешься. Служба на линии будет настоящей проверкой сознательности и выдержки каждого солдата.
Со двора в распахнутое окно донеслись слова Таранчика:
– Сюда, сюда, голубчики! Вот та-ак. Смотри, Митя, они меня и по-русски понимают.
Он конвоировал троих мужчин, задержанных на линии. На посту у заставы стоял Митя Колесник. Он показал, куда следует направиться прибывшим.
Я пошел вниз разбираться с задержанными. Это были пожилые шахтеры из-под Нордхаузена. Документы у всех оказались исправными. Шли они в Западную Германию к родственникам, которых не видели несколько лет. У них даже имелось официальное разрешение на проезд туда и обратно. Однако на вопрос, почему они не воспользовались данным разрешением и не поехали через специальные таможенные пункты, худой немец в плаще и шляпе, отирая пот, ответил:
– Там очень далеко, господин лейтенант: потребуется много денег и времени. Придется исколесить пол-Германии.
– Но ведь вы знаете, что здесь нельзя переходить линию?
– Знаем, – с улыбкой подтвердил коренастый шахтер в синей рубашке с подвернутыми рукавами. Пиджак висел у него на руке. – Думали, удастся проскочить. Завтра утром мы бы уже пили кофе у своих родственников.
– Вперед умнее будете, – сказал третий, комкая в руках старенькую фуражку и обращаясь к коренастому. – Говорил вам, что сразу ехать надо, – не согласились. Теперь еще больше времени потеряем. Тебе все скорей надо…
Этот маленький, небрежно одетый человек, молчавший до сих пор, сердито начал корить своих спутников, не обращая внимания на их возражения, и замолчал только после того, как они были отпущены.
Я хотел вернуться к себе, но со двора позвал Колесник:
– Товарищ лейтенант, дедушка пришел.
«Дедушкой» мы называли Карла Редера, бургомистра села Блюменберг. Это был суетливый тощий старик с отвисающей складкой кожи у подбородка. Одевался он бедно, но всегда опрятно.
С Редером у нас установились довольно дружеские отношения с первого дня. Он был очень услужлив, не лишен чувства юмора, и это помогало ему быстро сблизиться с любым человеком.
Когда мы только пришли в Блюменберг, дел было, хоть отбавляй: принимать линию, устраивать людей, налаживать связь, оборудовать кухню, словом, всего не перечтешь. А как только связисты установили телефон, старший адъютант потребовал план расположения постов, интенданты – точные сведения о количестве людей, числящихся на довольствии, и т. п.
Вот в это-то трудное время к нам явился Карл Редер и предложил свои услуги. Помощь его оказалась очень кстати. Он разыскал и привел двух плотников и столяра, которые помогли соорудить стеллаж для пулеметов, кое-что сделали в столовой, кухне и складе для хранения продуктов.
Шел уже шестой час вечера, а мы еще не обедали.
Суп, правда, уже варился, но второе и третье не в чем было готовить. Карл Редер заметил мое замешательство и, прищурив глаз (что, как я узнал после, было признаком его самодовольства), спросил, в чем мы еще нуждаемся. Я с жаром начал объяснять ему, что нам нужны два бачка для приготовления пищи, что лучше всего найти бы их сегодня же. Подавая ему деньги для приобретения бачков, я как-то незаметно для себя назвал его товарищем. Старик сорвал шляпу, взъерошил на затылке седые волосы, страшно округлил глаза и прошипел:
– То-ва-рищ?! Какой я вам товарищ, господин лейтенант? Я – г о с п о д и н Редер, бургомистр этой деревни! Я еще не коммунист, чтобы называть меня товарищем!
Обескураженный, я стал перед ним искренне извиняться и объяснять, что это случилось непроизвольно, что я просто устал и заговорился. Редер слушал подчеркнуто серьезно. Когда у меня кончился весь запас красноречия, и я выжидательно уставился на собеседника, желая узнать, простил ли он меня, старик прыснул, потом до слез расхохотался, приговаривая сквозь смех:
– Вот это я вас пробрал! Вот пробрал!
Я не знал, что ему ответить и как вести себя. Редер взял у меня деньги, положил мне на плечо сухощавую руку и задушевно сказал:
– Господин лейтенант, сын вы мой! Не сердитесь на старика Редера за эту глупую шутку. Зовите меня господином, товарищем, или просто Редером, или даже стариком – как вам угодно – мне совершенно все равно. Господин я невелик, а товарищем еще, пожалуй, могу быть.
С тех пор я звал его «товарищ Редер», и слово «господин» употреблял только тогда, когда хотел подзудить старика. Солдаты звали его дедушкой.
– Добрый день, господин лейтенант, – сняв выгоревшую, когда-то зеленую шляпу и сверкнув лысиной, поклонился Редер. Он тепло пожал мне руку и продолжал: – Видите ли, я не хотел вас беспокоить, но… Идемте со мной, и я все изложу.
Дорогой он рассказал, что в пивной давно уже сидит какой-то человек, который сильно захмелел. Этот человек оказался русским, его пытались привести в «божеский» вид, но безуспешно.
Рассказав о цели своего прихода, Редер свернул домой.
В пивной, кроме одного человека, сидящего к дверям спиной, никого не было. Навалившись на стол, он, видимо, спал. На нем был светло-серый костюм, а на спинке соседнего стула – серый макинтош и серая шляпа. Подойдя ближе, я узнал Горобского.
– Уж не в отпуске ли? – проговорил я, тронув его за плечо. Он резко вскинул голову, и мутные глаза в несколько секунд приобрели разумное выражение.
– О, милейший! – воскликнул Горобский. – Вы здесь! Хозяин, пива!
– Да уж, кажется, довольно, товарищ капитан…
За стойкой появился хозяин, но наливать не собирался.
– Пива, старый дьявол! – на немецком языке закричал Горобский, скрипнув зубами.
– Вы мне должны еще за две разбитые кружки, не считая выпитого, – ответил хозяин, подставив кружку под кран.
– Хватит, товарищ капитан, рассчитывайтесь и идемте отдыхать.
– Ты… Ты – лейтенант и еще указывать капитану?! Да как ты…
– В таком случае придется позвать солдат и доставить вас в полк, – сказал я, направляясь к дверям.
– Подождите, Копейкин!.. Виноват, Грошев, подождите! Сейчас вместе пойдем.
Я остановился, а Горобский прошел к стойке, бросил хозяину горсть марок и с двумя кружками вернулся к столу. Хозяин, получив, очевидно, больше, чем полагалось, ухмыльнулся и заявил о своей готовности наливать, сколько потребуется.
– Присядьте, милейший, присядьте.
Когда я вернулся и сел, Горобский, подавая кружку, сказал:
– Пейте, лейтенант, и слушайте…
– Слушать можно, но пить – нет!
– Понятно. Разве порядочный человек станет пить с такой дрянью, как я. – Слово «порядочный» прозвучало ядовито. Он выпил свою кружку до дна. – Вы ведь – маменькин сынок. Папаша, конечно, есть, сестреночки, братишечки, дядюшки, тетушки, кумушки. Да?
– Допустим…
– Хе-хе! Допустим! Ему можно допускать: в Сибири и на Урале деревни целехоньки, а мне… Да понимаешь ли ты, лейтенант, что у меня нет н и к о г о на свете! – Он заскрежетал зубами и, горестно промолвив: – Бобыль! – безвольно опустил голову.
– Надеюсь, сюда вы пришли не к кумушке и не к тетушке?
– Ах, вон вы о чем! – Горобский вскинул голову и, захватив рукой растрепавшиеся волосы, в упор посмотрел на меня. Глаза увлажнились, лицо побледнело, но заговорил тихо, примиряющим тоном. – Это у вас здесь ни выходных, ни праздников нет, а в полку все соблюдается. Снял я свою робу, оделся по-человечески, да и пошел посмотреть, как люди живут… А они живут. У них семьи, домишки, деточки – все на месте! Засмотрелся на них и забыл, куда иду и за чем иду. Вот как бывает, лейтенант. Может, выпьешь теперь за бобыля, потешишь его душу своим сочувствием?
– Не стоит, товарищ капитан. Вы что же, от отпуска совсем отказались?
– О, нет! Пока уступил очередь начфину и теперь вовсе один остался на квартире, но скоро поеду. Россия велика. Пропуск вот-вот должен прийти. Второй день в отпуске. Вот и гуляю.
Казалось, последняя кружка подействовала на него отрезвляюще.
В пивную вошел Пельцман, владелец мельницы. Полный невысокий человек с короткими усиками под толстым носом, с галстуком-бабочкой на белой рубашке и в шляпе с узенькими полями. Он попросил кружку пива и, торопясь, пил ее прямо у стойки, отирая пот огромным платком.
– Присаживайтесь, – пригласил его хозяин, – куда это вы так спешите?
– В Нордхаузен, – словно из бочки пробубнил Пельцман, – там совещание мелких промышленников.
– Господин Пельцман, возьмите попутчика, – попросил я.
– Мне все равно, господин комендант, – так он назвал меня. – Еду один в целом лимузине. Но ждать некогда: опаздываю, – быстро говорил Пельцман, одной рукой подавая деньги, другой – размахивая платком.
– Вам повезло, – сказал я Горобскому.
– Да, мне везет, – ответил он, вздохнув.
Горобский надел шляпу, взял на руку макинтош и пошел впереди Пельцмана. Хозяин пивной любезно раскланялся и вышел из-за стойки, чтобы закрыть за нами дверь. У дверей Горобский пропустил вперед Пельцмана, дождался меня.
– Шкура, – по-русски сказал он, не глядя на хозяина. – Трясется за кружку: ему дела нет, что у человека жизнь разбита, была бы цела его кружка.
Усевшись в старенький лимузин рядом с Пельцманом, он тепло попрощался со мной и сказал, что если долго не придет пропуск, то он обязательно приедет в гости.
– Некуда девать себя. Понимаешь?
Весь вечер меня мучила мысль о Горобском и еще больше терзали сомнения. Докладывать или не докладывать бате? Два голоса, перебивая друг друга, яростно спорили. Один настойчиво твердил: «Он ведь был в гражданском костюме, значит, не опозорил мундира советского офицера». – «Ах, какой умник! – укорял второй голос. – Спрятался за гражданский костюм. А душа его где?! Снимай трубку и звони в полк».
«…Бобыль… маменькин сынок… жизнь разбита вдребезги… Некуда девать себя…», – проносилось в голове. – «Звони же, звони! – издевался второй голос. – Звони, если ты действительно маменькин сынок, если тебе, как и хозяину разбитой кружки, дела нет до судьбы такого же офицера, как ты… Может быть, именно сынок этого хозяйчика сделал Горобского бобылем, а ты за кружку… Нет!» – решил я и несколько успокоился.
2
Тому, кто с детства успел полюбить дикую красоту тайги, дебри нетронутых лесов, искусственно посаженный хвойный лес покажется слишком однообразным, скучным. Именно такие леса встречались нам в районе Бранденбурга и Стендаля. Там в лесу неестественно чисто и голо: ни травы, ни чащи не встретишь.
В Тюрингии радуют глаз пейзажи, очень напоминающие наши уральские. Может быть, тем и привлекательна она для русского человека, что в этой части Германии природа меньше всего подчинена строгому немецкому порядку: линия – угол, угол – линия.
Скалистые склоны гор сплошь покрыты лесами. Настоящими дикими лесами! Вот стоит зеленая горная сосна. Кажется, такая же, как наша, да нет, ощетинилась, чужая. Глаз ищет среди зелени белый ствол родной березки, но нет, не встретить здесь его. Не довелось мне увидеть березки во всей Германии.
Стоял один из тех воскресных дней, когда захватив с собой праздничный обед, жители деревень отправляются в горы, в лес отдыхать. Туда едут на машинах, на мотоциклах, на велосипедах, на лошадях, запряженных в самые разнообразные повозки. А то идут пешком с сумками в руках.
Я ехал из штаба батальона. До заставы в Блюменберге оставалось километров десять. Дорога шла по лощине. Здесь парило, как в котле. Полуденная жара разморила меня. Повесив поводья на луку седла, я расстегнул верхние пуговицы гимнастерки и смотрел вдаль, на лесистую вершину сопки, затянутую синей дымкой. Орел, гнедой и белоногий, то и дело взмахивал головой, дергал поводья и мерно цокал подковами по старому асфальту.
Вдруг далеко впереди, справа от дороги, раздался выстрел. Орел вскинул голову и запрядал ушами. Я стал смотреть в ту сторону. Из леса бежал человек, за ним метрах в двухстах гнались несколько человек и что-то кричали.
Не задумываясь, я свернул с дороги и пустил коня галопом. Ветер засвистел в ушах. Преследуемый, заметив меня, повернул правее, к лесу, и прибавил скорость. До него оставалось метров двадцать пять – тридцать. Я расслышал, что люди, догонявшие его, захлебываясь, кричали:
– Держите его! Держите! Стреляйте в него!
Вдруг беглец остановился, повернулся ко мне и вскинул пистолет. Я тоже рванул пистолет из кобуры, но грянул выстрел – и Орел со всего маху опрокинулся, а я оказался на земле.
Беглец побежал к лесу. Подбегая к Орлу, я почувствовал, что каждый шаг отдается резкой болью в пояснице. Конь с трудом поднялся и тревожно заржал.
Поправив седло, я сел на Орла, но после первых же шагов убедился, что погоня невозможна: конь еле передвигался. Трое из преследовавших с полицейским впереди бросились в лес. Двое отставших, видимо, окончательно выбились из сил и еле брели. А беглец в это время скрылся уже из виду. Я слез с коня, чтобы осмотреть рану. Подошел первый из отставших.
– За кем вы гнались? – спросил я.
Плотный блондин лет сорока пяти с выражением полной безнадежности махнул рукой и, не ответив мне, спросил:
– Конь ранен?
На лысеющей голове незнакомца каплями выступил пот. Человек тяжело дышал. Я между тем продолжал осмотр и, подняв за щетку переднюю ногу, увидел разрыв между копытом и щеткой. Рана сильно кровоточила. Однако спереди нога не имела никаких признаков повреждения.
– Так кто же этот беглец?
– Густав Карц. О-о, это очень плохой человек! – ответил, подходя, другой немец, пожилой человек с болезненным лицом; опустившись на пашню, он долго кашлял. А блондин пошел по моему следу назад, внимательно рассматривая что-то на земле.
– Этот человек, – задыхаясь, говорил немец болезненного вида, – только что убил свою любовницу и собственного сына… за то, что подкараулил их вместе…
– Сюда! Идите сюда! – позвал блондин. – Вот причина ранения, – и приподнял с земли звено колючей проволоки, натянутой между тонкими металлическими кольями.
Когда на парах вырастает трава, крестьяне огораживают свои участки и пускают в них скот. Теперь пар был вспахан, а изгородь свалена и, лежа на земле, почти не отличалась от нее.
– Не беспокойтесь: рана не опасна, – сказал блондин. – Только надо промыть ее. Вон там, внизу, есть ручей.
Я знал этот ручей и намеревался завернуть к нему.
– Идем, Эрнст, – обратился блондин к другому немцу. – Все равно Густав нам отдых испортил.
– Да, Отто, идем, – отозвался тот, поднимаясь. – Видно, плохие мы рысаки, чтобы догонять Густава. Да и у вас, господин лейтенант, – пошутил он, – рысак тоже теперь не для погони. Лазарет – его место.
Они пошли обратно, а я, взявшись за повод, направился к ручью. Сзади, подпрыгивая, ковылял Орел.
Здесь я очистил и промыл рану Орлу, перетянул ее носовым платком.
Когда я вышел на дорогу, показалась легковая машина. Она проскочила мимо, круто развернулась и, поравнявшись со мной, затормозила. Из машины вышел человек в синей блузе, который назвал себя Отто Шнайдером. За ним показался мальчик лет пятнадцати.
– Это мой сын Ганс, – сказал Отто. – Если разрешите, он уведет коня к вам домой. А вас я довезу на машине. Вы ведь из Блюменберга? – любезно спросил Шнайдер.
Я с благодарностью принял предложение. Мальчик взял повод и, намотав его на кулак, приготовился идти.
– А ты ездить верхом умеешь? – спросил я его.
– Да.
– Так и поезжай: для коня ты не так уж тяжел.
– Зачем мучить лошадь, – вмешался отец, – здесь недалеко, добежит, ноги у него молодые.
– А ты, Ганс, все-таки садись.
Мальчик, косо поглядывая на отца, ухватился за луку и, подпрыгнув, взлетел в седло.
– В Блюменберге спросишь, где находится застава, и тебе всякий покажет.
– Я сам знаю, – ответил Ганс, гордо повернувшись в седле и тронув каблуками коня. Конь хромал, стремена болтались, но это не мешало всаднику пребывать на седьмом небе.
– Этот мальчишка будто не свою голову носит на плечах, поэтому и не бережет ее.
– Не беспокойтесь: конь очень смирный.
– Я не об этом. Вообще парень держит себя смелее, чем подобает в его возрасте, – не без гордости сообщил отец.
По дороге Шнайдер рассказал, что живет он в деревне Грюневальд, через которую мы должны ехать, что имеет небольшую автомастерскую, что во время войны ему пришлось побывать под Курском, что много принял мук и был тяжело ранен дважды.
Я спросил Отто, почему он так благожелательно относится к офицеру Советской Армии, той армии, с которой ему пришлось сражаться и получить ранения.
– О-о! – ответил он, усмехнувшись и покрутив пальцем правой руки у виска, держа баранку левой. – Пора и нам понять кое-что. От этой войны я ничего не имею, кроме ранений. Хорошо еще, что голова уцелела…
– А если бы вы победили? – перебил я его.
– Все равно выиграли бы только миллионеры. Наша кровь – их деньги… Вот это мой дом, – спохватился Отто, когда мы проезжали по деревне, и указал влево на небольшой домик с красной черепичной крышей, с садиком и примостившейся рядом мастерской. – Заезжайте в гости, буду рад. Я вижу: вы здесь часто проезжаете.
– Да вы почти капиталист, – пошутил я.
– От меня до капиталиста ровно столько же, сколько от земли до неба. У меня никогда не было наемных рабочих и лишних денег, зато у меня есть руки. – Отто показал рабочие руки слесаря, на секунду отпустив баранку.
– А что этот Густав Карц очень богат?
– О, совсем нет. За времена Гитлера он привык жить легко, за чужой счет. Он так избаловался, что и теперь не хочет работать. Давно бросил семью, живет по вдовушкам, а жена с детьми бедствует. Мне думается, он давно решил убежать на ту сторону и бездельничать там в фашистских притонах.
– Но почему же он так жестоко обошелся со своими жертвами?
– Это же его специальность! Такие люди ценились в гитлеровской армии. Он не привык сдерживать свои страсти, тем более, что, видимо, готовился бежать в Западную Германию. Если ему это удастся, то все обойдется безнаказанно. Только на это он и мог рассчитывать.
– А если не уйдет?
– Будут судить и, наверное, расстреляют.
Меня удивил спокойный и уверенный тон, которым Отто повествовал о Густаве Карце. Очевидно, он так хорошо знал Густава, что даже последние действия Карца не очень удивили Шнайдера. Впереди показалась деревня, и скоро Отто подвез меня к заставе. Прощаясь, Отто еще раз пригласил заезжать к нему.
Встретив во дворе Чумакова, я коротко рассказал ему о случившемся и передал сумку с газетами и письмами, которые попутно захватил из штаба батальона.
Чумаков, сдержанный и скромный до застенчивости человек, не стал расспрашивать о подробностях, принял сумку и начал выбирать из нее содержимое.
Увидев почту в руках Чумакова, Таранчик и Карпов бросились к нему из сада. Тот выбрал из пачки писем свое, остальные отдал Таранчику, чтобы раздать адресатам.
Кажется, что приятного может быть в раздаче писем, если письма, адресованного тебе, может и не быть в этой пачке? Но еще с войны каждый в солдатской семье стремился к раздаче писем.
На заставе обычно делалось так. Удачник захватывал все письма на взвод или на роту или, вернее, на всех знакомых. Его окружали и слушали фамилии счастливцев, которым есть письма. Но раздатчик, прежде чем отдать письмо, непременно требовал от адресата «выкуп»: спеть или сплясать.
Я давно требовал бросить этот способ раздачи писем, но он так прочно укоренился, что всякий раз при получении почты все повторялось снова.
Когда я поднялся к себе в комнату и открыл окно, во дворе уже собрались все солдаты, свободные от службы. Таранчик, взгромоздившись на пустой бочонок в углу двора, раздавал не только письма, но и «задания». Он хорошо знал способности солдат и уже не заставлял плясать того, кто мог петь или декламировать.
Путан, этот коренастый увалень, по приказанию Таранчика, покорно пошел в ленинскую комнату за аккордеоном. Он не обладал никаким искусством, кроме поварского. Загар уже сошел с его полного лица, оно сделалось белым и залоснилось, как у заправского повара.
Митя Колесник притащил из сада шланг и поливал во дворе площадку, брызгая холодной водой на солдат. Он пользовался всеобщим уважением и любовью за расторопность и добрый нрав. Митя был все такой же худенький, но лицо посвежело и возмужало. Гимнастерка с помощью Карпова была подогнана так, что теперь уже не висела на нем, и он выглядел настоящим солдатом.
В руках Жизенского по велению Таранчика запел аккордеон. Русые волнистые волосы выбивались у Жизенского из-под пилотки. Тщательно заправленная гимнастерка и всегда свежий подворотничок придавали ему вид довольно аккуратный, даже щегольский, и многие девушки засматривались на него.
– Плясовую давай! Плясовую! – крикнул Таранчик. – А уже какую из плясовых – закажет Карпов. – Он плутовски скосил глаза в сторону Карпова и потряс в воздухе последним письмом.
Карпов мог плясать прекрасно, но не хотел это делать по заказу и заупрямился. Солдаты подталкивали его в образовавшийся круг, а Жизенский подзадоривал всех бойкой плясовой. Таранчик сидел на бочонке, скрестив на груди руки, и терпеливо ждал. Карпов нехотя вошел в круг. Его невысокая фигура с широкими плечами и тонкой, туго перехваченной ремнем талией скорее напоминала горца, чем природного сибиряка.
Он притопнул раз, другой, хлопнул в ладоши, широко развел руки и пошел по кругу вприсядку. Смотрел он прямо впереди себя и, казалось, не видел окружающих, смотрел мимо них или сквозь них.
Сидя на бочке, Таранчик ударял по ней задником ботинка, хлопал в ладоши и приговаривал:
– Хе-хе! Пляшет ведь, хлопцы! А как пляшет, вы только посмотрите! Когда б не я, не видать бы вам этой пляски.
Зайдя в дом, я наложил себе на место ушиба компресс и прилег на кушетку, стараясь задремать. Пришел Чумаков и сказал, что мальчик привел Орла. Мы спустились во двор. Ганс победно улыбался нам навстречу, Стремена уже не болтались, как раньше; Ганс подтянул их высоко и теперь очень удобно сидел в седле. Мы начали осматривать коня, а мальчика я послал умываться…
Когда после обработки и перевязки раны я завел Орла в стойло, то увидел там Карпова. Он сидел в углу на опрокинутом старом ведре, спрятав голову в ладони.
Привязав коня, я спросил у Карпова, что случилось. Вместо ответа он подал мне распечатанный конверт. В письме сообщалось о смерти его матери.
Я вышел из конюшни и позвал Таранчика. Он бойко рапортовал:
– Ефрейтор Таранчик прибыл по вашему приказанию!
– Вас предупреждали о том, чтобы вы прекратили такую раздачу писем?
– Так точно, товарищ лейтенант!
– А вы?..
– Никак нет…
– В следующий раз буду за это наказывать вплоть до ареста. А пока – один наряд вне очереди!
– Слушаюсь! – гаркнул в ответ Таранчик, словно ему объявили благодарность.
3
Тихие летние вечера солдаты, свободные от службы, проводили в саду, в беседке или просто на траве. Они рассказывали случаи из жизни на родине, из фронтовой жизни и о страшных годах, проведенных в концентрационных лагерях в Германии.
Яблони и черешни стояли неподвижно, как застывшие. Трава, измученная дневным зноем, теперь бойко расправила свои перья, распространяя приятный аромат.
Земельный лежал на спине, подложил руки под голову и молча слушал рассказ Фролова.
– А знаете, друзья, – говорил Фролов, – я когда был студентом, представлял себе гитлеровцев какими-то очень уж страшными… даже мне сейчас и не сказать, какими я их представлял. А вот теперь живу здесь, в самой Германии, и не вижу таких немцев, какие мне представлялись. Как это?
– А ты и не бачил настоящего немца-фашиста, – возразил Митя Колесник.
– Но мы же их видим каждый день десятками и сотнями. Ведь это те же немцы…
– Те, да не те, – не сдавался Митя. – Поглядел бы ты на них в сорок третьем, а еще лучше в сорок втором, узнал бы, что оно за немцы. Они б тебе показались еще и не такими, какими ты их представлял. Мне подвезло: я мало в лагере был. Приехал бауэр со своей фрау, забрал нас, вот таких хлопчиков, как я, троих. Сам он мало дома был: все куда-то ездил. А фрау его целыми днями нам подзатыльники отвешивала. Другой раз со счету собьешься, сколько за день получишь. Спать не давала и кормить забывала. Одних бураков, наверно, целую гору на тачке перевозили. Свиней накорми, у коров убери, воды наноси, бураки запарь, силосу привези – и все на себе. А лошадь стоит на конюшне, как та свинья ожирела. Ух, если бы та фрау мне сейчас попалась!
– А что б ты сделал? – спокойно спросил Фролов.
Митя смутился и покраснел. В самом деле, что бы он с ней сделал?
– Да ну ее к шуту! – нашелся Митя. – Мы и так у них перед концом всех свиней поразогнали и сами разбежались.
Солдаты, не испытавшие немецкой неволи, начали разговор о трудной и опасной фронтовой жизни.
– Э-э, нет, хлопцы, – ожил Земельный, повернувшись на живот и опершись на локти, – то велики трудности, спору нет. Но на фронте у тебя есть оружие: ты всегда можешь мстить врагу за его зверства. А уж коли умирать придется, то и умереть там легче, бо знаешь, за что. Знаешь, что погиб за Родину. Так и родным напишут. А вот умирать в лагере куда трудней. Никто и не узнает, где ты сгинул. В лагере нет у тебя ни имени, ни звания человеческого – ОСТ на груди и номер четырехзначный, – так и по книгам числишься…
– А тоже – народ культурный. Они и лупцовку устраивали культурную. Над цементированной канавой перекинут мостиков штук пятьдесят, а возле каждого мостика – моторчик с плетками. Вот так утром вызовут номера, разложат по мостикам и моторы включают разом. К-культурно – и всех разом. А кровь по канаве бежит. Вот сволочи! Он тебя мордует, как хочет, а ты ему и в глаза плюнуть не можешь: пристрелит на месте, как собаку.
– Обидная смерть, – вздохнул Карпов.
– То так, – согласился Земельный, – но и жизнь там была не легче смерти.
– Тише! – крикнул Фролов.
Земельный умолк, не докончив рассказа. Все услышали из репродуктора задушевную трогательную песню. Пели ее хорошо знакомые нам голоса Бунчикова и Нечаева. Она сразу захватила солдатские сердца, натосковавшиеся по дому.
Давно мы дома не были,
Цветет родная ель,
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.
– Эх, песня! – громко сказал Таранчик. Он стоял на посту у подъезда. Задрав голову, он смотрел на репродуктор, словно надеялся увидеть там исполнителей.
Где елки осыпаются,
Где елочки стоят,
Который год красавицы
Гуляют без ребят.
– Вот пе-есня! – снова не выдержал Таранчик.
– Замолчи ты, бревно: на посту стоишь, – шикнул на него Карпов через калитку сада.
Лети, мечта солдатская,
Напомни обо мне!
Лети, мечта солдатская,
К девчине самой ласковой,
Что помнит обо мне!
Песня умолкла, а солдаты все еще лежали притихшие, завороженные.
Из репродуктора неслись мощные звуки новой песни. Но она не трогала солдатских сердец, а только мешала удерживать в памяти только что пропетую, полюбившуюся…
– Ну, Максим, рассказывай дальше, – прервал молчание Журавлев, обращаясь к Земельному.
Маленькая головка Журавлева, узкие плечи, настороженный взгляд чем-то напоминали суслика. Журавлев очень любил слушать рассказы бывалых солдат.
– Да что рассказывать, – отвечал Земельный, – после такой песни и говорить не хочется: за душу берет.
– Ну, песня песней, а о лагерной жизни интересно и нам знать.
– Обидная эта жизнь для человека, хлопцы. Измывается над тобой гад, в тебе все кипит, а поделать ничего не можешь… Не забуду до смерти и внукам рассказывать буду, если заимею их, что такое фашизм.
Как-то под осень сорок четвертого года стали мы примечать, что дела на фронте у них стали плохи, они и вовсе ожесточились. И вот вызвали нас – десятка два номеров, выстроили. Эсэсовский унтер так и приплясывает перед нами, как зверь в ярости. Плетку каждому под нос сует. «Что, – говорит, – русские свиньи, по Москве соскучились? Я вам сейчас покажу Москву – долго не забудете. А ну, скидайте штаны!» Раздели нас донага, все стоим синие: утро холодное было. А без одежды мы и вовсе друг другу страшными показались – кожа да кости. Весь этот голый строй повел унтер к круглому бассейну и загнал в него. На дне воды сантиметров на тридцать. Вода ледяная, а дно у бассейна корявое. Посадил он нас на дно плотно друг за другом по кругу возле стены бассейна и говорит: «Сейчас в гости в Москву поедете». Спокойно так говорит. Велел взять друг друга за локти, да чтоб свистели и пыхтели, как паровоз, и передвигались по кругу.








