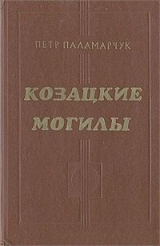
Текст книги "Козацкие могилы. Повесть о пути"
Автор книги: Пётр Паламарчук
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Погрузился старый казак в думы о минувших делах, вереницею проносившихся перед душевными очами; а потом, спохватившись, что позабыл вовсе про хлопцев, молвил им:
– Треба-таки поспать, молодцы, пусть и хочется ещё рассказать кое о чём, да на всё и недели не станет. А всё ж таки… Как воротились домой из-под Пилявы, сколько радости было! Хоть и многих не досчитались, да некогда словно и вспоминать – во всём селе одно веселье: и пьют, и льют, и гуляют! Что в самый Велик-день! Уже горилке и дна не видать, никто ни о чём не хлопочет, разве чтобы животина с голоду не пала. Кажется, все будто только что на белый свет родились – днём и ночью песни да пляски, даже у тех, где были убитые-покалеченные. Девчата, ровно маковые головки, в обнимку бродят по селу трошечки в подпитии – да когда ещё такой праздник будет; а парубки за ними вьются, как хмель, – прямые казаки! И вправду, каждый в поле был, всякий панам закалку давал. Жёнки и старые, и молодые, те уж пьяным-пьянёсеньки, которые и очепки порастеряли – просто сором! Лекарку нашу, бабу Мотрю, три раза до дому отводили. А про мужиков и речь нейдёт! И добра, правду молвить, принесли на дворы без счёту. Да и про вас мы слыхали, что живы-здоровы, кто-то ту весть славную батькам вашим донёс. А ещё, под самый конец прибрели откуда-то двое чернецов с саблями, нарезавшиеся в дым, да такое пустились спевать отнюдь не божественное, что и жёнки закосевшие разбежались кто куды. Ох, и радости было, Господи! Где-то с неделю, а то и больше пировали, поверив, что и детям, и внукам добыли воли…
Кто-то из тех, кого ещё не совсем сморил сон, горько охнул. Спека немного помолчал – и опять заговорил:
– Так протекло с полгода, и вдруг видим – тащится панова жинка, а с нею дюжины три жолнёров. Поселилася опять в замке, который остался цел, показавши гетманский универсал о том, чтобы отнюдь возвращённым папам не делали зла. Дружбу завела с самыми покладистыми, говорила – мужа-де дожидается, вот-вот приедет. Будто чёрный сон нагнал на нас тот универсал, а тут ещё и кое-кто из своих потихонечку шепчет: «Да что, давай дадим пану упряжку волов и мерки четыре солоду – лишь бы не умер с голоду…» А я как посмотрю на тех жолнёров, вижу – тут солодом и не пахнет! Так оно и сбылось…
Ну, довольно-таки, хлопцы, идите спать – вон уже на востоке алая полоска себя кажет. Коротка июньская ночка – хорошо, некому сейчас жениться.
…Да, а ещё через год дождались-таки Зборова и пустили там ворогу крови немало; но не успели отдохнуть – ан опять почитай что все шляхетство надвинулось: каждый лаком до чужого куса, и чтоб был пожирней. Ну, хватит наконец, ступайте, а то этим речам точно переводу не будет. Главное, держитесь, казаки, наша всё равно возьмёт!..
Левко и Микита пошли к себе, а откуда-то издалека, будто продолжая слова старого Спеки, слышалась песня:
Ой, бида, бида чайци небози,
Що выпела чаеняток при битой дорози…
Они добрели туда, где стояли их кони, которые, почуя хозяев, засуетились и тихонько заржали. Хлопцы подкинули им ещё сена и в молчании сели подле; потом, как бы повинуясь единой мысли, разом вынули сабли, каждый с силою резанул тонко запевший под лезвием воздух и попробовал остроту наточки. Один, из соседей буркнул спросонья:
– На кого это вы примериваетесь, а? – и тотчас вновь откинулся на бок.
Друзья ещё посидели немного, потом склонились всё так же сидючи и задремали. У Левка перед самым погружением в забытьё промелькнула думка, съели ли донцы пирожки, принесённые старухою, и он заснул с улыбкою на устах. Привиделась ему тогда в сонном видении Настя, укорявшая, что во весь вечер не зашёл суженый её навестить, напевая свою девичью заплачку:
Ой, пусти ж мене, полковничку, до дому —
Бо вже скучила, вже змучилась дивчина за много.
…С восходом все вновь двинулись вперёд; а ночью уже стояли на широченном, казалось, почти что безкрайнем поле. Позади него вплоть до деревни Пляшевой раскинулись болота и текла сообщившая поселению имя речка Пляшевка. Лунное серебро под утро потускнело, покрывшись патиной болотной мглы, а рассвет встретил такой густой пеленою туманов, что всё кругом словно снегом окутало и только вблизи можно было разглядеть смутные очертания людей да тёмные вереницы возов, соединённых в три ряда цепями и растянувшихся, опоясывая войсковой табор. Настя узнала от соседей, что четвёртая его сторона упирается в топкие речные берега. Под плотной белёсой завесою дымки поле двигалось и дышало, будто единое живое существо, – там слышался приглушённый гомон, тут резкое ржание и топот множества копыт, и за множеством выкриков, перебранкой и бряцанием оружия словно пряталось нечто невидимое, но ощутимо могучее и величественное. Насте порою делалось неизбывно жутко, и она тогда жалась к ближним подводчикам, уже соединившимся в боевой гурт.
Мгла заполонила собой всю окрестность, и только солнце, как далекий прозрачный кружок, слегка пробивалось через неё к людям; но чем выше оно подымалось по небосклону, тем сильнее просвечивало через дымчатую кисею. Вот пелена наконец разорвалась на воздухе, и дневное светило ярко блеснуло в прогалине, – но тут же всё опять затянуло мутной завесою, словно между двух природных сил происходила своя собственная молчаливая битва, предваряющая людское побоище.
Однако солнце, упрямо забиравшееся круче и круче в зенит, всё-таки взяло верх; оно залило лучами пространство поля и победно огляделось вокруг – во всю широту окоёма расположились тысячи людей, лошадей, возов, дюжины пушек, поверх отрядов реяли боевые знамёна и сталь блестела полосами, как речная волна. Ряды подвод как бы обрезали край поля, а около них кучились возчики. Вот на одной из телег поблизости стоит на коленях мужик, и лицо его застыло – он пристально вперивается в расположение польского войска, в голос пересказывая стоящим внизу:
– Прямо против нас всё черные пятна – ляшские пушки, а чуть подалей стоит немецкая пехота, такая же тёмная и неподвижная, в железных шапках с высокими гребнями и стальных панцирях. За нею позолоченные брони и шлемы со страусиными перьями – то выстроенные полукругом королевские гусары, с диковинными крыльями за плечами и пиками на красных древках, а уж кони – масть в масть, дорогие седла да вышитые чепраки. Сбоку от немцев – уланы в сетчатых панцирях с длинными копьями; пехота краснеет, как маки, в разноцветных колетах. А там ещё посполитое ополчение, пешее и конное, собранное по воеводствам и поветам, у каждого из которых свое особое убранство и цвет…
И всё это, Настюша, наше потом добытое добро, с кровью оторванное, – недобро закончил Степан и выпрямился и полный рост.
– А уздечки-то шелковые, – завистливо добавил кто-то.
– Уж наверняка не Степановы из верёвок! – отозвался другой.
Перед войском изумрудным ковром зеленели хлеба, вдали белелась рожь и торчали рассыпанные кое-где копёнки сена. Насте подумалось, что вот и здесь тоже недавно звучала девичья песня, шумел мирный сенокос, куковала над своими перепеленятами хлопотливая мать-перепёлка…
Она оглянулась назад: посередине табора ровными рядами помещалась казацкая пехота с мушкетами на плечах, сабли набоку, в чёрных коротких свитках, грозно молча, будто густая хмара перед бурею; за нею – крестьянские отряды в простых холщовых одежках, вооружённые кто чем горазд, угрюмые лица устремлены навстречу вражескому войску, поверх всех них полощутся на ветру малиновые прапоры. А там и казацкая конница на добрых степных копях; по левую руку от неё серая полоса – то татары.
Внезапно по полю понесся главный казацкий клич «Слава!», и с другого конца с великим почётом, верхом на драгоценном аргамаке выехал гетман в горностаевой мантии, опоясанный ярким поясом, с освящённым мечом и гетманской булавою, осыпанной самоцветами. Он громовым голосом, отдававшимся по всему полю вплоть до польского стана, крикнул: «Казаки! настал час навсегда утвердить свободу Веры и Отечества!» А в то же время по рядам в сопровождении сосредоточенного духовенства проходил в торжественном облачении Коринфский митрополит Иоасаф, посланец вселенского Константинопольского патриарха, благословляя войско на бой за волю.
Одновременно у поляков заиграли боевые трубы и послышался гимн: «О, господзя увельбьона…»
Тут по левой руке вырвался боевой возглас «Алла! алла-а!» – там загрохотала земля, и тысячи татар в полотняных чекменях и бараньих шапках, выставив вперед клинки, кинулись в битву, а с ними пошли и сопровождающие казацкие полки…
Зелёный ковер хлебов под копытами конницы стремительно сокращался, словно сворачиваясь, – а позади открывалась уже совершенно другая, кромешно черная земля… Заволновался и вражий стан – навстречу лавами тронулась королевская конница. Вот они все ближе и ближе… Ещё!.. ещё!.. И наконец грянули одна о другую, будто две стальные стены…
Настя с соседями аж нагнулась в ту сторону. Из казацкого табора летел галопом на подмогу своим ещё один полк, потому что татары на несколько гонов подались назад, – но подмога прижала поляков, и было видно, как уже в свой черёд изготавливаются к бою ляшские уланы.
У Насти впереди других всё вертелась в голове забота – где-то там наши парубки?..
Быстрее верхового вестника пролетел по полю и покатился далее слух, что в первых стычках убит личный друг гетмана Тугай-бей, а против татарского стана все плевали огнём без роздыха польские пушки…
Справа заиграли к бою сурмы, и двинулась казацкая пехота. Против неё выступали королевские конные хоругви, всё ускоряя свой бег; вёл их со знаменем в левой руке и мечом наголо в правой видный собою шляхтич без шлема, волосы которого дразняще разбросались в стороны по плечам.
– Браточки мои, – закричал Степан, – да это ж предатель Ярема, панский выродок! Вот где мы ему зацепим верёвкою рог!
Конные хоругви Вишневецкого с ходу разрезали наискось украинскую пехоту, разорвали ограждение из возов и ворвались в самую середку табора. Уже прямо рядом с Настею отдельные вершники врубались в расположение крестьянских отрядов. Один, подзадоривая, кричал: «Бей свинопасов, чтобы забыли, как воевать палками!» – «Вот я тебя батогом-таки угощу!» – отозвался Степан и въехал ему своей лютнею прямо между глаз. Но другой лях, извернувшись, с плеча рубанул Степана по голове, и тот рухнул, не поспел даже охнуть; тогда забившаяся было сперва от непривычки под воз Настя, позабыв от накатившего горя испуг, схватила двумя руками свою саблю и сзади полоснула убийцу соседа по шее – полусрезанная голова его отвалилась набок, повиснув на уцелевшем позвонке.
Тут, на её счастье, откуда-то сбоку разом ударил на прорвавшихся конников свежий крестьянский загон и потеснил их в сторону. Настя заметила, что вёл их бывалый Спека с разметавшимся длинным чубом, и ятаган в его руке блистал молоньей.
Она обратилась к Степану – он был уже безвозвратно мёртв, из раскроенной бритой головы кровь и мозг разлетелись далеко в стороны по земле, и пронёсшийся рядом конь хлюпнул в тёплую ещё лужицу по копыто. Настя вновь подняла голову, борясь с дурнотой, и с живейшею ненавистью встретилась глазами с разъярённым каким-то злым счастьем Ярёмою Вишневецким, совсем недалеко, шагах в полуста размахивавшим по ветру своим гордым прапором, – плохо вооружённые селяне, как ни тщились, мало могли нанести урона закованным в латы боевым конникам.
Вопли, стопы и лязг от металла неслись по всему пространству поля, а солнце теперь начало опускаться, словно стараясь вникнуть в подробности происходящего среди людей смертного пира. Тут в расположении татар стряслось что-то неимоверное: всё там закрутилось, забурлило, и белые чекмени со всех ног пустились наутёк, показав врагу спину, а вслед им все били и били королевские пушкари. Чья-то властная рука двинула на подмогу казакам ещё один большой конный полк; Настя нутром почуяла, что повёл его Богун, и сердце её ещё сильней защемило, дыханье зашлось. А тем временем через табор проползла лютая весть, что будто басурмане и вовсе бежали, оставя сражение на извол судеб, а с ними позорно ушла часть казаков Белоцерковского полка…
Настя с нарастающим ужасом наблюдала во временном бездействии, как справа и слева казаки под натиском шляхты медленно подавались назад, и лицо её заметно темнело; оно оживлялось лишь иногда, когда казацкое войско разворачивалось как сжатая до предела пружина и било в лоб наседающего врага, – по потом вновь медленно откатывалось обратно. И всё-таки подоспевшие конники помогли вооружённым селянам вытеснить хоругвь Вишневецкого – выходца из православной украинской семьи, переметнувшейся в чужой стан и веру, чей отпрыск Ярёма – то есть Иеремия – сделался наконец злейшим палачом собственного народа.
То тут, то там будто смерч налетал на отдельные кучки бойцов, закручивая их в своем вихре, – а когда через несколько мгновений схватка отодвигалась прочь, на месте оставалась лишь грядка безгласных тел…
Бой затихал; на поле пал туман и наконец хлынул долгожданный ливень. Мимо Насти, с гетманским бунчуком и частью его охранной сотни, проехал, отдавая направо и налево наказы, кропивецский полковник Джеджалий, – а вслед за ним пролетело худое известие, что Хмель бросился догонять татар, силясь повернуть назад хана, да не вернулся и сам, потому что переметный лжец-крымчак задержал его у себя силою. А с польской стороны, несмотря на дождь и вновь выползавший сквозь поры земли пар, полетела хвалебная песнь «Те Деум лаудамус». Но торжествующее это песнопение вселяло в сердце украинского войска не только горечь – сил для сопротивления у них было ещё куда как вдосталь.
– А ну-ка, хлопцы, – распоряжался появившийся невредимым из жерла сечи Спека, сопровождаемый сыном Алексеем, – чего вы уши развесили да слушаете папёжскую музыку?! Крепите-ка друг к дружке снова возы, обсыпайтесь рвами, хороните павших… и чтоб к утру всё тут было чисто, как на току! А шляхту поглубже зарывайте – она на жирных мясах вскормлена, так кабы не было чересчур много вони…
Старший Спека все ещё был без шапки, и седой чуб его, растрепавшийся во время боя, от дождя и пота крепко прилип к голове.
– Соседушки, давайте-ка прежде похороним нашего Степана, – взмолилась пришедшая в себя Настя.
– Давай! – отозвался тот, что третьего дня про купанье хмельного казака в речушке рассказывал. – Только не разом со шляхтой, а то ведь Степан упорный хохол, он и на том свете станет пихать их ногами. Пусть уж один себе почивает.
Выкопали кто чем мог яму. Настя своим платком закрыла соседу очи, чтобы земля их не запорошила; на мгновение все благоговейно склонились над последним прибежищем друга, затем молча засыпали могилу, а несколько поодаль в общей яме зарыли вражьи тела.
Сквозь дождь и приглушенный гомон Насте почудилось, что её кто-то кличет.
– Да тут она, – взаправду отозвался вскоре один из подводчиков.
– Ау! – крикнул знакомый голос, и вот уже Левко с Микитото стоят рядом с ней.
– Ну что, Настюшка, ты не совсем перелякалась в том пекле?
– Да нет, – вздохнула дивчина.
– И «да», то есть, и «нет», как понимать прикажешь?
– А чего ей бояться-то особо? – добавил тот же возчик. – Как порубали нашего Степана, то она так хватила сзади клятого шляхтича, мало что с концами ему голову не оттяпала.
– Ну и мы тоже хлебнули! Когда побегла татарва-то – гетман наш полк поставил отбиваться от ляхов…
– Ой, хлопцы, – вскликиула Настя, – я ведь сразу сама догадалась, что то Богунов полк. И тут уже точно страшно стало так, аж за сердце взяло…
– И не диво: там такое началось, что голова кругом пошла. Донцы, обошед нас, бросились вперед с кличем «За Неча-ая!» и врезались в самую чащу шляхетскую – так что их навряд и половина вернулась; по первый напор они остановили.
– Погоди-ка, Микита, – разглядела наконец его толком Настя, – так и у тебя же ж голова перевязана!
– Э, пустое, якойсь дурный лях, как летел с коня наземь, чуток палашом чиркнул.
– А мы, Настя, по твою душу. Отведём назад, до семей казацкой старшины – там всё-таки поспокойней, а тут прямо как на выгоне.
– Мне бы-то здесь и лучше, – я уж привыкла с ними, как со своими…
– Иди, дивчина, иди, коли там чуток тише, – уговаривали её подводчики, – а то мы правда, будто горох при дороге: кто ни пройдёт, тот и дёрнет.
– Ну, бывайте тогда здоровеньки, – прощалась с ними казачка.
– Это уж как получится, Настёна, – ответил кто-то горькой присказкой, и все вокруг ухмыльнулись уже не так весело, как прежде.
Ночь и туман накрыли Настю и её поводырей; только кое-где месяц прорезал крошево туч и светил людям, прибиравшим поле битвы.
Не вернулся гетман ни на следующий, ни на третий день – захватил его зрадливый хан, а табор тем часом со всех сторон намертво обложили враги.
Настало двенадцатое утро сражения, под великий летний праздник у православных – Петров день. Вновь густою дымкою заволокло все вокруг сверху донизу, аж темно сделалось, только множество костров пробивалось к небу дымом и кое-как освещало табор. Истомлённые и обезсиленные долгим ратным трудом люди грелись около огня, обсушивая сырую одежду и вдыхая запах яств, которые варились в казанах, дразня изголодавшиеся желудки. Кто-то в нетерпении молча жевал хлеб; другие проверяли и точили оружие. Было тихо, хотя невеликий шумок слышался издалека сквозь дым. Но вот около Пляшевой гомон вдруг стал возрастать и усиливаться, словно приближающаяся гроза… и уже посреди табора действительно разразилось будто раскатом грома: «Люди! нет ни одного полковника в таборе – все поутекли!!!» – «Куда сбежали? когда успели?!» – спохватились кругом. Страшная весть не тотчас доходила до сознания: ночью через болота и Пляшевку тайком проложили три гати, и казацкое войско, оставя селян, перешло на другой берег топи.
Поднялся страшный гвалт и крик. Мужики бросились к воде с озверелыми перепуганными лицами, а сзади, почуяв добычу, уже начали просачиваться в табор польские жолнёры. Лишь кое-где последние казаки и посполитые ещё продолжали держаться на месте, как островки посреди морского прилива. На спешенную для охраны сотню, которую Богун оставил по эту сторону гатей для переправы селян, люди враз наперли с неодолимою силой. На краю переправы обозный поставил ещё для острастки толпы пару пушек – по около них закрутился угрожающе мятеж, и орудия пришлось убрать.
Из табора несся непрестанный галдеж: «Где Богун?! Давай его сюды, курвина сына!» – «Чтоб его сто чертей подрало!» – переливалось по обезумевшей толпе. Над нею торчали ещё пики, косы и топоры – по вместо отпора врагам всё это вразлад разнобоем перло на гати. «Утёк Богун, сучий потрох!» – «Убежал, собачий гад!» – «Продал нас на погибель ляхам!» Даром надрывалась охранная сотня, стараясь овладеть положением; по другую сторону топи разъезжал сам Богун верхом на коне, размахивал полковницкой булавою и кричал надсадно: «Да вот же ж я тут. Уймитеся, безтолочь!» Его не слышали и не слушали, а сослепу и не видали – всё неслось к налаженной на живую нитку переправе, лишь бы скорей перебраться на тот берег. Переправа, набросанная в один слой чем только можно было разжиться в осажденном таборе, стала уже прогибаться посередине, и люди брели там по пояс в воде, кое-где проваливаясь в трясину; а края совсем потонули в жиже. Вместе с ними шли ко дну и неосторожные, вопия из последних сил: «Охриме, подай же руку!», «Ой, братки, помогите, пото…», – а потом голоса обрывались, захлебываясь; разве лишь голова ещё вынырнет из трясины, схватит ртом последний глоток воздуха – и вновь исчезнет, чтобы уже никогда не вернуться. Вот поднялся середи болота один, сумевший за что-то зацепиться, пошатнулся, выронив секиру из рук будто пьяный, и рухнул вниз лицом. Болото словно бы кипело, а гати прорывались всё больше и больше, и окна в них выстилали собою сами люди, по которым бестрепетно шествовали новые беглецы. Кому удавалось целым добраться до твёрдой земли, тех сотники поспешно вновь сбивали в ряды.
Там распоряжался взявший сторону казаков незаможный шляхтич Навроцкий со своего конною сотней; он то и дело вглядывался в сторону гибнущего табора искаженным от злости челом. Часть казаков охранной сотни под напором селян перебралась тоже на спасенный берег, по другую хлынувшая толпа сбила на сторону. «За нами, казаки, за нами», – кричали они, отходя вбок от гиблого скопища на плотине. Тут уже составился целый загон, во главе которого оказался Опека с сыном.
– Гей, хлопцы, до нас! – кричал он тем, которые ещё набегали из лагеря. – Сюда, вербовцы, мытищинцы, лелюковцы! Ну!
Они послушно становились в гурт, а к ним присоединялись и другие.
– Вперед, братва! Берегом идём, тут не топко! Поспевайте, только не бегите – а то за вами и лихо примчится, – кричал атаман.
Конные хоругви поляков уже рассекали табор на части, врезаясь в обезпамятевшее скопище, потерявшее всякий вид войска.
– Кто с косой или с пикой, становись по бокам! – управлял не утративший присутствия духа Спека, – а с мушкетами во второй ряд, клади на плечи передним и пали, не подпускай шляхту! Держись, не поддавайся!
Разрозненные королевские конники пытались было с лету наскочить на этот отряд, по добывали себе только смерти.
– Вот это дело, хлопцы, вот так и треба! Один раз мати породила!
Следуя краем болота, загон упрямо пробивался вперед, уходя от топи и отрываясь от врагов. Левко с Микитою помогали обезсилевшей и притомившейся Насте, изведшей почти все силы на борьбу с цепкой трясиной и изранившей руки, хватаясь за чахлые кусты.
– Надо было тебе, дивчина, уходить сразу с казаками, – выговаривал ей Левко, но Настя упорно мотала наперекор головою, а потом молча, собравшись в комок, снова двинулась вслед за другими. Солнце уже поднялось на полдень, а они всё шли, отбиваясь от ляхов, как от пчелиного роя, который наседал то с боков, то сзади, а когда и залетал вперёд. Немало селян полегло в этом походе убитыми и ранеными – последним было тяжелей умирать, ибо на подбитых не до смерти, будто мухи, сбирались гурьбой супостаты и, измываясь, кололи так, чтобы не умерли сразу, а хорошенько помучились, прежде чем испустить дух. Но и мужики не давали шляхте спуску, когда она попадалась под вооруженную руку.
Неожиданно весь отряд словно вздрогнул и остановился – спереди среди людей пронеслось всполошенное «Стырь…». Речка напрочь перекрыла дорогу.
– Ничего, хлопцы, ничего, не журись! Алексей, беги назад, возьми полсотню добрых молодцов и стойте крепко, сколько выдюжите, пока мы с передним отрядом не переправимся вон на тот островок. Эй вы, кто может – плывите, а кто выше, переходи вброд. Только не мешкайте! – наказывал атаман.
В камыше отыскали челн и, как когда-то в детской игре, стали переплывать протоку, держась в несколько рук за его края, а потом осторожно передавали обратно. В то же время на подступах к переправе не переставая кипела битва с наседающей шляхтой – в этом заслоне полегли все до единого; загинул и Алексей Спека – некого будет поховать в землю жене его Евдокии: далеко от родной хаты раскроил ему лицо надвое королевский улан.
Увидал старый атаман гибель внука, да только пошатнулся и уже с последними селянами вступил в воду, отправляясь к остатнему своему убежищу. А солнце как ни в чем не бывало весело взблескивало на волнах, разбивавшихся о прибрежный камыш и рогозу, густою стеною стоявшие вдоль заболоченных берегов. Середина же островка выдавалась кверху пригорком, словно насыпанная нарочно, и поросла осокою с черноталом. По другую сторону текла быстрина, бурлившая маленькими воронками, и кто-то самый спорый уже успел обнаружить, что дальше на тот берег брода нет. Двое мужиков остановились около самой воды, а один даже вошел в неё по пояс, вздымая донную муть.
– Чего ты подался туда, Грицко? – спросил его товарищ.
– Как это на что? Сегодня ж Петров день. Вот бы мне жена задала трёпку, приди я сегодня до дому сухой! – бросил ему в ответ неунывающий купальщик, припомня старый обычай, гласивший, что окунанье на этот праздник отгоняет от женатых блудный помысел.
– Да тебе же домой аж до Подолья тащиться!
– Наш дом теперь уже тут – пить, ляхи как туча, а нам отступать некуда. Ну, идём до кучи. Пока будем дело кончать, тут и высохну. А гляди, какая грязь липкая – тел по воде и не отмылся…
С обеих сторон готовились к решающей схватке. На том берегу протоки вперед выступил дородный шляхтич и примялся задирать противника по древнему обычаю единоборцев:
– Гей вы, крысы! Ну-ка вылазьте на свет. Попались-таки в капкан?!
– Ежели тебе повадно заглянуть в то место, откуда у казака ноги растут, так мы тебе его и отсюда покажем в подробности.
– Посмотрим-посмотрим, а потом ещё и батогами проверим!
– Пробовали уже проверять и под Пилявою, и под Зборовом, ажно портки поразорвали. Да где-то, видать, и ты их продырявил – чтой-то мне твоя пика знакомая!
– Но-но! Тебе уж не до меня было, потому что ты рожу свою из кустов не казал!
Из-за спины шляхтича на его плечо тихохонько поместился мушкет, но казак был внимателен, тотчас присел – и выстрел прогремел вхолостую. Одновременно с ним отряд коронных вершников бросился вплавь по воде. Казаки встретили их ружейным огнем, а когда кони выбрались наконец на мель, навстречу бросились храбрецы-добровольцы – и ни один поляк не вышел живым на сушу: всех они побили или потопили.
– Не поддавайся, молодцы, не поддавайся супостатам! Лишь бы до ночи продержаться: ночь казаку мати! – подбадривал Опека. – Да челн переправьте на другой бок.
Шляхта беспрерывно палила из мушкетов, но между приступами обороняющиеся прятались за песчаный холм и отдыхали, а потом вновь выскакивали и кидались в бой. Солнце уже начинало клониться к западу, но врагам так ни разу и не удалось ступить крепкой йогою на казацкий берег. Ляхи сызнова заметались, когда к ним на дорогом породистом коне, встреченный с подобострастием, подъехал какой-то пап в серебряном панцире и начал что-то выговаривать. «По нашу душу совещаются», – сообразили казаки.
На той стороне вышел вперед блестящий рыжекудрый гусар и поднял руку, давая знак, чтобы перестали стрелять. Среди казаков один низкорослый, но бойкий на слово хлопец в белой холщовой сорочке с синею лентой, указывая рукой на шляхтича, весело крикнул:
– Гляди-ка, какова сиворакша! А ну-ка послушаем, что запоет эта птица?!
Стрельба действительно на время утихла. К гусару приблизилось ещё трое соратников; на этом берегу тоже показалось открыто несколько голов.
– Казаки! – пробасил он. – Пан краковский дивится вашему мужеству и не хочет даром лить кровь храбрецов. Положите оружие – вам будут дарованы жизнь и воля.
Селяне задумались, а тот, что приглашал послушать птичью песнь, аж охнул и скривился, словно проглотив что-то кислое: «Ну и сиворакша! ну и голосиста! Чтоб её подняло да гепнуло!»
С ответом выступил атаман Спека:
– Передайте тому пану Потоцкому, чтобы он не воображал ничего подобного про казаков. Нет уж, панове ляхи, нас не возьмёте обманом! Нам не жизнь дорога, да и золото за ничто – а милостями врагов мы гнушаемся. Дороже всего казаку воля.
С теми словами он вывернул карманы и все гроши и драгоценности на глазах посланцев Потоцкого покидал щедро в воду, а за ним то же самое сделали остальные.
– Так и передайте своему пану всё, что слыхали и видели, – а другого ответа не будет!
Как только посредники отъехали прочь, с казацкого берега вновь ударил залп под могучий крик «Слава!».
Со стороны табора, из которого они вышли, уже не было слышно ни звука. Шляхта опять засуетилась, стали доноситься приказы к приступу – и ляхи с новою силой бросились на островок. А по речке под прикрытием нападавших к осажденным подбирались челны.
– Ну, грядет буря, – громко заметил Спека. – Собирайтесь, хлопцы, ударим на них разом.
Схватка началась прямо в воде, которая заклокотала, как заправский котел. Секирами рубили и челны, и сидевших в них жолнёров; под их пиками и саблями сами падали в воду, сделавшуюся бурой от своей и чужой крови. ещё один приступ был отражен – и защищавшиеся прилегли отдохнуть, кто ненадолго, а которые уже и навеки.
Спека кликнул Настю с Левком:
– Веди дивчину на ту сторону речки. Соберите из камыша два снопа, привяжитесь к ним и плывите. В осоке до ночи и перепрячетесь – негоже, чтобы ворог надругался над молодицей.
– Я не покину товарищества, атаман!
– Ничего, обойдется оно и без тебя.
Настя стояла посеревшая, как мертвец, и руки у неё обвисли, словно неживые.
– Свой ятаган возьми-ка обратно, Левко: не хочу, чтобы наша слава досталась ляхам. Трубки из камыша срежьте, будете дышать из-под воды, коли они наскочат ненароком…
– Прощай, Левко, – молвил Микита, – и ты, Настя, прости ради Святой Троицы, ежели не увидимся уже на сем свете…
– Прощайте, товарищество, – еле слышно выдавила из себя Настя.
– Скорей устраивайтесь с перевозом, – настаивал Спека, – вон они уже внове собираются. Во время битвы и двигайтесь, тогда некому будет особо присматриваться, да и солнце ляхам в глаза.
А там уже снова зачинался бой под последние выкрики «Слава!», – по осажденным опять удалось отбиться. Тем временем на той стороне островка подле самой быстрины зачернела пара камышовых снопов, а меж ними едва-едва замаячили две казацкие шапки.
Солнце садилось за небозём, высвечивая косыми лучами островок, где собрались последние казаки, поляков, готовившихся к очередному приступу, и камыши, качавшиеся на вечернем ветерке, умиротворенно шепча: «Чшш… чш… чш…» – «Шу-у…. шу-у… шу-у…» – отвечала им тихо рогоза, наклонявшаяся до самой воды, чтобы заглянуть в последний раз в глаза телам, проплывавшим вниз по течению: вот вода унесла шляхтича, которого казак обозвал птицею-сиворакшей; а вон и сам казак, в распахнутой до пояса сорочке и уже навеки замолкший.
Тем временем на островке наконец пал последний защитник и победно вскричали ляхи. Бой окончился.
Солнце спряталось, и в наступивших сумерках двое беглецов тишком пробирались в прибрежных зарослях, шелестевших, скрадывая шум их шагов.
– Берег! – выдохнул еле слышно Левко, схватив за руки Настю, и оба они молча упали на твёрдую землю. Несколько мгновений лежали, не в силах подняться от накатившей истомы; по вот Левко все-таки подхватился первым, дико озираясь – не выдал ли их врагам минутный сон. Лёгкими толчками разбудил подругу, и они пошли крадучись лугами к недалекому лесу, настороженно напрягая все чувства.
Настя внезапно очнулась и удивленно повела очами. Она лежала на полу, где было обильно настелено сено, прикрытая куском рядна; в головах помещалась подушка. Дивчина закопошилась, пытаясь приподняться и сообразить, что с нею и где она.
– Лежи, лежи смирно, – сказала придвинувшаяся к ней нестарая ещё женщина и опустила на горячую голову свою прохладную ладонь.








