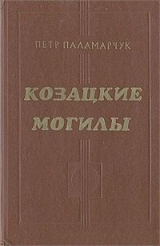
Текст книги "Козацкие могилы. Повесть о пути"
Автор книги: Пётр Паламарчук
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Пётр Паламарчук
Козацкие могилы
Повесть о пути
Творчество писателя Петра Георгиевича Паламарчука (1955–1997 гг.) пронеслось ярким метеором на небосклоне современной российской словесности. Но след, оставленный этим небесным светилом, оказался весьма значителен и глубок. Увлекательные романы, повести и рассказы в историко-философском ключе, публицистика на животрепещущие темы современности, где судьбы России переосмысливаются в контексте мистерии мировой истории, монументальный четырёхтомник «Сорок сороков», посвящённый храмам и монастырям Златоглавой Москвы, – воистину удивляешься, как удалось автору за столь краткий срок земной жизни написать такое множество прекрасных произведений!
Литературное наследие Петра Георгиевича, человека, глубоко укоренённого в традиции исторической России, нисколько не потускнело и в нашу динамичную эпоху, а напротив, как драгоценный камень, с течением времени открывает всё новые, и новые грани его писательского таланта. Прекрасный, пластичный и образный язык писателя, вобравший в себя проникновенные глаголы библейских пророков, торжественность державинских од и мягкую иронию Гоголя, до сих пор радует вдумчивого читателя, открывая перед ним мир русского человека в его духовных странствиях, борьбе и поиске истины.
Повесть «Козацкие могилы» повествует об одном из драматических эпизодов в истории нашей Родины – битве малороссийского казачества против Речи Посполитой (с её панами, ксёндзами и «арендаторами») при селе Берестечко. Автор не ограничивается только временными рамками этого сражения, напротив, его неутомимая мысль, легко пронзая эпохи и царства, предлагает своему читателю целую панораму исторических событий, соединённых единой цепью в некое неразрывное действо, где связующим элементом выступает дух нашего великого народа.
Приятного чтения!
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
(На них основано от века,
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.)
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как [неродящая?] пустыня
И как алтарь без Божества.
А. С. Пушкин
ТОЧКА ОТСЧЁТА
– находится в самом средокрестии мировой истории, на краеугольной грани времен, в тот единственный день рождения, после которого «не наша» эра сделалась уже совершенно «нашей». Как свидетельствует почти современная этим событиям рукопись, в некий самый сокровенный миг всякое движение на свете остановилось:
«И вот я, Иосиф, шёл и не шёл; и взглянул на воздух и видел воздух оцепеневшим; взглянул на свод небесный и видел его остановившимся, и птицы небесные остановились в полёте; посмотрел на землю и видел чашу, поставленную с пищею, и делателей возлежащих, и руки их у чаши, и вкушающие не вкушали, и берущие пищу не брали и приносящие к устам своим не приносили, но лица всех обращены были к небу. И видел гонимых овец, но овцы стояли. И поднял пастух руку свою, чтоб погнать их, но рука его оставалась поднятою. И посмотрел на поток реки, и видел, что уста козлов прикасались к воде, но они не пили, и все это мгновение задержано было в своём течении…»
А спустя ещё девятнадцать столетий другой сын человеческий, по всей видимости никогда не читавший той рукописи, вглядываясь сердечным оком в пространство утекших времён, сумел разглядеть это событие с ещё более возвышенной точки зрения. И назвал он своё видение наяву коротко —
«ЖИЗНЬ.
Бедному сыну пустыни снился сон.
Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трёх разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы.
Стоит в углу над неподвижным морем древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтёсанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.
Раскинула вольные колонны весёлая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелёными рощами; киннамон, виноградные лозы, смоковницы помавают облитыми мёдом ветвями; колонны, белые как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитая гроздиями, с тирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске. Жрицы молодые и стройные с разметанными кудрями вдохновенно вонзили свои чёрные очи. Тростник, связанный в цевницу, тимпаны, мусикийские орудия мелькают, перевитые плющом. Корабли как мухи толпятся близ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.
Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на всё завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и всё, и не тронется львиными членами.
Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы все царства предстали на Страшный суд перед кончиною мира.
И говорит Египет, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков: «Народы, слушайте! я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Всё тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, ещё жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Всё пожирает смерть, всё живёт для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение. Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».
И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов, слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и вместе с нею её наслаждения. Всё неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно всё в природе, как всё дышит согласием. Всё в мире; всё, чем ни владеют боги, всё в нём; умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обитатель мира; венчай дубом и лавром прекрасное чело своё! мчись на колеснице, проворно правя конями, на блистательных играх. Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницею их – красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную голову и прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения – умей быть достойным наслаждения!»
И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека; оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек! В порыве нерассказанного веселия, оглушённый звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов! Слышишь ли, как твоё имя замирает страхом на устах племён, живущих на краю мира? Все, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно; нет границ миру – нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир – ты завоюешь наконец небо».
Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.
Камениста земля; презренен парод; немноголюдная весь прислонилася к обнажённым холмам, изредка, неровно оттенённым иссохшего смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит Младенец; над ним склонилась непорочная Мать и глядит на Него исполненными слёз очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.
Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с пародами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли…»
Таков зачин второй части «Арабесок» двадцатипятилетнего Гоголя.
…Но время наконец стронулось с неподвижного средоточия, потекло по направлению к нам, и начался
ПУТЬ.
Родившийся в яслях первым ступил на него, сказав: «Аз есмь путь, истина и жизнь». В урочный час заданное Им движение достигло пределов нашего Отечества, и с тех пор мы тоже всегда в пути, на дороге поисков истины и жизни.
Спервоначала путь этот понимался в природном, пространственном смысле паломничества – «хождения»; и потянулись русские странники средневековья в Палестину, Царьград, на Афон, иногда волею иль неволей достигая то Индии, то Флоренции.
В послепетровскую пору поток их сократился до невеликой речки или даже ручья, но так никогда и не иссякал совершенно вплоть до нынешних лет. Ещё в бытность Петра на царстве, в 1724 году, вышел из Киева путник Василий Григорович Барский, сумевший обминуть за четверть века все Средиземноморье и Ближний Восток; по возвращении домой принес он с собой только дневник своих странствий с полутора сотнями зарисовок, прожил месяц на родине и отошёл в лучший мир на руках архитектора-брата. Собственноручное описание этого путешествия сделалось излюбленным народным чтением; а век спустя славянофилам и западникам пришлось на время прервать свои распри, чтобы с удивлением обнаружить рядом с собою вовсю живое это «третье» течение отечественной словесности, на сей раз представленное «Сказанием о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» инока Парфения.
Но всё же Петров перелом, разделив собственное время с прошедшим, расколол и прежнюю общность самосознания народа: с осьмнадцатого именно века дворянин принимается путешествовать по своей стране, будто за границей. И покуда сентиментальный странствователь Карамзин знакомит просвещённых любителей чтения с новой Европой, уязвленный пилигрим Радищев составляет свое чувствительно-яростное описание дороги из Петербурга в Москву.
В начале следующего столетия Пушкин пройдёт, пусть и не до конца, тем же маршрутом в направлении строго обратном не только географически, но и духовно. Вслед за ним Гоголь призовет сородичей «проездиться по России» – пока наконец безостановочная передвижка не сделается в наставшем веке почти что всеобщей.
Куда как показателен для текущего состояния всего итого брожения путевой дневник души Венички Ерофеева, озаглавленный по крайним точкам поездки «Москва – Петушки». В нём сочинитель вместе с прочими приёмами и ухватками своих предшественников перенимает весьма кстати наименование глав по станциям – на которых он, впрочем, не останавливается, а потому указывает перегоны – и, как говорится, поставив последнюю копейку ребром, довольно похоже показывает родную страну словно несущийся сквозь просторы вселенной электрический «бювет», как в строгом смысле именуется французским наречием придорожная забегаловка, где не едят (это как раз «буфет»), а пьют…
Впрочем, не всё ещё, конечно, столь уже безнадёжно; по тут следует скорей обратить внимание на то, что в наступившем столетии сдвинулись с места даже те самые неподвижные прежде цели, что служили точками притяжения путникам. Вот разительнейший тому пример по имени древнего русского города
АРЗАМАС.
В 1815 году петербургский литератор с достаточно знакомой фамилией Блудов написал направленный против «Беседы любителей русского слова», возглавлявшейся Державиным и Шишковым, фарс «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом учёных людей». Из этой затеи выросло известное пересмешническое литературное сообщество, среди всех именитых членов которого едва ли один видел воочию Арзамас доподлинный. А попался он на язык оттого лишь, что Блудова с товарищами весьма потешала мысль: в уездном городишке, славившемся разве что своими гусями, местный живописец Ступин, окончивший в Петербурге академию, открыл школу художеств с целью облагородить иконописное дело.
Между тем почти в то же самое время живший неподалеку от Арзамаса помещик Мотовилов свёл знакомство с одним из сокровеннейших русских подвижников по имени Серафим Саровский. Человек этот долгими трудами доспел высочайшей степени просветлённости – облик его в состоянии духовного восторга Мотовилов описывает так:
«Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полудённых лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажень кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда?
– Что же чувствуете вы теперь? – спросил меня отец Серафим.
– Необыкновенно хорошо! – сказал я.
– Да как же хорошо? Что именно?
Я отвечал:
– Чувствую я такую тишину и мир в душе своей, что никакими словами выразить не могу!»
…Однако большинство образованного сословия того века предпочитало не видеть этого света; а если кто-то и следовал по своим путям через Арзамас, то всё-таки ехал во всех смыслах мимо. Сквозь Арзамас прошествовал однажды и Лев Толстой, который за одну проведённую здесь ночь нечаянно пережил столь острый приступ души, оскорбленной резкою недостачей чего-то чрезвычайно важного в собственной сердцевине, что на всю жизнь запомнил его под именем «Арзамасский ужас»:
«Мы подъезжали к городу Арзамасу.
– А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?
– Что же, отлично…
– Нет ли комнатки, отдохнуть бы?
– Есть нумерок. Он самый.
Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон, и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно… Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою и я-то и мучителен себе. Я – вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавят и не убавят мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя.
…Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, ещё больше страшно было.
«Да что это за глупость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь?»
– Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут.
Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она – вот она, а её не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что её не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер её, немного меньше подсвечника, – все говорило то же. Ничего нет в жизни, есть смерть, а её не должно быть.
Я попробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только весёлого не было, но всё это стало ничто. Всё заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лёг было, по только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска и тоска, – такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. ещё раз прошел посмотреть на спящих, ещё раз попытался заснуть; все тот же ужас, – красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало.
Что меня сделало? Бог, говорят, Бог… Молиться, вспомнил я. Я давно, лет двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться: «Господи, помилуй», «Отче наш», «Богородицу». Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, – развлёк страх, что меня увидят. И я лёг. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали.
На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то повое легло мне в душу и отравило всю прежнюю жизнь».
Было движение и в обратную сторону. В места подвижничества Серафима Саровского неподалеку от Арзамаса пешком брели со всей обширной России люди, и продолжают приходить до сего дня. Время, однако, многое переменило здесь, где старец Серафим провёл в бдении тысячу ночей у источника целебной воды, открытого им.
Взамен них люди нашли другой ключ по-над речкой Сатис и новый камень среди дремучего бора, перенесли на них славу первых – и так святые места как бы тоже тронулись в путь, а путешествующие к «родному пепелищу» и «отеческим гробам» оживили своей любовью и поклонением безгласное доселе вещество.
Дороги в пространстве, переплетаясь с путями во времени, образуют некое целокупное странствие духа, которому приличествует и свое особое имя. Венчая знатное семейство «писаний» – летописания («хронографии»), землеописания («географии») и других, появляется наконец наш главный герой —
КОСМОГРАФИЯ,
то есть описание красоты и мудрости устройства Вселенной. Древние русские космографы начинались с переложения греческих и византийских образцов, а затем уже переходили к самородной отечественной части. Называли они свои труды пространно, например так: «Космография, еже глаголется описание всего света, изыскана и написана от древних философ и преведена с Римского языка на Словенский».
Открывается космография, как и положено, с начала начал, называвшегося тогда «сотворением мира», – то есть того предначинательного мига, в который родились пространство и время; а затем появился на свет их царь и одновременно подданный – человек: «Искони всемудрый Бог, создав человека от земли, умна, словесна и рассудительна, и самовластием почтил его, покорив же ему видимые твари все, еже есть скоты и звери и птицы и вся, яже ходящая и в водах пребывающая, и повеления положил ему: да творит, яже на угождение Богу, потом же и на промышление своему жительству да смотрит полезная и лучшая, и о том да приносит хвалу премудрому хитрецу Творцу».
Затем следовали сказания о грехопадении, потопе, Персии, Вавилоне, Египте, но всего более о премудрых Еллинах, которые были хотя и служители идолов, но не безсмысленные – ведь многие их «философи быша воздержаницы, и житие чисто имеша, всячески удаляющеся женского смешения и винопития, и воздержание излиха возлюбиша, от них же многих человеколюбивый Творец попустил со прочими изысканиями и истине косутися, и миози мужие и жены пророчестваху о Христе, и нарицахуся смотреведцы, от них же нецыи реша яко философия глаголется любомудрие и составляется седмию мудростьми:
еже есть первая – многосложная орфография;
вторая же – ритория, рекше многая сказания в мале словеси объяти ясно и показати вся;
третия – диалектика, еже есть во многих препинательное толкование, от них же взыскуется истина;
четвёртая – богословные сказания, глаголемая софистика, яже суть едва постижно человеческому естеству;
пятая – сладкопеснивая мусикия;
шестая – еже устроити зелия на врачевание человеком;
седьмая же – геометрия, еже есть землемерие, в ней же и арифметика скорочисленная и многопамятные сказания» – а поверх всей семиглавой премудрости высится ещё и —
«осмая, превысшая философия, именуемая путь ко спасению, еже отбегнути всех мирских похотей и во плоти ангелом сожительствовати, ещё общею речию зовома память смертная, ея же мнози вожделеша, мало же сподобишася получити».
От общих корней мироздания дорога ведёт к описанию «света и его населения человеческим множеством»:
«Земля есть посреде округов небесных яко точка во окружалном колеси в равном расстоянии от небеси до земли: со всех сторон составлена, дабы равные долгости ко умножению дождей из себя испущала и мокроты восприяла, сего ради все воды в себе и на себе держит, понеже убо стихии меж небом и землею есть сии: вода, воздух и огнь, которые людям и всякому животному прирожденную живость подают, как нам, тако и тем, иже мнятся быти под нами, понеже земля своея ради круглости нигде книзу не висит, точию посреди небеси во своем равном состоянии содержится, а имеет на себе горы и холмы великие, но ничтоже ея округлости не измещает, точию в своем кругловидном существе пребывает, яко же видим на перечном зерне горы и холмы и долы, но ничтоже его округлости не вредит. Премудрые люди, во окружных премудростях искусные, совершенно выписали и землю размерили, по паче же Птоломей Александрийский, пустые страны такоже, как и живущие… Но ещё ныне обретаются иные мудрецы, совершеннейший Птоломея – аще и не в науках, которые с древних лет готовые имеют, – по во искушениях, понеже после Птоломея не в давних летах изыскали на некоторых островах новых людей, которые в прежних временах неведомы были древним космографам».
Прародичи наши верили – и, как теперь выясняется, не вовсе оплошно, – что вся земля некогда была поделена между тремя сыновьями Ноя: Симу с семитами досталась Азия, Хаму с хамитами Африка, а Иафету с яфетическим племенем – «третья часть Европия, начинает же ся от моря Белого Византийского и протязается к Западу до Великого окияна моря и до земли Ишпапской и иных западных стран и до Америки, ея же нарицают Новый Свет, и паки взимался к северным странам до Ледовитого моря, в ней же страны и царства многи и различны, яже суть первое царство и великое княжество Российское, и словенские, и иные народы различны: Русь, Поляки, Литва, Угры, Чехи, Моравы, Волохи, Мутияне, Албаны, Сербы, Германы и Немцы, Испания, Италия, и Рим, и Веницея, Франция и островы Вританские и Албанские и королевство Португалское, Геополитанское, Новарское, Датцкое, Аглицкое и Шкоцкое, Свейское и иные великие княжества и страны, прилежащие к великому Окияну, иже прежде все едину веру и истое крещение приемше ещё при великом Константине Флавияне и все равно содержаху православную веру многая лета.
Ныне же по навождепию диаволю в западных странах, яже суть в Италии и во Испании и в Германии и во иных Немецких странах разсеяшася различные ереси, приемше учителей по своим слабостям и кождо своя мудроваху, яко же хотяху: от них же и имена верам своим изложите, и друзии убо парицаются Папежницы, и иные же Люторы от некоего еретика лютого именем Мартына Лютора, и иные же Колвинцы и Гусати от неких еретик Колвина и Яна Гуса, и от Филиппа некоего рекомого Мелентора, и иные же Арияне, приемша Ариево беснование, друзии же новокрещенцы, иже дважды крещаются – первое точию водою, второе же маслом помазуются и двумя именами нарицаются, к сим же мнози пароды соврати-щася слабости ради, и отеческие предания и церковное пение и посты премениша, точию Российския страны народ содержит прежнее православие, яже прията от Грек.
Зело же преизобильна часть Европия всеми благами земными, хлебом и овощми различными, и златом и серебром, и воздух имеет тепел и хладен, яко умерен, и люди зело премудры, и всякой хитрости уметельны, и князи и держатели имеет многи, и грады прекрасны и зело тверды, яже последи сказать бысть по различию земель, языцы же имеют различны, но верные все, аще и ереси многи суть в них, по обаче все крещены и поганство в них на идолослужение не обретается, и сия часть яко же глаголют премудрые лучшая есть на вселение».
Посреди сей наилучшей земной части, под январским знаком Водолея помещается наш «Московский край, Российское царство, Красная Русь…
Царство и великое княжество Российское христианское благочестивое, народ давний, иже обитати начал во странах оных по разделению языков, глаголет же славенским языком. Земля велика и широка, пространство же свое имеет меж всех частей вселенной, даже до Азии и до моря, глаголемого Каспис еже есть Хвалынское, и до стран Перских, к полудню же даже до предел Херсонских и до Крымского царства и до украин Турских, до моря глаголемого Черного, на запад же даже до предел Немецких, Лифляндской земли и до моря глаголемого Варяжского, на север же даже до Великого Окияна и до земли Лопской и Норвецкой, и паки к востоку даже до Ледовитого моря и до земли Сибирской и до пределов Китайского и Богданского царства. Имеет же под собою и Сибирскую всю землю с прилежащими к пей ордами, и царство Казанское, и Астраханское, яже прията от поганых, и к ним прилежащие многоразличные роды Татарские, Ногайские и Калмыцкие, и Черкасские, и Черемису, и Мордву, и иных поганских пародов немало, и сих имеют в повиновении, с них же дань емлют серебром и медом и коньми и скотом и зверями различными.
Людие же земли Российской изначала живяху в лесах и в полях, яко же поганые пароды, ни начала над собой имуще коего же, ниже градов, по яко звери в горах и в лесах скитающеся, питался стрельбою лучною, зверми и птицами; потом же научившеся от окрестных стран, начата строити домы, и грады соградиша, и нарицахуся Скифия многочеловечная; потом же избраша себе князя от Немецких стран Прусской земли именем Рюрика от колена Августа кесаря Римского и нарицахуся Россия великая, и тако управляемы бываху сих властито, лю-дие же зело воинственны беху и брани любяще и находяще на христианские страны, пленяюще сих. Некогда же и на Царь-град пришедше, повоеваша его и дань емлюще не однажды.
Обладаху же российские пароды прежде и Литвою, и Угры, и Болгары загорскими и Волжскими и иными странами прилежащими окрест и дань на них емлюще, и житие имуще сурово и безчеловечно; потом же прияше святое крещение от Грек начальный их великий князь Владимир, правнук Рюриков, во дни Василия и Константина царей Греческих, и митрополита и епископов во градах устроиша, и оттоле на лучшее пременяхуся, но аще и крестишася, рати все не осташа и Греческие пределы часто нахождаху и пленяху зело. Потом же Греческий царь Константин Мономах, видя от них пределам своим утеснение, сотвори с ними мир и любовь и великого князя их Владимира Всеволодовича почтил царскою честию, прислал к нему царский венец и диадиму, и скифетр царский и яблоко златое с драгим камением, и сотворил его честью равным себе.
Имеша же страна та многих князей от колена Рюрикова и Владимирова, и каждый владел своим градом и страною, и оттого бысть в них нестроение и мятеж, и за несогласие и несовет пленена бысть Российская страна от некоего поганского царя Златыя орды именем Батыя, иже многие страны поплепнл на востоке и на западе, и обладаемы бяху от царей Златыя орды время не мало. Потом же князи их от всех градов избраша себе град Москву, его же и главу всем градам сотвориша, и начаша поставляти у себя царей яко же в Греческой земле, по и ещё многие быша князи по различным градам; обаче видя себя насилуемых от поганых, совет между собою сотворите и все повинувшеся единому старейшему от всех князей царю и великому князю Владимирскому и Московскому. Потом же все совокупльшеся воедино и примиривше к себе ногайского Крымского царя и, сего взем в помощь, Златыя орды царя изгнаша из царства его: Златую орду и Казань и Астрахань приемше и до них прилежащие языки поработивше, и ныне держат под своим повелением, сами же никем не обладаемы.
Земля же Российская хлебом зело преизобильна и скотов всяких и коней имеет множество, кони же не велики, но зело крепки и твердоузды, и пажити имеют скотам зело пространные. Имеет же Российское царство многие грады каменные и твердые, паче же всех Москва, град царствующий, зело велик и крепок, тремя стенами каменными огражден, ему же величеством и крепостию едва во всей Европии подобен град обретается. Имеет же и реки великие: Волгу, и Двину, и Каму, и Оку и иные великие реки и озера многие, и всеми благами, иже износит из себя земля и воды, наполнена, и птиц множество и, спроста рещи, всем преизобильна, точию злата и серебра и винограда нет, людей же имеет в себе множество, паче же купецких и поселян, много же и воинских людей, и против недругов своих стоят своими людьми.
Потом же изрядного ради православия по совету четырех Патриархов Вселенских и своих митрополитов и епископов, благоверный царь Феодор Иванович всея России устроил в царствующем граде Москве Патриарха, якоже в Константине граде и во Ерусалиме, по градам же митрополитов, архиепископов и епископов учредил многих.
Во всем обладаемы и повелеваемы люди страны той своим царем, и никогда противления не кажут, а цари и святители их зело благочестивы и христианскую веру держат крепко и непреложно, и как приняли святое крещение, так доселе ни едан от них не бысть еретик; елицы же от простых людей хотя мало в вере поколеблются, таковых казнят заточениями дальними, а непокоряющихся и смерти предают – и ереси отнюдь никакой плодиться не допускают. По чужим государствам не ездят, точию в посольстве, боясь – да не от них навыкнув, в ересь впадут, потому и от своих государей воли о сем не имеют, из-за чего наветуемы и ненавидимы от многих стран, яко веру христианскую, яже приняли от Греков, держат крепко и непреложно и ереси отнюдь ненавидят. Ученых людей и дохтуров и философов имеют у себя мало, для того, что книжному писанию учены не все, только вельможи и воинские люди и купецкие лучшие люди, прочие же поселяне зело неученые и грубые и мятежные и ропотливые, и сего ради от государей своих попремпогу наказуемы и злые люди казнимы злыми смертьми.
Некогда же сих множество иесмысленное, превознесясь собою и грабления ради и самовольства, избраша себе некоего от злодеев в начальники и царем его именовавше, многую пакость государству своему сотворило и царство оное великое в великую беду и тщету привело. К ним же приставшие окрестные пароды, глаголемые Поляки, и Литва, и Немцы, много зла христианам сотворили и едва в запустение царство не положили; напоследок же паки все, совокупившись, инородных от себя изгнали и грады расточенные взяли назад.








