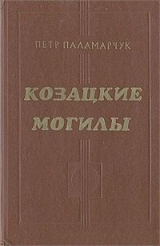
Текст книги "Козацкие могилы. Повесть о пути"
Автор книги: Пётр Паламарчук
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Сидючи в одной из московских обителей, Феодосий сумел хитро приласкаться к своим сторожам и, воспользовавшись послаблением охраны, бежал на Запад, где, по словам его учеников, «идяше учаше новое учение, и браком законным оженися, появ вдовицу жидовиню, и есть честен тамо и мудр учитель новому учению, познал истину паче всех, имеет бо разум здрав».
По краткому определению историка прошлого столетия Николая Костомарова, «учение Косого было отрицанием всего, что составляло сущность православия», – а именно, говоря словами тех же учеников ересиарха: «кресты и иконы сокрушати, и святых на помощь не призывати, и в церкви не ходити, и книг церковных учителей и жития и мучений святых не прочитати, и молитвы их не требовати, и не каятися, и не причащатися, и темианом не кадити, и на погребение от епископ и от попов не отпеватися и по смерти не поминатися».
Около 1555 года Феодосий, пройдя Псков, Торопец и Великие Луки, поселился со своей «чадью» – то есть приспешниками, вблизи Витебска в местечке со звучащим как определение именем «озеро Усо-Чорт». Здесь они, для пущего успеха прикрываясь видом правоверия, и взялись за распространение «нового учения» – проповедуя, что «не треба Троицу именовати», а «к Моисейскому закону обратитися и вместо Евангелия десятословие прияти», добавив ещё к тому признание равноценности всех вообще вер и отрицание всякой государственной власти.
Затем Феодосий с ближайшим наперсником своим расстригою Игнатием, тоже оженившимся на польке из местной секты противников Троицы – «антитринитариан», – были из-под Витебска изгнаны и ушли из Белоруссии во внутреннюю Литву. Конец жизни они провели на Волыни – о них, как ещё вполне живых противниках, упоминает в 1575 году в одном из своих писем известный Андрей Курбский, опрометчиво полагавший, что стали они врагами веры отцов ради своих «зацных паней». Конечно, дело обстояло куда основательнее и грозней – хотя по внешности и выглядело бытовым кощунством, когда в имении волынского шляхтича, обращённого Косым и Игнатием в «новую веру» из православия, они за кубками мальвазии, ведя речь на «польском барбарии», забавлялись над священными писаниями «с жартами и шутками».
Но ещё в Витебске в число «ближней чади» попал бывший белорусский диакон Козьма Колодынский, который, сменив исповедание на Феодосиево, переменил и имя на «Андрей». Вместе с учителем ушёл он впоследствии во внутреннюю Литву, сам в свой черед сделавшись проповедником новоизобретенной ереси, разнося её по Белоруссии, Польше, Галиции и Подолии. Он-то и сочинил подложное письмо «половца Смеры», а в 1567 году сообщил его арианскому историку Будзинскому. Намерением его было, подорвав доверие к преданию «Повести временных лет», расчистить в сердцах место для водворения новой сектантской веры.
Ещё Николай Карамзин в «Истории государства Российского», приведя ради наглядности строку писанного сущей абракадаброй «подлинника», указал на разительнейшие несообразности в хронографии – например, что «половцы сделались известны в России уже при внуках Владимировых» – и определенно заключил: «Не будем глупее глупых невежд, хотящих обманывать нас подобными вымыслами. Автор письма, – говорит он, – хотел побранить греков: вот источник!»
Вслед за ним дотошные знатоки разобрали подлог и двигавшие поддельщиком побуждения с учёной колокольни до косточки, – хотя, к прискорбию, и по сей день приходится натыкаться на такие вот рассуждения: «В числе русских духовных писателей значится Иоанн Полоцкий, врач и ритор великого князя Владимира Святославича, он ездил по разным странам для ознакомления с различными религиями. Не он ли оставил описание путешествия к волжским болгарам, «немцам» и грекам для выбора веры, которое впоследствии в переработанном виде вошло в состав «Повести временных лет»?» И ведь доносится подобное из уст отнюдь не посторонних, а мужа науки…
Но предметом нашего расследования служит всё-таки не отвлечённое знание, а живая нить происшествий. И в ней-то как раз Кузьма-Андрей Колодынский со своею подделкой служит прелюбопытнейшим связующим звеном между самородными отечественными еретиками и наступавшей тогда с Запада до чрезвычайности схожей ересью под древним именем
АРИАНСТВО,
родиною которого действительно была в четвертом веке нашей эры названная «Смерой» местом своего пребывания Александрия Египетская. Лжеучение ерисиарха Ария и его сочув-ственников состояло в отрицании богочеловечества Христа и вело тем самым к разрушению идеи Троицы; оно и было дважды осуждено на соборах в Никее и Константинополе, о которых рассказывали князю Владимиру при крещении греки.
Но вот на волне Реформации на католическом прежде Западе в шестнадцатом столетии возникло самое крайнее учение тех самых «антитринитариев», с которыми очень скоро свели дружбу в Речи Посполитой Феодосий, Игнатий, Козьма-Андрей и прочая «чадь». Первые семена арианства привёз на самую границу католического и православного миров из Италии Фауст Социн, по которому местные ариане весьма часто и именуются «социнианами». Впрочем, ересь эта настолько здесь укоренилась, что наряду с другими схожими названиями (например, «унитарии» – единобожники) приверженцы её нередко были известны как «польские братья».
К сожалению, приходится признать за российскими выходцами прямое первенство в распространении у соседей духовной порчи – Косой явился в Литве на два года раньше, чем пришло первое свидетельство об открытии антитринитарианства в Вильне, относящееся к 1557 году. Однако временной разрыв сей довольно-таки краток, и мнение польского хрониста о том, что «когда уже однажды брошены были семена лжеучения, чорт принёс московских чернецов, которые подлили того же яда», – также не лишено вероятия.
Западного извода еретики, путешествуя по духовной стране на самых окраинах протестантства, порою вовсе покидали душой христианские области, возвращаясь в ветхозаветный мир, к которому тяготело и учение Косого. Да и не мудрено было – мостом, соединяющим их, несмотря на множественные различия, было отрицание четырёх христианских столпов: Троицы, воплощения, искупления и воскресения.
Но всем таким невидимым парениям мысли был и зримый вещественный образ, который воплотился в судьбе польского города с опять-таки символическим названием
РАКОВ.
В шестнадцатом столетии богатый кальвинист Ян Сенинский, побуждаемый своею женой – ревностной антитринитарианкой Ядвигой Гноенской (тоже ведь неслучайная фамилия), закупил в Опоченском уезде Сандомирской области обширную полосу земли, представлявшую собой унылые неродящие песчаные пустыри, и основал на них в 1569 году местечко, названное по родовому гербу жены с изображением рака – «Раковым». Заселил он его приверженцами любезной супруге секты, поляками и иноземцами, – и вскоре многолюдная община, как обычно водится на первых порах в сообществах еретиков, достигла цветущего состояния. Заложенный на песке Раков сделался богатым городом с отлично обработанными полями и огородами, ремесленниками, промыслами и фабриками.
В 1575 году здесь была основана типография, для нужд которой завели и бумажное производство, а её издания стали распространяться не только в самой Польше, но достигали единомышленников в Германии и Венгрии. Год спустя состоялся первый антитринитарианский собор, постаравшийся объединить все течения противников Троицы. Постепенно среди всех них стало преобладать учение Фауста Социна, в особенности после переезда его в Польшу в 1579 году. Сын основателя Ракова Яков Сенинский состоял уже в числе чистых социниан, и раковская община заняла настолько главенствующее положение, что последователей Социна иногда так даже и звали просто «раковскими». И именно здесь ересь достигла своего полного развития, резко отодвинувшего её от всех прочих христианских церквей.
В 1602-м в Ракове была учреждена антитринитарианская академия, в которую, однако, привлекали учеников из семей всех исповеданий, в том числе католиков, протестантов и православных русских; учителя, преподававшие в ней, съехались со всей Европы, причем обучали не только наукам, но и ремеслам. Число учеников быстро росло, достигнув в самую счастливую пору трёх сотен человек из дворянских родов и семисот – из других сословий. Раков приобрел у сектантов громкое имя «Сарматских Афин» – и в 1630-е годы здесь можно было действительно встретить слушателей родом от Волыни до Эльзаса.
В 1638 году раковские академики разбили и опрокинули Распятие, стоявшее за городом. Дело получило нежелательную огласку, комиссия на месте происшествия обвинила ан-титринитарианских учителей и пасторов в подстрекательстве к святотатству; заседавший тогда в Варшаве сейм постановил закрыть раковские академию, типографию и молельню, а проповедников и профессоров осудил на «инфамию» – лишение чести – и изгнание.
Учителям пришлось покинуть насиженное убежище; за ними потянулись прочь остальные сектанты, продав свои дома за бесценок нахлынувшим на поживу купцам Моисеева закона, – и довольно скоро от великого имени Ракова осталась одна лишь тень. Наследовавшая владение им сестра Якова Сенинского Александра вернулась в католичество, выстроила к 1644 году каменный костёл в честь Петра и Павла и повесила над входом в него плиту с надписью, увековечивавшей поражение арианского нечестия и восстановление исповедания Святой Троицы.
Раков продолжал запустевать и постепенно обратился в жалкое, кишащее гешефтмахерами местечко. В конце прошлого столетия это было уже совершенно захолустное поселение с одноклассной школой, в которой состояло ничтожное число учащихся. «Глядя на песчаные пустыри Ракова и лачуги, – сетовал его летописец, – трудно поверить, что некогда здесь кипела торговля и процветали пауки. От прежнего благосостояния остался лишь заброшенный, опустелый костёл, одиноко стоящий на песчаных сугробах».
И не только ему одному приходило при этой мысли на память евангельское сказание о двух домах, рассказанное Иисусом:
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и возвеяли ветры и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое…»
Но падение Ракова не было ещё поражением противников Троицы в Польше и Западной Руси, ибо на защиту арианства встал чрезвычайно любопытный деятель, которого звали
АНДРЕЙ ВИШОВАТЫЙ.
Его отец Станислав был женат на единственной дочери Фауста Социна Агнесе, затем был диаконом раковской общины «польских братьев», а дядя Венедикт – один из основателей раковской академии. В 1619 году в эту школу был отдан и сам Андрей, где десять лет спустя он окончил курс среди наиболее успешных учеников. Молодой человек двадцати одного года от роду с детства готовился и в семье, и в академии к роли вожака.
Пробыв два года домашним учителем в доме люблинского воеводы, он затем предпринимает заграничное путешествие для довершения образования с несколькими товарищами по секте из числа польской и русской молодежи, среди которых были Александр Чаплич и Юрий Немирич – впоследствии тоже первые лица антитринитарианской истории. В Голландии они не только посетили университеты в Амстердаме и Лейдене, по и повстречали социнианина-земляка Христофора Арцишевского, отправлявшегося основывать сектантскую колонию в Америке и чуть было не завлекшего их с собою. Из Голландии перебрались в Англию, а оттуда во Францию, где побывали в знаменитой парижской Сорбонне.
Возвратясь в Польшу, Вишоватый продолжал трудиться на пользу секты. Когда случился раковский разгон, он явился к самому королю со словами защиты единоверцев. В 1640 году вместе с молодым социнианином Адамом Суходольским в качестве его воспитателя вновь отправился за границу; они объехали Германию, Францию, Бельгию и в 1642-м воротились в родовое местечко Суходольских Пески. Здесь Вишоватый по определению социнианского собора был поставлен пастором местной общины и, надеясь на покровительство воспитанника, уповал воссоздать раковскую академию. Но юный шляхтич неожиданно перешел в кальвинизм, и вожатый с паствой вынуждены были покинуть новые песочные владения; взамен, однако, постановлением социнианского церковного совета Вишоватый был в следующем же году назначен миссионером всей Украины.
Его давно уже звал сюда к себе Юрий Немирич, старый друг и спутник в заграничном путешествии, а нынче киевский подкоморий и владелец обширных «маетностей» – то есть имений – по обе стороны Днепра. Сам Немирич тоже был раковским выучеником, где по всей вероятности и свёл дружбу с Андреем Вишоватым. Теперь он встретил его на днепровском берегу и, переправляясь вместе с дорогим гостем в своё поместье Орёл, торжественно воскликнул: «Предание гласит, что апостол Андрей, соименный тебе, проповедовал в сих странах скифам и соседним народам: иди и ты со мной в эти страны и делай то же!»
Пожив некоторое время у одного доброго украинского приятеля, Вишоватый направился затем к другому – родственнику Немирича Чапличу, в его имение Киселин на Волыни. Именно здесь, у деда нынешнего владельца Кадиана Чаплича, ещё в 1575 году провели последние годы жизни сподвижник Феодосия Косого расстрига Игнатий, да скорее всего и сам ересиарх, в качестве наставников по борьбе с Троицей. Сей самый Кадиан Чаплич сделался родоначальником целой династии антитринитариев и, хотя сын его Фёдор ещё оставался православным, дружественные Вишоватому два старших внука Мартин и Юрий были уже на челе социнианской знати, пройдя обучение опять-таки в том же Ракове.
В 1640-е годы, о которых идет сейчас речь, семейство Чапличей имело во Владимир-Волынском уезде несколько соседствеиных владений. Юрий Чаплич со взрослым сыном Александром обладали родовым Киселиным; а в нескольких верстах от него, по другую сторону речки Стохид, находилось имение Вереск, где после смерти старшего брата Юрия – Мартина – проживали его сыновья Андрей и Александр, получившие образование за границей и подобно отцу беззаветно приверженные к своей секте. Беглые раковские профессора, постепенно скопившись в маетностях Чапличей, совместным тщанием возвели уже существовавшую социнианскую школу в, степень академии с открытием особого богословского курса для приготовления пасторов в Киселине и дочернего отделения в Вереске.
Прибыв на Волынь в 1644 году, Вишоватый оставался тут до 1648-го, попеременно проживая в принадлежавших Чапличам Киселине, Вереске, Галичанах, Шпанове и других местечках. Здесь же он вступил в брак с дочерью бересцского социнианского пастора Александрой Рункевской, и свадьба была отпразднована в Галичанах в доме Александра Чаплича по новоизобретённому аититринитарскому обряду.
Однако ближние католические бискупы Луцкий и Владимир-Волынский ещё в 1640 году призвали Юрия Чаплича с племянниками Андреем и Александром Чапличами-Шпановскими на суд, обвиняя в самовольном укрытии бежавших из Ракова академиков и распространении «декретами сеймовыми забороненной и за чертовскую деклярованной секты арианской». Посредством разнообразных судебных проволочек социнианам удалось отложить рассмотрение дела почти на четыре года, по все же в 1644-м последовал строгий трибунальский декрет о закрытии школ в Вереске и Киселине, причем Чапличи обязывались разрушить их здания, изгнать учеников вкупе с прочими еретиками, сверх того уплатить штраф в тысячу червонцев и представить в суд богохульствующих пасторов с учителями. Приговор довольно-таки трудно было привести в исполнение, поскольку почти все киселинские мещане поголовно состояли в числе антитринитариев, но наконец им пришлось выехать прочь, а за затяжку в повиновении на Юрия Чаплича насчитали уже десять тысяч червонцев и присудили к лишению чести. Вишоватого тоже вызывали в трибунал, обвиняя в публичном отправлении еретической службы, и чуть было не подвергли его «банниции» – изгнанию из отечества, но ловкому пастырю удалось-таки на сей раз снова вывернуться.
Ещё одним средоточием противников Троицы на Волыни было недалеко расположенное от Вереска – отчего их до сих пор иногда соединяют даже в одно по созвучию имен – сосед-него Дубенского уезда местечко
БЕРЕСТЕЧКО.
Некогда оно появилось на свет как предместье княжеского города Перемиля, разорённого татарами в 1241 году и с тех пор по нынешний век остающегося заурядным селом. Село Берестки Перемильской волости упоминается в грамоте великого князя литовского Казимира Ягеллоновича от 1 червня (июня) 1445 года; название оно получило, очевидно, по росшим вокруг большим берестяным лесам.
В XV – начале XVI столетий владели им Боговитины, происходившие, по всем вероятиям, от древнерусских князей Крокотков. В 1544 году в качестве приданого за одной из Богови-тиных Берестечко получил киевский воевода Фёдор Пронский – из южнорусских князей Пронских, ведших род от дома Святого Владимира. В 1547 году привилей великого литовского князя Сигизмунда I Августа даровал Берестечку магдебургское право, и оно стало городом.
Наследник Фёдора, луцкий староста Александр Пронский, будучи православным, посетил в 1595 году Рим, где отрекся от родительской «схизмы» и принял католичество. Этого ему показалось недостаточно, и по дороге домой он сделался уже кальвинистом, а вернувшись, отдал новым единоверцам католический костёл в Берестечке. Он же поселил здесь и ариан, а под конец жизни, около 1600 года, по некоторым сведениям и сам перешел в стан врагов Троицы. В XVII веке в Берестечке были уже антитринитарианская община и школа; около 1644 года здесь проживал и сектантский интендант Волыни Андрей Вишоватый.
Но сделалось оно тогда в истории знаменито отнюдь не этим, – а произошедшим подле него трагически-славным побоищем народной войны, зачинщика которой простолюдины называли запросто:
ХМЕЛЬ,
полное же имя было гетман Зиновий Богдан Хмельницкий.
После поражения поляков на Жёлтых Водах, а особенно под Корсунью, восстание казаков и поселян охватило разом Украину, Волынь, Подолье, Червонную Русь и Белоруссию. Государственное здание «королевской республики» потряслось до основания, и вся польская, а с нею ополяченная униатская и социнианская шляхта бежала в пределы коренной Полыни и Литвы. Бежала она не зря – война шла за отечество, свободу и веру; переметчивость шляхетского сословия привела к тому, что защитниками коренной народности в русских областях Речи Посполитой остались лишь «поп да хлоп» – и их победа ничего доброго предателям веры отцов не сулила.
Вместе со своими противниками-католиками в пламени казацкого гнева гибли и неприязненные для православных антитринитарии, ибо, как образно выразился Хмельницкий, «при сухих дровах горят и сырые». Особенно много социниан погибло при взятии казаками в сентябре 1648 года Староконстантинова, где укрывалась бежавшая с Украины шляхта. Даже в исконно польских Люблинской и Сандомирской областях восставшие чинили разгром общин «польских братьев»; сам Вишоватый вынужден был удалиться к границам Пруссии. Ходил слух, говорит его жизнеописатель, что парод с особенной жестокостью расправлялся с антитринитариями, видя в них «ариан, образоборцев и нехристей».
Наконец война достигла самой Вислы в Польше и Случи в Литве. По взятии Збаража Хмельницкий вступил в Галицию и осадил Львов. Главным защитником города оказался давний приятель Вишоватого и Немирича Христофор Арцишевский, который некогда приглашал их ехать в Новый Свет. Он действительно побывал в Южной Америке, где завоевал даже Рио-де-Жанейро, и возвратился со славою совершенных подвигов, благодаря которой его, открытого арианина, держали на коронной службе как отличного артиллериста. Он и на родине отчаянно ввязался в борьбу, однако навряд ли бы смог устоять, если бы гетман Богдан – ради находившихся во Львове «благочестивых», как он сам сказал, – не удовольствовался большим откупом. Затем казацкое войско двинулось к Замостью, чем освобожденные из осады социниане воспользовались для того, чтобы бежать ещё далее прочь. Вишоватый в это время обосновался близ Гданьска у родича Христофора – Яна Арцишевского.
И вот в 1651 году главные силы сторон сошлись на границе Галиции и Волыни, у верховья реки Стырь близ арианского местечка Берестечка. Польское «посполитое рушенье» – всенародное ополчение – прибыло сюда первым. Дожидаясь противника, в шатре короля Яна Казимира вели о нём различные речи, строили предположения и козни. Среди всех сохранившихся подлинных свидетельств об этих беседах для нас сейчас могут сослужить полезную службу два, хотя и в несколько необычном качестве – как
ПРОСЁЛОЧНЫЕ ДОРОГИ ИСТОРИИ,
по которым не прошел её главный путь; но ведь и отрицательный опыт заслуживает самого пристального внимания.
Личная война Хмельницкого с Полыней, превратившаяся затем волею судеб в народную, началась по довольно-таки житейскому для тех времен поводу. Наследственный хутор Богдана в его отсутствие разорил сосед Чаплинский, силой сведший с собою женщину – имени которой мы не знаем, – заменившую будущему гетману супругу по смерти первой жены Анны Сомковны. После того, как шляхтич обвенчался с нею по католическому обряду, даже польский король, к помощи которого прибег Хмельницкий в своём оскорблении, смог дать ему один совет: у тебя есть оружие – вот им и добейся правды!
Тот лукавому подущению внял – и отбил не только подругу, но и свободу и веру своему народу. А покуда многие годы продолжалась нелёгкая война, начавшаяся наподобие Троянской, семейная трагедия Зиновия-Богдана восприяла совсем не античный конец. Некто часовщик из Львова, имени-отечества коего мы опять-таки лишены (правда, на полях одной старой книги мне попалась против упоминания о нём отметка «Кройз» – по подтверждения ей пока не находится), – вошёл постепенно в такое доверие к часто отсутствовавшему из дому гетману, что тот наконец сделал его своим управляющим. Незадолго до битвы под Берестечком в казне казацкого войска открылось отсутствие одного бочонка с золотом, зарытого в укромном месте для будущих расчётов с союзниками. Хмельницкий послал расследовать пропажу сына своего от Анны Сомковны Тимоша; тот дознался до причастности к краже часовщика, а часовщик на пытке не только признал за собой воровство, по заодно показал и… о своём сожительстве с подругою гетмана. Тогда разъярённый Тимош повесил их вдвоём голых на воротах «в том положении, в котором они грешили», как пишет обстоятельный дворянин Святослав Освенцим в своём дневнике и затем добавляет: «Всё сие рассказал нам за ужином сам король, весьма потешаясь этим происшествием». Богдан узнал о нём 10 мая 1651 года и, по отзывам враждебных польских хронистов, от горя предался тому самому горькому хмелю, что дал некогда его предкам родовое прозвание…
Так начатая за собственное счастье война, ещё не окончившись, привела к гибели его от единокровной руки; затем погибли и сыновья – казнивший мачеху Тимош при жизни отца в Молдавии, а младший Юрий, не удержавший по смерти его гетманскую булаву, передался на польскую сторону, затем в руки турок, которые наконец и задушили его, бросив труп в реку Смотрич, текущую вокруг крепости-города Каменца-Подольского. Вместо счастья добыта с бою оказалась воля и слава, ибо воистину неложно говорит пословица, что человек предполагает, располагает же не он, а Он.
У польского короля Яна Казимира, царствование которого ждала впереди иная печать – безславия, случилась в шатре в эту пору и ещё одна занимательная потеха. Как записал в путевом журнале шведский агент Иоганн Майер со слов бывшего в Берестецком лагере брата начальника польской артиллерии Пшиемского, всего за семнадцать дней до битвы явились пред высочайшие очи представители арендаторов, корчмарей, перекупщиков и прочих того же разбора людей, да всем кагалом и «обратились к королю, прося, чтобы когда он поймает Хмеля живого, то позволил бы выдать его им. На вопрос: что же они хотят с ним сделать, ответили, что они освежуют подольского вола и зашьют Хмеля голого, как мать родила, в ту воловью шкуру, так, чтобы наружу высовывалась одна только голова. Будут его содержать в тёплом месте, кормить вкусной пищей и поить напитками, а в свежей воловьей шкуре заведутся хробаки (черви) и станут питаться его испражнениями. Начнут заживо поедать его тело, а чтобы он от вони и боли не умер быстро, то жизнь его будут поддерживать подольше наилучшими лекарствами, блюдами и питьем, покуда черви не проедят насквозь до самого сердца. А уж тогда сожгут его перед казаками на костре и пепел дадут выпить пленным в горилке». Весёлый король, как сообщает агент, опять-таки над этим очень смеялся, удивляясь подобной мстительности…
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что доведённые до отчаяния казаки тоже уличённого врага казнили жестоко – так, для примера, повествует следующий
ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ,
в котором речь идёт о том, как в охваченном восстанием городке украинские женщины врываются в «кляштор» – католическую обитель:
«– А ну, святые кнуры (хряки), вылазьте-ка из норы! – кричали жёнки. – Мы на вас при солнце подивимся. Но двери оставались закрыты.
– Открывайте! А не то сейчас до святого духа живьём отправим! – и стали кидать в окна зажжённые пучки соломы и сена.
Дверь наконец отворилась, и из здания, озираясь по сторонам, сторожко начали выходить поодиночке ксёндзы и чернецы.
– Сюда, бабоньки! вот они! – кричали женки. – Идите сюда! Акулька!.. Параска!.. Горнина!.. Узнавайте своих святых.
– Вот этот вот! – вскликнула худая молодичка с пылающими как в горячке глазами. – Не добром же он мне запомнился.
– Этот? – переспросила дородная тётка.
– Точно он!..
Наружу показался молодой ксёндз, высокий, но уже изрядно дебелый. Он вышел, понурившись и опустив долу очи. Не успели казаки оглянуться, а уж их женки обступили ксёндза со всех сторон, вмиг ободрали как липку, раздев донага, и завязали ему руки-ноги, чтобы особенно не ерепенился.
– Иди-ка сюда, Акулька! Пусть он тебе поцелует ту цац-ку, которой тогда силой добился, слизень! иди, иди!..
– Господь с вами, тёточки! Что вы меня на этакий срам зовете! Пускай сучку лижет!
– Вот это правда, так правда! Подавайте его сюда! Ну, чего зажурился и на людей не глядишь?! Выбирай любовниц!.. Подымай давай свою пику! – и били его в бритый подбородок так, что клацали челюсти.
– Мы тебе сейчас дадим отведать, каково наших девиц портить! Вот!.. Тащите его к молодому ясеню.
И повлекли всей толпою, подталкивая с боков.
Пилой подрезали на два локтя пенёк, расщепили его секирой и сбоку заколотили клин.
От страху ксендз побелел, как туман, и глаза его заволокло настоящею пеленой. Его схватили за туловище, подняли и усадили на пенек, выбивши разом клин. Нечеловеческий вопль перекрыл весь людской гомон.
– Ну, теперь у тебя пройдет охота чертям служить! – потешались женки, глядя, как он корчится, егозя на пеньке.
– Поддержите его, девоньки! А то ещё упадет, да и оторвётся – чем ему тогда к нам тулиться?! – поддразнивали другие.
А в соседнем месте та самая дородная тётка хозяйничала подле привязанного к столбу чернеца.
– Покрепче, потуже вяжите его, голубчика, да за плечи, а не за пояс – там-то как раз не нужно. Ось так! А теперь вот! – приговаривала она. – Да где же мазница?
Схвативши палку, она тряпкою обмазала грешное тело дегтем и подпалила, так что тот зверем заверещал на весь двор.
– Ничего, ничего, родимый. Поджаришься – вкусней будешь!
Некоторых же просто, не теряя время на выдумки, били до смерти чем ни попадя, – во всей округе кипела людская ненависть и праздновала пир мести…»
Впрочем, точнее сказал об этом тот же историк прошлого века Николай Костомаров; отец его был великороссом, а мать украинкой – так что зрение получалось в этом отношении вполне объёмным. «Южнорусс, – заметил он проницательно, – не мстителен, но злопамятен ради осторожности».
…Страшная сеча у Берестечка оказалась необыкновенно длинна: начавшись со среды Петровок – Петровского летнего поста – 18 червня (июня) по старому юлианскому календарю, она продлилась целых двенадцать дней и окончилась в самое разговенье июня 29-го. Разные историки на несхожие лады оценивают численное соотношение сил, в среднем называя количество польского войска в полторы сотни тысяч, а казаков и их долголетних союзников-предателей крымских татар в полторы или две. Так что налицо было примерное равенство, и вновь не число решало судьбу сражения.
Но здесь вместо прежних письменных свидетельств очевидцев лучше всего взглянуть на события в их поворотный час оком художественной словесности, которая, уважая каждую подлинную подробность, всё-таки способна дать наиболее многомерное изображение.
Вот как рассказал бы о Берестечке писатель доброй старой исторической школы:
ПОД ПЛЯШЕВОЮ.
Гей-гей! насколько видно глазу, раскинулись табором вереницы нагруженных возов, но в них ещё вливаются всё новые и новые. Ревут и рыкают волы, хищно ржут кони, покушаясь ринуться в битву, гукают и бранятся возницы. Мужчины седые и средовеки собираются кучками на подводах и под телегами, гомонят, звучно перекликаясь, и курят трубки. А кое-кто, не тратя даром времени, крепко заснул.
…Вот, раскинув ноги в лаптях, почивает кряжистый человечина с одной левой рукою; не мешают ему ни докучливые мухи, ни нестихающий людской говор. Кто-то, шедши мимо, зацепился за него и смачно выругался: «А ну, подбери уды!» – он и не моргнул. Рядом молодой погонщик, совсем безусый, одетый по-казачьи, в высокой шапке, накрывающей волосы, которые упорно пытаются из-под неё высунуться наружу. Брови тоненькие и длинные, словно девичьи; длинные пушистые ресницы окаймляют тёмно-серые озерки очей. А подымется – стан гнётся легко, как лоза. Он не встревает в чужие разговоры, но ежели кто в него назойливо вперивается – смущенно отводит взгляд; зато подолгу дивится на небо, иссиня-голубое и манящее своей бездонностью, так что заходится сердце, а по воздушному полю резвятся тучки, клокастые и проворные…
Покой нарушил внезапный лязг оружия: вблизи табора, встречаемые с великим почётом казаками, проехали двое полковников. Погонщики, даже те, которые спали, вскочили посмотреть на них; кое-кому оказался слышен и разговор.
– Многовато мы под Зборовом потеряли времени, поджидая того хана, – королевское войско уже преминуло болотистые места. Вот где было б ударить! – сказал один.








