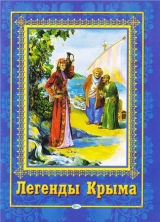
Текст книги "Легенды Крыма"
Автор книги: Петр Гармаш
Соавторы: С. Ли,Василий Стефанюк,Т. Кузина
Жанры:
Фольклор: прочее
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Монахи слышали звонкие женские голоса, общались со свежими наезжими людьми, которые вносили в их серую, обыденную жизнь много радости и оживления. А отец Самсоний знал, как никто, все грибные и ягодные места, умел занять приветным словом дорогих гостей и потому пользовался в семье помещицы особым расположением.
Уезжая из обители, гости оставляли разные съедобные припасы, которые монахи экономно сберегали для торжественного случая.
Так шли годы, и как-то незаметно для себя и других, молодая, жизнерадостная помещица обратилась в хворую старуху, а отец Самсоний стал напоминать высохший на корню гриб, не нужный ни себе, ни людям. Почти не сходил он со своего крылечка, обвитого виноградной лозой. И если воскресал в нем прежний любитель грибного спорта, то только тогда, когда приезжали по грибы старые отузские друзья.
И вот однажды, когда настала грибная пора, игумен, угощая отца Самсония после церковной службы обычной рюмкой водки, сказал:
– По грибы больше не поведешь.
– Почему?
– Еле ноги волочит. Не дойду, говорит, а был ей будто сон: в тот год, когда по грибы не пойдет, – в тот год и помрет. Сокрушается.
Жаль стало отцу Самсонию, не из корысти, а от чистого сердца; сообразил он что-то и стал просить:
– А вы ее, отец игумен, все-таки уговорите; грибы будут сейчас за церковью, в дубняке.
– Насадишь, что ли? – усмехнулся отец Николай и обещал похлопотать.
И действительно помещица, к общему удивлению, собралась и приехала со всей семьей в монастырь.
Обрадовались все ей, радовалась и она, услышав знакомый благовест монастырского колокола. Точно легче стало на душе и притихла на время болезнь.
– Ну вот и слава Богу, – ликовал, потирая руки, отец Самсоний.
– Отдохните, в церкви помолитесь, а завтра по грибы.
А сам с ночи отправился в грибную балку у лысой горы и к утру, когда еще все спали, успел посадить в дубняке, за церковью, целую корзину запеканок.
Только что кончил свои хлопоты, как ударил колокол. Перекрестился отец Самсоний и сел под развесистым дубом отдохнуть. От усталости старчески дрожали руки и ноги и колыхалось, сжимаясь, одряхлевшее сердце. Но светло и радостно было на душе, потому что успел сделать все, как задумал. Глядишь, с верхней скальной кельи спускается суровый схимник, старец Геласий. Побаивался отец Самсоний старца и избегал встречи с ним. Всегда всех корил Геласий и никто не видал, чтобы он когда-нибудь улыбнулся.
– Мирской суетой занимаешься. Обман пакостный придумываешь. Посвящение свое забыл. Тьфу, прости Господи, – отплюнулся старец и побрел в церковь.
Упало от этих слов сердце у отца Самсония, ушла куда-то светлая радость и не вернулась, когда очарованная старуха, срывая искусно насаженную запеканку, воскликнула:
– Ну, значит, еще мне суждено пожить. А я уж и не чаяла дотянуть.
– Да что с тобой, отец Самсоний, – добавила она, поглядев на Самсония.
– Нездоровится что-то. Состарился, сударыня.
И хотел подбодриться, как видит, возвращается Геласий из церкви, к ним присматривается. Остановился, погрозил пальцем.
– Где копал, там тебя скоро зароют.
Испугался Самсоний пророческому слову старца. Всегда сбывалось оно…скоро зароют.
– Да что с тобой сталось, отец Самсоний, – допытывалась помещица, уезжая из монастыря.
А к ночи отец Самсоний почувствовал себя так плохо, что вызвал игумена и поведал ему о своем тяжком нездоровьи, о том, как корил и что предрек ему Геласий и как неспокойно стало у него на душе.
– Ну, грех не велик, – успокаивал добрый игумен, – а за светлую радость людям тебя сам Бог наградит.
Пошел игумен к Геласию, просил успокоить болезнующего, но не вышло ничего. Отмалчивался Геласий и только, когда уходил игумен, бросил недобрым словом:
– На отпевание приду.
И случилось все так, как предсказал Геласий.
Недолго хворал отец Самсоний и почувствовал, что пришла смерть. Отсоборовали умирающего, простилась с ним братия, остался у постели один иеромонах и стал читать отходную.
Вдруг видит – поднялся на локтях Самсоний, откинулся к стене, а на стене висела вязка сухих грибов, и засветились они, точно венец вокруг лика святого. Вздохнул глубоко Самсоний и испустил дух.
Рассказали монахи друг другу об этом и стали коситься на Геласия, а Геласий трое суток, не отходя от гроба, клал земные поклоны, молился и шептал:
– Ушел грех, осталась святость.
Как понять – не знали монахи, и была между ними тревога и жуть.
Еще больше пошло толков, когда, придя на девятый день к могиле отца Самсония, – а похоронили его, по указанию схимника, в дубняке, за церковью, – увидели, что у могильного креста выросли грибы.
Повырывал их Агафангел иеродиакон, игумен окропил место святой водой, соборне отслужили сугубую панихиду.
А на сороковой день повторилось то же, и не знали, что думать, – по греху ли, по святости совершается.
Пошли у монахов сны об отце Самсоний; стали поговаривать, будто каждую ночь вырастают на могиле его грибы, а к последней звезде ангел Божий собирает их, и светится все кругом.
Стали замечать, что если больному отварить гриб, сорванный вблизи могилы, то тому становится лучше.
Так говорили все в один голос, и только Геласий схимник хранил гробовое молчание и никогда не вспоминал об отце Самсонии.
И вот, как раз в полугодие кончины Самсония, случилась с Геласием беда. Упал, сходя с лестницы, сломал ногу и впал в беспамятство. Собрались в келье старца монахи – не узнал никого Геласий, а когда игумен хотел его приобщить, оттолкнул чашу с дарами.
Скорбел игумен и молил Бога вразумить старца. Коснулась молитва души Геласия, поднялись веки его, принял святые дары, светло улыбнулся людям и чуть слышно прошептал:
– Помните грибы отца Самсония. То были святые грибы.
После сожженного в 1866 году татарами игумена Парфения и в течение последующей четверти века настоятелем Кизильташской киновии был игумен Николай, о котором все окрестное население доселе вспоминает с благоговением, как о светлом и гуманном человеке, отличавшемся необыкновенной добротой и отзывчивостью. Отец Самсоний жил в киновии в шестидесятых годах прошлого столетия. Эпизод с грибами, украшенный впоследствии легендарными подробностями, имел место в действительности.
Мыс Ильи
Чем ближе к Ильину дню, тем ниже нависают облака, душнее становится воздух и чаще ночные грозы.
А в Ильин день потемнеют облака, забегают змеи молний и треском громовых раскатов напомнит о себе пророк.
Беда попасть тогда в море. Хорошо, если только сорвет снасти, Иной раз закружит судно, швырнет на скалу и щепками выбросит у мыса Ильи.
Помолись, моряк, на церковь пророка – не случилось бы несчастья.
А видна та церковь с большого расстояния, хотя и не велика она. Такая, какие строили в древние времена.
В те времена, когда верили в Верхнюю силу и знали свою слабость перед Ней. Хотя и были смелыми, пожалуй, смелей, чем теперь.
Не выдумали люди, что Илья, сын Тамары, построивший церковь, в открытое море ходил на дощанке.
А когда стал богатым и приобрел свой корабль, в самую страшную бурю не боялся оставить гавань и в декабрьский шторм поднимал паруса.
Но раз случилось выйти под пророка Илью.
Освирепело в тот день море, озлились небеса и попрятались люди в жилища. А Илья Тамара поднял сразу флакос и тринесту и белой чайкой унесся в волну.
Кто рискнул бы сделать это теперь? Разве только сумасшедший.
Далеко ушел Тамара в море, не стало видно берегов. Не знал он опасности и не верил в рыбачью сказку об Илье.
– И молния, и гром от облаков.
И когда подумал так, накатился на судно вал выше мачты намного мер.
– Васта темони, клади руль, – крикнул Тамара рулевому, но оторвался руль, и понеслось судно по воле ветра к береговой скале.
Понял Илья, что близка гибель, и в испуганной душе шевельнулось сомнение, не карает ли его пророк за неверие.
И в ту же минуту пронесся с севера на юг громовой раскат, и над мысом, где теперь церковь Ильи, в пламени и тысячах искр опустилась огненная колесница.
– Илья! – воскликнул Тамара, и подумал в душе: – На том месте, где видел его, построю ему церковь, хотя бы пришлось для того продать корабль.
Матим бистин, своей верой клянусь в том.
Не успела остыть эта мысль, как примолкла гроза, и ветер с берега погнал волну в море, а с нею и Тамарин корабль.
– Васта темони, – прозвучал над Тамарой чей-то грозный голос, и увидел себя Тамара стоящим у руля, который, подплыв к судну, стал на свое место.
К вечеру достиг Тамара Сугдеи, сдал товар и, нагрузившись новым, вернулся в Кафу.
Не рассказал, однако, никому о случившемся, пожалел продать корабль и решил заработать прежде побольше денег и тогда построить храм.
Сначала решил так, но вскоре передумал.
– Не может быть, чтобы все это случилось. Просто приснилось. Колокитья!
И, успокаивая себя так, он со временем забыл о своей клятве.
Все шло хорошо; за десятки лет ни один из кораблей его не потерпел крушения, и Илья Тамара стал богатейшим купцом Кафы.
Однако в душе, помимо воли, жило что-то, что напоминало о случае в молодые годы. Не любил Тамара смотреть на гору, где было ему видение, и избегал выходить в море под Ильин день.
Но однажды, незадолго до этого дня, пришлось ему возвращаться от Амастридских берегов.
– Да будет благословенно имя Георгия, патрона той страны!
Попутный ветер резко нес корабль и вдали стали уже синеть Таврские горы.
И вдруг сразу стих ветер, точно смело его с моря, и корабль попал в мертвый штиль.
Больше всего боятся его моряки, но наступал Ильин день, когда по всему Понту носится ветер, и Тамара спокойно лежал на корме.
Он подсчитывал барыши и, закончив подсчеты, улыбнулся торговой удаче.
– Не нужно быть знатным, не нужно быть ученым, чтобы хорошо жить. Нужно только быть умнее других, чтобы пользоваться их глупостью. Алю пулунде грамата, алю полите гносис!
– Скверная мысль, – сказал кто-то в душе его, и вздрогнул Тамара.
Поднялся с ложа, посмотрел на берег. Оттуда медленно надвигались тучи, и зарница сверкала зловещим глазом.
Побежала по морю предветренная рябь, за нею береговик погнал волну.
Корабль поднял все паруса и взял нос на восток, где была Кафа, но, попав в странное течение, не мог далеко уйти.
А ветер быстро крепчал, недобрым шумом гудело морс, воздух шипел и свистел, завывая.
Не выдержала порыва главная мачта и обломилась.
– Плохо дело!
И в последнем сумеречном свете увидели гору, где когда-то случилось видение.
Вспомнил о нем Тамара и смутился духом. Настала темнота, нельзя было видеть своей руки; ливень заливал потоками палубу; волна била через борта и в трюмах появилась течь. Истрепались в клочья штормовые паруса; не слушался корабль руля, как гнилая нитка, оборвалась якорная цепь, когда нагнало корабль к берегам и попытались бросить якорь.
– Одно чудо может спасти!
И молили люди о чуде; умоляли Илью смягчить гнев; обещали весь первый улов отдать на свечу ему.
А Тамара упал на колени и в сердце своем поклялся выполнить, что обещал когда-то в своей юности.
Огненная молния рассекла небо, опалила воздух, озарила корабль и скалы, среди которых он носился; в последнем зигзаге скользнула по мачте и загорелась сиянием впереди судна.
Кто-то грозный и гневный поднял над кораблем руку. Сверкал молниями его взгляд; в бешеном порыве рвалась борода; готовы были открыться уста для гибельного слова.
– Элейсон имас, Кирие! Помилуй нас!
Опустилась рука проклятия и указала погибавшим путь спасения.
В стороне зажглись кафские огни и… потухло сияние.
Как убитые, заснули дома корабельные. Не заснул только старик Тамара. Стоял у городского храма и шептал слова тропаря:
– Почитающих тебя, Илья, исцели.
Стоял всю ночь и утром нашли его на том же месте. Не узнали его, так изменился он. Покоем величия дышало его. лицо и близостью Неба светились глаза.
И когда через год иконный мастер писал образ пророка Ильи для нового храма, который построил на горе Тамара, это с него он написал лик пророка.
Оттого не видно гнева в пророческих глазах и нет страха, когда смотришь на икону.
Умер Тамара глубоким стариком и под конец дней своих избегал говорить о пережитом, но люди читали об этом в чистом взоре его.
Ибо взор души человеческой проникает часто глубже, чем подсказывает речь.
Солдаткин мост
Теперь пройти ночью не страшно, кругом все застроено. А раньше был пустырь и над обрывом стояла кузница, а в кузнице жил цыган-кузнец.
Бил молотом кузнец по наковальне, летели в стороны искры. Скалил зубы цыган, хохотал.
– Хватить по голове, мозги, как искры, разлетятся.
– А, чтоб тебе! – говорили люди и избегали без надобности ходить к кузнецу.
Недалеко жила молодая солдатка. Муж ушел на войну в Туретчину, и два года не было вести о нем.
– Верно, убили, а не то – так просто помер.
Приглянулась солдатка цыгану, стал он к ней захаживать. Когда орехов, когда чего другого носил.
Уклонялась солдатка от ласки и не хотела, чтобы цыган вовсе перестал к ней ходить.
Вертелась, вертелась и забеременела.
– Что будем делать, если солдат вернется? – боялась солдатка.
А цыган хохотал:
– Ребенка под мост – и концы в воду. Чего, дура, робеешь.
И пришло время родить. Мучилась, мучилась солдатка и родила девочку.
Беленькую, не на цыгана, на солдата похожую.
– Не моя дочь, – верно, с кем блудила.
Толкнул женщину ногой и унес девочку к мосту; привязал к ней камень и швырнул в место поглубже.
И ударили в это время в ночной пасхальный колокол.
Вскрикнуло дитя и замолкло.
– Куда ты дел девочку, – допытывалась солдатка. – Хоть бы покрестили ее, нехристь ты этакий!
– Покрестил сам ее, – хохотал злее прежнего цыган.
Недолго пожила солдатка и умерла; все хотела позвать свою доченьку, но не знала, как позвать, потому что не было у нее христианского имени.
Прошло много лет. Из молодого цыган старым стал, и таким неприятным, что не дай Бог на ночь встретится. Не заснешь потом.
В народе дурно говорили о нем. Было много обид всяких. И один парень не стерпел, хватил его молотом по голове и разлетелись мозги, как искры от наковальни.
А вскоре развалилась и цыганская кузница.
Судили парня и засадили в острог. Но в ночь под Пасху зазевался надзиратель, и убежал парень из острога.
Убежал и спрятался под мост.
Искали – не нашли.
– Убежал, видно, в горы.
Лежит парень под мостом и слышит, как ударил пасхальный колокол.
Перекрестился парень.
– Христос воскресе!
И почудилось ему, будто из тины за мостом кто-то ответил:
– Во истину.
Примолкнул парень, боялся шевельнуться. Стих ветер выглянула из-за туч луна, осветила местность.
И увидел парень, как вместе с туманом поднялась от ручья девушка в белом и потянулась к нему.
– Кузнецова дочь я, имени нет у меня, потому что некрещеной бросили. Мучаюсь я. Похристосуйся со мной, умру я тогда христианкой. Так сказано мне.
Поднялись у парня волосы дыбом, и бросился он бежать от моста. И сколько времени бежал – не помнил, и куда бежал – не соображал.
Очнулся в острожной больнице, рассказал все, что случилось с ним. Только никто не поверил, а за побег дали ему сто плетей.
Однако, хоть и не поверили, все же стали говорить один другому о некрещеной дочери солдатской, и под следующую Пасху никто не пошел через мост.
Разговелся острожный надзиратель и стал хвастать, что пойдет на мост и ничего с ним не случится.
И пошел.
Идет, а у самого сердце бьется. Кто шел позади – поотстал, а впереди собака воет, и пасхальный звон похоронным кажется,
Стал подходить к мосту: не мост, а снежная белизна.
Присмотрелся и видит – красавица стоит, волосы длинные распущены.
Стоит в одной рубахе, дрожит, руки вперед простирает.
– Пошли, говорит, ко мне такого, чтобы еще ни с кем не похристосовался. Похристосуется со мной, помру христианкой, и мать на место в гробу ляжет.
Не слушал дальше надзиратель, убежал к себе в острог и со страха запер сам себя в одиночную.
И с тех пор стало всем известно, что каждый год в пасхальную полночь ищет девушка у моста, чтобы кто-нибудь похристосовался с нею, с первой. И не может найти такого храброго, чтобы не побоялся спасти ее, хотя бы пришлось самому умереть.
Застроился город; кругом моста выросли дома. Живут в них новые люди и не знают, что случилось некогда у моста,
Только одна старуха помнит, как рассказывала ей о несчастной солдатской дочке бабка ее и будто бы, рассказывая, добавляла:
– Все же дождалась несчастненькая. Вернулась с чужбины душа солдатская, возвратился старый солдат взглянуть на свои родные места. Под Пасху, в самую полночь вступил он на мост.
Бросилась к нему девушка и рассказала все. Не смутилась душа солдатская. Храбрость с жалостью в ней вместе жила.
– Христос воскресе!
И трижды похристосовался солдат с дочкой солдатской.
И успокоились оба навеки.
Карадагский звон
Капитан Яни лежит у костра, смотрит на гору.
– Как камбала, капитан Яни?
– А, чатра-патра… Плохо, неплохо! Куда идешь?
– В Карадаг. Там, говорят, в сегодняшнюю ночь слышен звон.
– Энас нэ аллос охи. Один слышит, другой – нет.
– Откуда звон? Из Кизильташа?
Капитан Яни отворачивается, что-то шепчет.
– Оттуда, – показывает он на море. – Может быть, даже из Стамбула.
Мы некоторое время молчим, и я смотрю на Карадаг.
Отвесными спадами и пропастями надвинулся Карадаг на берег моря, точно хотел задавить его своей громадой и засыпать тысячью подводных скал и камней.
Как разъяренная, бросается волна к подножью горного великана, белой пеной вздымается на прибрежные скалы и в бессилии проникнуть в жилище земли сбегает в морские пучины.
Капитан Яни подбрасывает в костер сушняку и крутит папироску.
Я ложусь на песок рядом с ним.
– А ты сам слышал?
– Когда слышал, когда нет.
Темнеет. Черной дымкой подернулся Отузский залив; черной мантией укрывает Карадаг глубины своих пропастей.
Капитан Яни медленно говорит, вставляя в речь греческие слова, и я слушаю под шум прибоя рассказ старого рыбака.
Слушаю о том, как под Карадагом был некогда город, и в залив входили большие корабли из далеких стран.
– Хроня, хроня! Как бежит время.
И как там, где ползет желтый шиповник, был прежде монастырь.
Бедный монастырь; такой бедный, что не на что было купить колоколов.
– Какомири! Какомири! Бедняки были.
Тогда в Судаке жил Стефан.
– Агиос Стефанос.
И просили монахи святого Стефана помочь им, но был беден Стефан и не мог помочь.
Был беден, но смел, не боялся сказать правду даже знатным и богатым.
Не любили его за это царь и правители, и вызвали на суд в Стамбул.
В самую пасхальную ночь увозили его на корабле. Плыл корабль мимо Карадага, и вспомнил святой монахов. Вспомнил и стал благословлять монастырь.
А в монастырь к заутрени прибыл из города Анастас астимос, Анастас правитель.
Знали и боялись Анастаса на сто верст кругом.
– Фоверос антропос! Никому не давал пощады.
В те времена в стране был обычай – кто под Пасху оставался в тюрьме – того отпускали на свободу.
Не хотел Анастас исполнить обычай, велел потуже набить колодки заключенным.
– Ти антропос! Вот был человек!
Узнал об этом игумен и не велел начинать службы.
– Ти трехи? В чем дело, – спрашивал Анастас монахов.
Боялись монахи сказать, но все-же сказали.
– Ох, строгий игумен. Не начнет, если сказал. Отпусти людей из тюрьмы.
Вскипел гневом Анастас, схватился за меч.
– Не идет в церковь, так я сам пойду за ним.
Выше церкви было кладбище. Еще теперь можно найти могилы.
Только подошел Астимос к кладбищу – зашевелились могильные плиты.
Отшатнулся Анастас, опустил меч: отнялись у него ноги; не смог идти дальше.
– Анастаси каме! Анастас, сделай, – сказал чей-то голос.
Может быть, было не так, но так говорят.
– Пиос ксеври! Кто знает!
Подошел к Анастасу игумен, упал перед ним на колени Анастас, обещал сделать по обычаю.
Открыл игумен церковную дверь и запели монахи.
– Христос анести ек некрон.
Дошел голос их до Стефана и ответил он:
– Алифос анести. Воистину воскресе!
Но не услышали монахи, а по молитве святого донесся до них откуда-то перезвон колоколов.
– Тавма! Чудо случилось, и объяснил игумен людям это чудо.
С тех пор, сколько ни прошло лет, всегда в ночь на Пасху слышен в Карадаге Стефанов звон.
Точно издалека приходит, точно вдаль уходит.
* * *
Догорел костер; замолчал старый рыбак.
Должно быть пришла полночь. Сейчас зазвонят. Прислушался капитан Яни.
– Акус? – Ты слышишь?
И мне показалось, что слышу.
Кетерлез
Кетерлез омыл лицо водой, посмотрел в ручей.
– Сколько лет прошло, опять молодой. Как земля, – каждый год старой засыпает, молодой просыпается.
Посмотрел вокруг. Синим стало небо, зеленым лес; в ручье каждый камушек виден.
– Кажется, не опоздал, – подумал Кетерлез и стал подниматься в гору.
У горы паслась отара. Блеяли молодые барашки, к себе звали Кетерлеза.
– Отчего в этот день коней, волов не трогают, не запрягают, а нас на шашлык берут? – остановились, спрашивая, овцы.
Подогнал их чабан: – Нечего даром стоять.
По тропинке ползла змея.
– Кетерлез, верно, близко, – подумал пастух.
– Когда Кетерлез молодым был, с коня змею копьем убил. С тех пор, когда он идет, всегда змея от него убегает.
Поднял чабан камень, чтобы убить змею. Крикнул ему Кетерлез:
– Лучше ложь в себе убей, чем змею на дороге. Не коснулось слово сердца чабана, и убил он змею.
– Хорошо вышло, Кетерлез будет очень доволен.
Вздохнул Кетерлез; посмотрел вниз.
Внизу, по садам, под деревьями, сидели люди, готовили на шашлык молодого барашка.
– Ай, вкусный будет, когда придет Кетерлез, есть чем угостить.
– Может быть прежде ходил, теперь больше не ходит, – сказал один.
Засмеялся другой.
– Наш Хабибула крепко его ожидает. Думает, покажет ему ночью Кетерлез золото; богатым будет.
Сидел Хабибула на утесе, молчал.
– Отчего молчишь, Хабибула? Старым стал, прежде всегда хорошую песню пел.
И запел Хабибула:
– Ждем тебя, Кетерлез, ждем; прилети, Кетерлез, к нам сегодня; принесись на светлых струях; заиграй музыка сердца. Чал, чал, чал!..
Прислушался Кетерлез, подумал:
– Вот золото ищет человек, а золото – каждое слово его.
Протянул руки к солнцу. Брызнули на землю лучи. Сверкнул золотом месяц на минарете.
Пел Хабибула:
– Золотой день пришел к бедняку, – Кетерлез не обидит людей… Чал, чал, чал!..
Пел и вдруг затих.
Не любит его Кэтыджэ, хоть говорит иногда, что любит. Нужен ей другой, нужен молодой, богатый нужен.
– Богатый – значит умный, – говорит она. – Был первый муж богат. Хочу, чтобы второй еще богаче был. Все сделаю тогда, все будет в руках.
Смотрит Хабибула вперед, не видит, что близко, что далеко – видит, где другие не видят. Ищет глазами Кетерлеза среди гор и леса. Верит, что придет он. Обещает поставить ему на старом камне свечу из воска, бал-муму.
Понял Кетерлез, чего хочет Хабибула, покачал головой.
– Те, что пьют и едят по садам, счастливее этого.
Пили и ели люди по садам, забыли о Хабибуле и Кетер-лезе.
Не заметили, как пришла ночь. Зажег Хабибула на старом камне свечу, ждет Кетерлеза.
Долго ждет.
Поднялась золотая луна; услышал шорох в кустах; заметил, как шевельнулись ветки, как осветил их дальний огонь.
– Ты хотел меня, – сказал голос. – Вот я пришел. Знаю зачем звал. Молодым был, только песню любил, старым стал – женщину хочешь. Для нее золото ищешь.
– Для нее, – сказал сам себе Хабибула.
– Слышишь, Хабибула, как шумит ручей, молодой ручей; как колышется трава, свежая трава. Только старый ты – не услышишь завтра.
– Слышишь, как твое сердце бьется, хочет успеть за другим, молодым. Не успеет только.
– Имел в себе золото ты, было легким оно. Из земли захотел? А поднимешь?
Не слушал дальше Хабибула; бросился в кусты, откуда был свет.
– Не опоздать бы.
Бежал к свету по лесу, рвал о карагач одежду, изранил себя.
– Теперь близко. Слышал сам голос Кетерлеза. В двух шагах всего.
И увидел Хабибула, как под одним, другим и третьим кустом загорелись в огне груды золота.
Подбежал к ним; брал руками горящие куски, спешил спрятать у себя на груди. Плакал от радости и страха, звал прекрасную Кэтыджэ.
Тяжело было нести. Подкашивались ноги, не помнил, как добрался до деревни.
Не было даже сил постучать к Кэтыджэ. Упал у порога.
– Кетерлез дал много золота. Все твое. Принес тебе, моя чудная.
Шли тихо слова, не долетали до Кэтыджэ. Спала крепко она, обняв руками другого.
Не нужен ей больше Хабибула.
И умер Хабибула.
Хабибула – ольдю.
Может быть, лучше, что умер, не взяв в руки прекрасного.
Если бы взял, может быть оно перестало бы быть таким. Кто знает.
* * *
Уходил Кетерлез из тех мест, думал:
– Ушел с земли Хабибула – певец, ничего, придет на его место другой. Пройдет одно лето, придет другое. Оттого никогда не умрет Кетерлез.
Карасевда
– Облако, если ты летишь на юг, пролети над моей деревней, скажи Гюль-Беяз, что скоро вернется домой Мустафа Чалаш.
Пролетело облако, не стало видно за тюремной решеткой.
Целую ночь работает Мустафа Чалаш, чтобы разбить кандалы. Только “не там ломится железо, где его пилят”.
– Демир егелеген ерден копалмаз.
Лучше не спеши домой, Мустафа. Подкралась Карасевда, черная кошка и ходит близко от твоего дома.
Но бежал Мустафа Чалаш из тюрьмы и скрылся туда, где синеют горы.
Долго шел лесом и знал, что недалеко уже Таракташ, да трудно идти в гору, устал.
А позади звенит колокольчик, догоняет, – едет становой.
Спустился Мустафа Чалаш в Девлен-дере, Пропалую балку, как зовут ее отузские татары.
Если нападает на кого Карасевда, непременно придет сюда, чтобы повеситься.
Лег Мустафа Чалаш под дерево. Ветра нет, а каждый лист дрожит, шевелится, говорит что-то.
Может быть, что осень пришла; может быть жалеет человека, который пришел сюда.
Было жарко. Закрыл глаза Мустафа Чалаш и пришел к нему странный сон.
Сидит, будто, старый козский Аджи-Мурат у себя перед домом, пьет холодную бузу, ждет невесту. Едет свадебный мугудек и четыре джигита держат над ним на суреках шелковую ткань.
Остановился мугудек. Бросил Аджи-Мурат джигитам по монете. Опустили джигиты золотые суреки, крикнули: айда! Подхватил на руки ткань невестин дядя, завернул в нее невесту и унес в дом.
Заиграли чалгиджи, изо всей силы ударило думбало.
– Айда! – крикнули джигиты, и Мустафы Чалаша невеста стала женой старого Аджи-Мурата.
Мяукнула в кустах черная кошка. Вздрогнул Мустафа Чалаш, проснулся.
Смотрели на него с дерева злые глаза. Не видел их Чалаш; только ныло сердце.
Совсем близко подкралась Карасевда.
Схватил Мустафа Чалаш дорожную сумку, выбрался из балки. Увидел свои горы: Алчак-кая, Куш-кая… Легче стало.
Садилось солнце, спадала жара, по всему лесу неслись птичьи голоса. Запел и Чалаш.
– Алчак-кая, Куш-кая, Сарындэн-Алчак… Эмир Эмирсы бир кызы памукшан имшак.
– Слаще меда, тоньше ткани, мягче пуха Эмир Эмирисова дочь…
Завтра день под пятницу; завтра ночью пойдет Мустафа Чалаш под окно к невесте, скажет Гюль-Беяз “горячее слово”.
Скажет: – Любимая, сам Аллах назначил так, чтобы я полюбил тебя. Ты судьба моя; моя тактыр. Говорит тебе жених твой.
И ответит Гюль-Беяз:
– Ты пришел, значит цветет в саду роза, значит благоухает сад.
И расцветет сердце Мустафы, потому что любит его та, которая лучше всех.
Пришла ночь, зажглись звезды, зажглись огни по долине.
Вот бугор: за ним дом старого Чалаша.
Сидит на бугре нищий цыган, узнал его.
– Вернулся?
Подсел к нему Мустафа.
– Нэ хабер? Что нового?
– Есть кое-что…
Помолчал немного.
– Вот скажи, какой богач Аджи-Мурат, а на свадьбе двух копеек не дал.
– Какой свадьбе? – удивился Мустафа.
– Гюль-Беяз взял, двух копеек не дал.
Вскочил на ноги Мустафа Чалаш, сверкнул за поясом кинжал.
– Что говоришь?
Испугался цыган.
– Спроси отца.
Как в огне горел Мустафа Чалаш, когда стучал в дверь к отцу, и не узнал старик сына, принял за разбойника.
Испугался еще больше, когда понял, что сошел сын с ума от любви к Гюль-Беяз.
Не ночевал дома Мустафа Чалаш; разбудил двух-трех молодцов, позвал в Судак ракы пить.
Разбили молодцы подвальную дверь, выбили дно из бочки, – пили.
Танцевал в вине Мустафа Чалаш, танцевал хайтурму, всю грудь себе кинжалом изранил, заставлял товарищей пить капли крови своей, чтобы потом не выдали.
А на другой день узнали все в Судаке и Таракташе, что вернулся Мустафа Чалаш домой и что тронула его Карасевда.
Дошел слух до Коз, где жил старый Аджи-Мурат с молодой женой. Испугался Аджи.
– Чего только не сделает человек, когда тронет его Карасевда.
Запер Гюль-Беяз в дальнюю комнату и сам боялся выйти из дома.
Но раз пошел в сад, за деревню и не узнал своего места. Кто-то срубил весь виноградник.
Догадался Аджи-Мурат кто, и послал работника заявить в волость.
А ночью постучал работник в дверь.
Отворил Аджи-Мурат дверь; не работник, сам Мустафа Чалаш стоял перед ним.
– Старик, отдай мою невесту.
Упал перед ним аджи: – Не знал я, что вернешься ты. Теперь не пойдет сама.
– Лжешь, старик, – крикнул не своим голосом Мустафа.
– Позови ее сюда…
Попятился аджи к дверям, заперся в жениной комнате, через окно послал будить соседей.
Сбежались люди.
Ускакал Мустафа Чалаш из Коз, а позади него на седле уцепилась черная кошка.
Теперь всегда она с ним. По ночам разговаривает с нею Мустафа, спрашивает совета.
И подсказала Карасевда пойти в Козы, к Гюль-Беяз, потому что заболел старик и не может помешать повидать ее.
Удивился нищий цыган, когда отдал ему Мустафа Чалаш свой бешмет, а себе взял его отребье.
– Твои лохмотья теперь дороже золота для меня.
– Настоящая Карасевда. Совсем голову потерял, – подумал цыган.
Одел Мустафа Чалаш цыганскую одежду, взял в руки палку, сгорбился, как старик, и пошел в Козы просить милостыню.
Кто хлеба, кто монету давал. Пришел и к Аджи-Мурату. Лежал больным Аджи-Мурат и сидела Гюль-Беяз одна на ступеньке у дома. Протянул к ней руку Мустафа Чалаш и положила ему Гюль-Беяз в руку монету. Не узнала его.
Сжалось сердце, зацарапала Карасевда.
– Мустафу Чалаша забыла?
– Атылан иок гери донмез.
– Пущенная стрела назад не возвращается, – покачала головой Гюль-Беяз.
– Значит, забыла, – крикнул Мустафа Чалаш и бросился к ней с ножом.
Но успела Гюль-Беяз уклониться и скрылась за дверью.
И пошли с тех пор на судакской дороге разбои. Не было ночи, чтобы не ограбил кого-нибудь Мустафа Чалаш. Искали его власти; знали, что где-то близко скрывается и не могли найти.
Потому что нападал Чалаш только на богатых и отдавал награбленное бедным.
И скрывали его таракташские татары, как могли.
– Все равно скоро сам уйдет в Девлен-дере.
И ушел Мустафа Чалаш в Девлен-дере.
В лохмотьях пришел; один пришел, бросили его товарищи, увидели, что совсем сумасшедшим он стал. Уже не только ночью, а целыми днями разговаривал Чалаш с черной кошкой. Желтым стал, не ел, глаза горели так, что страшно становилось.
Пришел в Девлен-дере и лег под то дерево, где отдыхал, когда бежал из тюрьмы.
Заснула скала под синим небом, хотел заснуть и Чалаш. Не мог только. Жгло что-то в груди, ловили губы воздух, не мог понять, где он.








