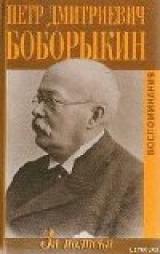
Текст книги "За полвека. Воспоминания"
Автор книги: Петр Боборыкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 46 страниц)
Я старался наверстать пробел в моих поездках по Европе и изучал Берлин довольно старательно, бывал везде, причем Бакст был часто моим чичероне, проводил вечера и в разных театрах, которые в общем находил гораздо плоше венских; и королевский «Schauspiel-Haus», где, однако, были такие таланты, как старый Дюринг и ingenue Буска (впоследствии любимица петербургской публики), но в репертуаре и в тоне игры царила рутина. Выдающейся частной драматической сцены (вроде теперешнего «Deutsches Theater») тогда в Берлине не было, а область комической игры ушла вся в Posse, где были два-три даровитых комика-буффа вроде Неймана.
Доктор Б., видавшийся со мною часто – так же, как и нижегородец У., – познакомил меня с ассистентом Вирхова, добродушным малым, которому Б. дал уже прозвище «щенок» за его несуразные движения. С этим «щенком» мы ходили смотреть мюнхенскую трагическую актрису, тогда одну из самых талантливых на героическом амплуа.
В университете я бывал на лекциях Моммсона и Гнейста. Вирхов читал микроскопическую анатомию в клинике. Меня водил на его лекции Б. И раз при мне случилась такая история. Б. сидел рядом с ассистентом Боткина, покойным доктором П., впоследствии известным петербургским практикантом. Они о чем-то перешепнулись. Вирхов – вообще очень обидчивый и строгий – остановился и сделал им выговор.
Читал Вирхов без всякого особого преподавательского таланта, а в Палате я его не слыхал. Я даже не помню, был ли он уже тогда депутатом.
С моими русскими я съездил в Гамбург, в дешевом Bummelzug'e (поезде малой скорости), и там мы прожили дня два-три, вкусили всех тогдашних чувственных приманок, но эта поездка повела к размолвке с У. – из-за чего, я уже теперь не припомню, но у нас вышло бурное объяснение, до поздней ночи. И с тех пор нас судьба развела в разные стороны, и когда мы встретились с ним (он тогда профессорствовал) в Москве в зиму 1877–1878 года, то прежнее приятельство уже не могло восстановиться.
В Берлине же пахнула на меня моим Нижним и встреча с моим товарищем по Казани С-вым, который поехал лечиться на какие-то воды. Бедняга – тогда уже очень мнительный – боялся все чахотки, от которой и умер несколько лет спустя.
И я надумал пойти посоветоваться к одной из тогдашних медицинских звезд. Этот консультант нашел у меня катар желудка, что я и сам хорошо знал, и предписал мне Киссинген.
Но я еще до отъезда стал писать тот роман, который мелькал передо мною еще в Вене.
Это были «Солидные добродетели». Я написал всего еще одну главу, но много говорил об этой работе с доктором Б. Он желал мне сосредоточиться и поработать не спеша над такой вещью, которая бы выдвинула меня как романиста перед возвращением на родину.
Тут мы с ним и простились. В «Солидных добродетелях» и он и «Гамлет– Кёлликер» послужили мне моделями двух фигур в тех местах романа, где действие переносится в Вену.
С Б. мы столкнулись как-то в России (скорее в Москве, чем в Петербурге), когда он уже устроился заново в Казани и занял довольно видное общественное положение, а я и тогда оставался только писателем без всякого места и звания, о котором никогда и не заботился на протяжении всей моей трудовой жизни.
В Берлине, где я уже стал писать роман «Солидные добродетели», получил я совершенно нежданно-негаданно для меня собственноручное письмо от Н.А.Некрасова, в котором он просил у меня к осени 1870 роман, даже если он и не будет к тому времени окончен, предоставляя мне самому выбор темы и размеры его. Это меня очень порадовало и приходилось как нельзя более кстати. Я ответил, что я начал как раз роман и постараюсь высылать его так, чтобы он мог еще быть напечатан к концу текущего года. Я предполагал сделать его в четырех частях, листов около четырех-пяти в каждой.
С Некрасовым у меня до того не было никаких сношений, ни личных, ни письменных.
В Петербурге я с ним нигде не встречался, никогда не бывал в редакции «Современника» и из-за границы никогда к нему не обращался с предложением сотрудничества, с тех пор как он после гибели «Современника» взял у Краевского его «Отечественные записки».
Это обращение ко мне в такой широкой и лестной для меня форме немного удивило меня. Я мог предполагать, что в его журнале главнейшие сотрудники вряд ли относились ко мне очень сочувственно, и еще не дальше, как в 1868 году там была напечатана анонимная рецензия на мою «Жертву вечернюю» (автор был Салтыков), где меня обличали в намерении возбуждать в публике чувственные инстинкты. Но факт был налицо. Более лестного обращения от самого Некрасова я не мог и ожидать.
Позднее, вернувшись в Петербург в начале 1871 года, я узнал от брата Василия Курочкина – Николая (постоянного сотрудника «Отечественных записок»), что это он, не будучи даже со мной знаком, стал говорить самому Некрасову обо мне как о желательном сотруднике и побудил его обратиться ко мне с письмом. В этом сказался большой ум Некрасова и ширь его отношения к своему делу. Его, стало быть, не смутило то, что у него же в журнале так «прошлись» насчет «Жертвы вечерней». Быть может, это меня самого несколько смутило бы, но я «Отечественных записок» за границей в эти годы не читал, и с рецензией Салтыкова меня познакомил кто-то уже в России.
И вот я поехал пить воды в Киссинген с приятной перспективой вести дальше главы первой части романа. У меня была полнейшая надежда – к сентябрьской книжке доставить в редакцию целых две части романа.
Свое слово я выполнил, но чего это мне стоило, читатель увидит сейчас.
В Берлине никто еще и не помышлял о близости той грозы, какая разразилась не дальше, как через каких-нибудь две с половиной недели. Я доехал до Киссингена в самом благодушном и бодром настроении.
Тогда железная дорога шла только до Швейнфурта, а оттуда – в почтовой карете с баварским постильоном в голубой куртке, лосинных рейтузах и ботфортах, с рожком, на котором он разыгрывал разные песни. Эта форма сохранилась до сих пор, то есть до лета 1910 года, когда я был опять в Киссенгене 40 лет спустя после первого посещения.
Первые две недели не было еще политической тревоги. Я сошелся с петербургским французом, учителем одной частной гимназии на Васильевском острову, и проводил с ним часы прогулок в приятных разговорах; в жаркие часы писал роман.
А тучи тем временем сгущались на политическом горизонте. Разразилась история в Эмсе с депешей, которую Бисмарк обработал по-своему, после исторического диалога французского посла с Вильгельмом I, тогда еще просто прусским королем.
И вдруг – война! Французская Палата, а за ней и весь Париж всколыхнулись, пошел крик: «На Берлин!» – и европейская катастрофа была уже на носу.
На наших водах вдруг стряслась такая денежная паника, что за русские сторублевки менялы не давали ничего, хотя наш курс стоял тогда очень высоко: в Берлине давали на рубль три талера, а в Париже все время, пока я там жил, 350–360 франков за сто лей.
Меня прямо война не касалась. Я и не думал предлагать свои услуги одной из тех газет, где я состоял корреспондентом. И вдруг получаю от Корша депешу, где он умоляет меня поехать на театр войны. Просьба была такая настоятельная, что я не мог отказать, но передо мною сейчас же встал вопрос: «А как же быть с романом?»
У меня была написана какая-нибудь половина первой части. Но вот что делает молодость и молодая смелость… Я согласился в надежде, что я так или иначе сумею выполнить то, что я обещал Некрасову.
До двадцатых чисел июля я еще оставался в Киссинге-не, а потом поехал сначала в Мюнхен, куда главнокомандующий одной из прусских армий – наследный принц Фридрих – должен был явиться, чтобы стать во главе южной армии.
У меня до сих пор памятно то утро, когда я, с трудом захватив место в почтовой карете (все разом бросились вон), – сидел рядом с постильоном, стариком с плохо выбритой бородой, и тот все повторял своим баварским произношением:
– Злая будет война!
И действительно, это была «злая» война. В Мюнхене я был на торжественном спектакле, когда король Людвиг II, еще очень молодой и красивый, ввел «Фрица» в ложу и вся публика встала и зааплодировала. Эта война, где Франция (правительство и Палата) повела себя так неразумно и задорно, сразу давала такое предчувствие, что она не кончится торжеством Наполеона III над пруссаками; все видели, что это будет прусская война, где Бисмарк и Мольтке все заранее подготовили. Бисмарку она была нужна, и вопрос испанской короны был только ничтожный претекст (предлог).
Ехать корреспондентом на «театр войны» мне не особенно улыбалось, тем более что это делало мой план работы над романом почти что совсем невыполнимым.
Хотя то содержание, какое Корш предложил мне на расходы, по нынешнему времени было слишком скромно, но я все-таки хотел исполнить, в меру возможности, то, что входило в мою обязанность. Для этого надо было получить ход к немцам и выхлопотать себе права специального корреспондента.
Но мои попытки сразу же осеклись о недоверие немецких властей, начиная с командиров разных военных пунктов, к каким я должен был обращаться. Мне везде отказывали. Особых рекомендаций у меня не было, а редакция не позаботилась даже сейчас же выслать мне особое письмо. И я должен был довольствоваться тем, что буду писать письма в «Санкт-Петербургские ведомости» не прямо «с театра войны», как настоящий военный репортер, а «около войны».
Писал я с самого начала кампании почти что ежедневно, но мне сильно не хотелось бросить и роман «Солидные добродетели», и я продолжал, так сказать, «на биваках» писать его.
Теперь мне самому плохо верится, что я мог с августа по конец ноября находить время и энергию, чтобы высылать по частям «оригинал» романа и позволить редакции напечатать его без перерывов в четырех последних номерах «Отечественных записок».
Такие ловкие шутки можно выполнять только молодым человеком, надеясь на удачу.
Ведь я мог и заболеть, и даже попасть в какую-нибудь переделку, или быть арестованным, с той или другой стороны. Я и заболел ревматизмом под Мецом, где должен был идти пешком в грязи по щиколку, но все-таки оставался на ногах.
Здесь я не стану повторять того, что стоит в моих письмах, и я не мог бы этого сделать, потому что на это нужна слишком колоссальная память. Кто поинтересуется – может заглянуть в тогдашние «Санкт-Петербургские ведомости». Там нет описания битв, так как я не имел доступа в генеральный штаб немцев, а к французам я попал гораздо позднее, когда Париж уже был обложен. Об этом я не жалею. Война всегда была мне ненавистна, и видеть человеческие бойни было бы для меня великим душевным истязанием. Но я, оставаясь «вокруг и около» войны, схватывал разные моменты, характерные для хода событий, начиная с прирейнской области, Эльзаса с Лотарингией, и продолжая теми пунктами Франции, куда я потом попадал.
Сначала у меня не было особых симпатий к французскому нашествию на Германию; но когда после Седана сделалось очевидно, что Пруссия хочет раздавить всю Францию, разделавшись так легко с Наполеоном III, я не мог не сочувствовать трагическому-положению французов. Я прекрасно видел, что немцы должны победить. Их превосходство в разных смыслах бросалось в глаза; но я не мог радоваться их победам, чуя за этим погружение самой Германии в дух милитаризма и захвата. Ясно было уже и то, что Эльзас и Лотарингия – потеряны.
И вот тут, на местах немецкого захвата, начиная с Страсбура после его взятия, я впервые столкнулся с редакцией той газеты, которая упросила меня ехать корреспондентом. «Санкт-Петербургские ведомости» сначала держались нейтрально, но немецкие победы изменили их настроение, и Корш позволил своему фельетонисту Суворину начать со мною полемику, заподозрив точность и беспристрастие моих сообщений.
В Страсбуре я ночевал в отеле, два нижних этажа которого занимал тогдашний генерал-губернатор граф Мантейфель. Гарсон, служивший мне, водил меня показывать в коридоре те места, которые были пробиты немецкими гранатами и бомбами. Я это описал. А хозяин отеля (после того, как моя корреспонденция попала, должно быть, в немецкую печать) написал в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей» письмо с уверением, что никаких пробоин в его отеле при осаде не было. И редактор допустил своего забавника-фельетониста «прохаживаться» на мой счет, то есть доверять не мне, а трактирщику, который заведомо лгал, чтобы себя выгородить.
Позднее я уже чувствовал, что редакция перестала бить со мною в унисон, и это делало мою роль корреспондента очень тягостной. А меня все-таки не просили прекратить свои разъезды, и я потерял на них ни больше ни меньше как три с половиной месяца.
Не предаваясь никаким иллюзиям, я видел, что исход этой войны будет самый фатальный для Франции, но не мог не жалеть ее, не мог умалчивать и о том, что в Эльзас-Лотарингии все население было предано Франции и по доброй воле никогда бы от нее не отложилось. Я это подтверждал в моих письмах разными характерными фактами из того, что я сам видел и переживал.
Под Мец я попал тотчас после сдачи крепости и видел, до какой степени немцы были хорошо приготовлены к войне, как у них все было пропитано духом дисциплины, как их военное хозяйство велось образцово. Все это я подтверждал, но не мог не жалеть Франции, где ненавистный всем нам режим Второй империи уже пал и теперь на заклание была обречена пруссакам не империя, а Французская демократическая республика. Этого забывать нельзя!
Известие о Седанском погроме захватило меня в Брюсселе, куда я попал «кружным» путем, и вскоре затем началась блокада Парижа, куда я так и не попал, но слышал много подробностей от очевидца В.Ф.Лугинина, получившего с трудом пропуск, после немалых хлопот. Он и Вырубов принимали также – каждый по-своему – участие в защите Парижа.
Про Седан я на месте слышал много рассказов от тамошних обывателей, не скрывавших и от иностранца того, до какой степени армия Наполеона III была деморализована во всех смыслах. Предательство маршала Базена, сдавшего Мец, еще ярче встало передо мною, когда я видел выход французской гвардии, безоружной, исхудалой, в изношенных мундирах и шинелях, под конвоем прусских гусар. Такие картины не забываются!
В остальных моих переездах я уже не видал ни раненых, ни пленных и опять окольным путем поехал через Нормандию в Тур, куда перелетел в шаре Гамбетта и где было тогдашнее временное правительство с ним во главе, ставшим уже диктатором Франции.
Когда я пробирался по Нормандии, станции были уже блиндированы в ожидании пруссаков, и надо было торопиться.
И везде, где я находил войска, чувствовалась большая растерянность. Солдаты из «мобилен», офицеры совсем не внушительного вида, настроение местных жителей – все это не внушало никакого доверия, и за бедную Французскую республику было обидно и больно.
Неприятель точно по пятам гнался за теми, кто, как я, ехал в сердце Франции – в тот город, где один только Гамбетта представлял собою героическую фигуру борьбы.
Со мною по дороге случился самый обыкновенный казус, но он мог сделаться для меня роковым.
На одной бойкой станции, где в ресторане вокзала сновало множество всякого народа, и военного и штатского, в отдельном стойле, на которые разделена была зала на манер лондонской таверны, я, закусывая, снял свою сумку из красного сафьяна, положил ее рядом на диване, заторопился, боясь не захватить поезд, и забыл сумку. В ней был весь мой банковый фонд – больше тысячи франков – и все золотом.
Легко представить себе мой переполох, когда я на платформе спохватился. Бегу и спрашиваю себя: что же я буду делать, если сумку кто-нибудь присвоит себе? Что-то краснеется… Это она!
Факт, показывающий, что в моменты общего возбуждения карманники не практикуют, как в обыкновенное время.
И всю дорогу до Тура, с разными пересадками, меня провожали разговоры испуганных буржуа без малейших проблесков патриотической веры в то, что Франция не может и не должна позволить так раздавить себя. Исключение составляли только те поставщики и подрядчики, которые устремлялись в местопребывание Гамбетты, кто с образцом какого-нибудь ружья, кто с разными консервами, кто с таинственным изобретением, которое должно будет истреблять пруссаков, как их однофамильцев – тараканов. Все это было несерьезно, суетно, мелко, крайне печально и для иностранца, которому с каждым днем становилось все более обидно и жалко за Францию.
В Тур я добрался ясным осенним утром. Город стоит на Луаре, среди милого, улыбающегося пейзажа, настоящий «Сад Франции», как его спокон века звали…
Родина Бальзака, которого судьба избавила от горечи переживать такие дни. А он мог бы еще дожить до 1870 года. Ему было бы всего семьдесят, а такой здоровяк, как он, мог дотянуть и до целой сотни лет. По-нашему говоря, губернский город, такого же вида вокзал и весь облик города. В здании префектуры казенного стиля у ворот два кавалериста на часах, в куртках и плоховатых кепи.
Первое лицо, кого я встречаю в приемной Гамбетты, – Наке. Это была особенно удачная находка, но она не принесла мне ничего особенно ценного. Гамбетта как раз куда-то уехал – к армии, а мне заживаться было нельзя. Я рисковал отрезать себе обратный путь.
Наке сейчас же повел меня по всем залам, где сидели служащие турского временного правительства. И принял меня вместо Гамбетты его личный секретарь, тот самый герой Латинского квартала, который прославился одной брошюрой, под псевдонимом «Деревянная Трубка» – «Pipe en bois».
Тут я его в первый раз видел живым и должен сказать, что внешность этого секретаря Гамбетты была самая неподходящая к посту, какой он занимал: какой-то завсегдатай студенческой таверны, с кривым носом и подозрительной краснотой кожи и полуоблезлым черепом, в фланелевой рубашке и пиджаке настоящего «богемы». Не знаю уже, почему выбор «диктатора» упал именно на этого экс-нигилиста Латинской страны. Оценить его выдающиеся умственные и административные способности у меня не было времени, да и особенной охоты.
При Гамбетте же, в качестве его директора департамента как министра внутренних дел состоял его приятель Лорье, из французских евреев, известный адвокат, про жену которого и в Type поговаривали, что она «дама сердца» диктатора. Это могла быть и сплетня, но и младшие чиновники рассказывали при мне много про эту даму и, между прочим, то, как она незадолго перед тем шла через все залы и громко возглашала:
– Я несу фланелевые жилеты господина министра внутренних дел, – то есть все того же Гамбетты.
Обедал я где-то за рекой, в недорогом трактирчике, с Наке и несколькими молодыми людьми из тех, каких Тур называл «господами из правительства», и их беседа произвела на меня жуткое впечатление – так все это было и юно, и пусто, и даже малоопрятно по части врагов. Все время говорили взапуски о местных кокотках и о тех притонах, где эти messieurs du gouvernement проводили свои вечера и ночи.
А в это время их родина изнывала под тяжелым сапогом пруссака, и в Версале готовилось провозглашение Вильгельма императором Германии, и Париж начинал уже переживать ужас осады.
С таким настроением оставил я Тур и простился с Наке надолго, на несколько лет.
Министром полиции при Гамбетте был тогда Ранк, известный радикальный журналист, только недавно умерший. К нему меня водил все тот же Наке, и я получил от него «пропуск» (saui-conduit) на листке простой почтовой бумаги. Этот «пропуск» тогда мне особенно не понадобился, но он мог бы оказать мне трагическую услугу, если б где-нибудь меня сцапали немцы, а когда я колесил обратно по Франции, они всюду гнались по пятам. Пришлось бы, в случае такой остановки, вовремя проглотить мой sauf-conduit, иначе пришлось бы плохо. Они не церемонились и весьма охотно расстреливали тех, кого считали военными шпионами, и мой русский паспорт меня вряд ли бы спас.
Но все «пронесло», и я очутился в восточной Франции на границе Швейцарии, в тех местах, где еще держались части французской армии.
То, что я видел в городах, на узловых станциях железных дорог, не могло обнадеживать в исходе, сколько-нибудь благоприятном для Франции. Я видел только новобранцев, или мобилей из плохих офицеров, или более комических, чем внушительных francs-tireurs (вольных стрелков, партизан), мальчиков, одетых какими-то шиллеровскими разбойниками.
Добравшись до Женевы, очень утомленный и больной ревматизмом ног, схваченным под Мецом, а главное видя, что я нахожусь в решительном несогласии с редакцией, гае тон повернулся лицом к победителям и спиной к Франции, я решил прекратить работу корреспондента, тем более что и «театра»-то войны надо было усиленно искать, перелетая с одного конца Франции к другому.
Меня тяготило и то, что я должен был выполнять свое обещание перед Некрасовым – доставлять части романа, который довел уже до третьей части, воспользовавшись моими остановками, сначала в Брюсселе в начале сентября, а теперь в Женеве – уже к концу октября.
Я известил об этом Корша и стал с остановками двигаться к югу Франции, попал в Марсель, а потом в Ниццу, откуда и решил совершить мою первую поездку в Италию.
Обо всем этом я уже рассказывал, и довольно подробно, во вступлении к моей книге «Вечный город», почему и должен здесь пройти молчанием всю эту поездку из Ниццы по Корнише в Геную, оттуда на пароходе в Ливорно, потом во Флоренцию, Рим (где просидел около трех недель) и в Неаполь, а потом обратно на север Италии: Турин, Милан, Венецию, Триест и через Вену в Россию.
Меня сильнее, чем год и два перед тем, потянуло на родину, хотя я и знал, что там мне предстоит еще усиленнее хлопотать о том, чтобы придать моим долговым делам более быстрый темп, а стало быть, и вдвое больше работать. Но я уже был сотрудником «Отечественных записок», состоял корреспондентом у Корша, с которым на письмах остался в корректных отношениях, и в «Голосе» Краевского. Стало быть, у меня было больше шансов увеличить и свои заработки.
Роман «Солидные добродетели» я докончил в Риме, работая каждый день после денного изучения памятников и музеев.
Вообще для полного вкушения красот Италии недоставало теплого сезона – я провел в ней ноябрь и часть декабря, но я не хотел отказываться от этой поездки, боясь, что, может быть, мне не придется и совсем попасть в Италию.
Возвращение в Россию было полно впечатлений туриста в таких городах, как Турин, Милан, Венеция, Триест, а молодость делала то, что я легко выносил все эти переезды зимой с холодными комнатами отелей и даже настоящим русским снегом в Турине и Вене, где я не стал заживаться, а только прибавил кое-что к своему туалету и купил себе шубку, в которой мне было весьма прохладно, когда я добрался до русской границы и стал колесить по нашим провинциальным дорогам.
Мне хотелось повидаться с отцом после шестилетней разлуки. Он жил уже безвыездно в усадьбе своего тамбовского имения в Лебедянском уезде. Туда добраться прямо по железной дороге нельзя было, и вот я с последней станции должен был в своей заграничной шубке, прикрывая ноги пледом, проехать порядочный кончик в большой мороз и даже метель.
Отечество встретило меня своей подлинной стихией, и впечатление тамбовских хат, занесенных снегом, имевших вид хлевов, было самое жуткое… но все-таки «сердцу милое». Вставали в памяти картины той же деревенской жизни летом, когда я, студентом, каждый год проводил часть своих вакаций у отца.
Грустно было найти его уже не тем бодрым, еще далеко не стариком; тут он смотрел уже старцем, хотя ему тогда было немногим больше шестидесяти.
Познал я и приятности наших железнодорожных порядков, когда меня по дороге в Москву заставили просидеть в Орле целых восемь часов, дожидаясь поезда.
В Москве я не нашел самого близкого мне человека, с которым из Парижа вед приятельскую переписку, – князя А.И.Урусова. Он куда-то уехал защищать и был уже в это время «знаменитость» с обширной практикой, занимал большую квартиру, держал лошадей и имел секретаря из студентов его времени, беседа с которым и показала мне, что я уже не найду в Урусове того сотрудника «Библиотеки для чтения», который ночевал у меня на диване в редакции и с которым мы в Сокольниках летом 1866 года ходили в лес «любить природу» и читать вслух «Систему позитивной философии» Огюста Конта.
Между Веной и Петербургом пришлась на моем обратном пути на родину и Варшава.
Она давно меня интересовала, но я попадал в нее в рервый раз и в очень хорошей обстановке.
Случилось так, что два моих собрата и сотрудника по «Библиотеке для чтения», Н.В.Берг и П.И.Вейнберг, жили в Варшаве, оба как члены профессорского персонала нового Варшавского университета.
Берг был еще тогда холостой и жил неизменно в Европейской гостинице. Вейнберг жил также временным холостяком в отеле «Маренж» в ожидании переезда на прекрасную квартиру как редактор «Варшавского дневника», что случилось уже позднее. Он был еще пока профессором русской литературы, а Берг читал русский язык и был очень любим своими слушателями, даже и поляками, за свое знание польского языка и как талантливый переводчик Мицкевича.
Я сразу попал в воздух русской писательской интеллигенции, к моим старшим сверстникам, в воздух милых для меня разговоров и воспоминаний. Оба они могли меня ознакомить с Варшавой в том, что в ней для меня было самого интересного, особенно Берг, уже старожил Варшавы и вдобавок любитель театра, и в особенности балета с его мазуркой. Он, как запоздалый холостяк, постоянно увлекался красотой полек и не думал еще выходить в отставку по части любовных похождений. Это был также один из любимых сюжетов его бесконечных рассказов. Его словоохотливость, правда, еще усилилась за эти годы, но содержание его рассказов выкупало некоторую утомительность его досужего словообилия.
У Вейнберга я познакомился с молодым, только что начавшим свою карьеру И.И.Иванюковым и сразу очень сошелся с ним. Меня привлекли сразу и внешность его, и живость ума, и ласковость тона. Он отрекомендовался как мой усердный читатель, уже проглотивший тогда все четыре части только что отпечатанных «Солидных добродетелей».
Он для меня был еще незнакомая личность и по самой своей жизненной дороге: бывший кадет, армейский улан, потом гвардейский кирасир, пошедший в вольные слушатели университета, побывавший в Америке, где работал простым увриером, потом кандидат, магистр политической экономии и университетский профессор.
У нас начались с ним долгие холостые беседы о разных эпизодах жизни, где он с полной искренностью вводил меня и в интимные стороны своего недавнего прошлого.
Разговоры эти происходили на его холостой квартире, после чего он меня водил по Варшаве и знакомил меня с ее нравами.
Он, так же, как и Вейнберг и Берг, ставил чрезвычайно высоко варшавскую сцену и увлекался талантом тогдашней первой актрисы театра «Размантости» (Разнообразие), Моджеевской. Берг повез меня к ней – тогда еще молодой, красивой и изящной женщине, вышедшей незадолго перед тем за одного журналиста из Галиции. Мы с ней говорили по-французски. Кажется, она уже и тогда задумывала, овладев английским языком, выступать в шекспировских ролях в Англии и Америке, чего она и достигла, и умерла недавно с большой известностью как международная артистка.
В Варшаве я ее видел в комедии и интимной драме польского репертуара и думаю, что средний жанр был ее настоящей сферой. Такой изящной, тонкой артистки тогда у нас в столицах еще не было. Да и у себя в гостиной она была гораздо больше светская дама, чем тогдашние наши «первые сюжеты».
Труппу театра «Разнообразие» для комедий из современной польской жизни и для так называемых «кунтушевых» пьес из быта старой Польши нашел я замечательной, с таким ансамблем, какой был только в Москве, но не в Петербурге.
Комик Жулковский, напомнивший мне Садовского, актеры на характерные роли – Кругликовский, Рапацкий, Островский, Шимановский, Лещинский, актрисы Бокалович и Попель – все это были настоящие дарования и с большой артистической выработкой.
И впечатление от их игры было тем сильнее, что они играли в тесном, бедно отделанном театре, с такой же бедной обстановкой, с допотопными кулисами вместо «павильонов». Да и Большой театр, где шли оперы и балеты, казался провинциальным после наших казенных театров Петербурга и Москвы. Опера была посредственная; в балете хороши национальные танцы и, разумеется, мазурка, приводившая в неистовый восторг Берга.
Варшаву как столицу я нашел вроде немецких столиц средней руки, но все-таки со своеобразной физиономией. Русский гнет после восстания 1862–1863 годов чувствовался и на улицах, где вам на каждом шагу попадался солдат, казак, офицер, чиновник с кокардой, но Варшава оставалась чисто польским городом, жила бойко и даже весело, проявляла все тот же живучий темперамент, и весь край в лице интеллигенции начал усиленно развивать свои производительные силы, ударившись вместо революционного движения в движение общекультурное, что шло все в гору до настоящего момента.
Мне как русскому, впервые попадавшему в этот «край забраный», как называют еще поляки, было сразу тяжко сознавать, что я принадлежу к тому племени, которое для своего государственного могущества должно было поработить и более его культурное племя поляков. Но это порабощение было чисто внешнее, и у поляков нашел я свою национальную жизнь, вековые традиции и навыки, общительность, выработанный разговорный язык, гораздо большую близость к западноевропейской культуре, чем у нас, даже и в среднем классе.
Все эти живучие элементы польской расы и народности в театре еще легче и рельефнее можно было схватить русскому, который никогда и раньше не имел никакой нетерпимости к «инородцам».
Меня не связывало с поляками ничего личного: ни родство, ни товарищество, никакое навеянное жизнью пристрастие, но я ни в гимназии, ни студентом, ни писателем, в Петербурге или за границей, не имел к полякам никакого предубеждения, а, напротив, всегда относился к ним симпатично. И это чувство усилилось еще с момента их последней революции. Читатели моих «Воспоминаний» припомнят, что я рассказывал про то, как «Библиотека для чтения» заинтересовалась заниматься польскими делами и Н.В.Берг был послан по моей личной инициативе в Краков как наш специальный корреспондент.
В Париже я стал, без особого внешнего побуждения, а прямо по собственному интересу, брать уроки польского языка у одного эмигранта из бывших московских студентов. И с тех пор меня не оставляло желание изучить язык и литературу более серьезно. Долго жизнь не давала мне достаточно досугов, но в начале 80-х годов, по поводу приезда в Петербург первой драматической труппы и моего близкого знакомства с молодым польско-русским писателем графом Р-ским, я стал снова заниматься польским языком, брал даже уроки декламации у режиссера труппы и с тех пор уже не переставал читать польских писателей; в разное время брал себе чтецов, когда мне, после потери одного глаза, запрещали читать по вечерам.








