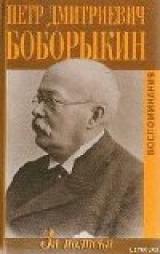
Текст книги "За полвека. Воспоминания"
Автор книги: Петр Боборыкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
В это время он уже не был больше профессором, после того, как в начале своей карьеры преподавал химию в Палермо.
Меня к нему привели в лечебницу, известную тогда в Париже под именем «Дома Дюбуа».
Это был род санатории, которая была пожертвована богатым буржуа городу Парижу.
Наке отсиживал в нем срок своего тюремного заключения по политическому процессу.
Он уже был автор радикально-социальной книжки и предварительно сидел в Мазасе, уже не помню, по тому ли самому делу или по какому другому.
Тогда политическое правосудие отправлялось в виде суда исправительной полиции, без присяжных, и было, разумеется, крайне произвольным. Но все-таки возможны были такие послабления: государственному преступнику, приговоренному к тюрьме, позволить отсиживаться в санатории без всякого специального надзора. Оттуда он мог преспокойно убежать, когда ему угодно.
Наке послужил мне моделью лица, введенного мною впоследствии в роман «Солидные добродетели». Узнать его было нетрудно, и я, набрасывая этот портрет, ничего не преувеличивал и относился к самому оригиналу симпатично.
В нем было тогда много привлекательного. Помимо знаний, живого ума, большой житейской бывалости, он привлекал редким в французе добродушием, простотой, отсутствием мелочности.
По происхождению еврей, с юга Франции (из города Карпантраса), с типичным еврейским профилем, с сильной горбиной, искажавшей его фигуру, он отличался тем, что был, как французы говорят, «un panier perce», то есть крайне нерасчетлив и щедр. Вырубов всегда его вышучивал на эту тему.
Лишившись профессорского места, Наке перебивался учено-литературной работой главным образом, как сотрудник словаря Лярусса), всегда нуждался и всегда готов был поделиться, чем только мог.
К нему в санаторию ходили постоянно разные народы, в том числе тот самый Рауль Риго, который во время Коммуны был чем-то вроде министра полиции и производил экзекуции заложников. Водил он знакомство и с тогдашними русскими эмигрантами, с той компанией, которая жила коммуной и занималась отчасти сапожным ремеслом: бывший кавалерист Озеров, некий Т. и тот Сомов, который попал ко мне в секретари и похож был очень на Ломова, являющегося также в «Солидных добродетелях».
Кажется, этой группой и ограничивалась тогда русская молодая эмиграция, какую можно было встретить в Латинском квартале. Наке особенно интересовался Озеровым и той русской барышней-хохлушкой, на которой тот потом женился.
У Наке всегда можно было найти гостей. И я удивлялся – как он мог работать: не только писать научные статьи, но и производить даже какие-то химические опыты.
К возвращению моему на парижские бульвары он уже отсидел свой срок. Но его опять собирались судить за книжку о государственной собственности и браке, где тогдашняя прокуратура усмотрела колебание всех основ. Процесс еще не начался, и Наке пока оставался на свободе.
Кажется, он привел ко мне Благосветлова, издателя «Дела», которого я в Петербурге никогда и нигде не встречал. В Париже у Благосветлова был постоянный сотрудник, один из братьев Реклю – старший, Эли. С ним я уже был знаком и у него видал и его младшего брата Элизе, и тогда уже известного географа, но еще не прославившегося как анархист.
Сколько помню, в тот же сезон приезжали в Париж Корш и Краевский. Я был сотрудником обоих. У Краевского я был раз в Петербурге, а Корша видел только раз у Писемского, но знаком еще не был.
Корш был доволен и моими корреспонденциями в текст «Санкт-Петербургских ведомостей», и в особенности моими фельетонами «С Итальянского бульвара». Но сезон кончался, и писать было почти что не о чем.
Мое первое впечатление от знакомства с Коршем было сразу довольно точное.
Добродушный, не очень блестящий умом, либерально мыслящий москвич, нервный, легко возмущающийся, довольно наивный, человек лучших традиций 40-х годов, как журналист – любящий свое дело, но всегда подавленный своими счетами с тогдашней цензурой. В нем не было той хозяйской сметки и в редакционном смысле, какую выказывал Краевский, когда он мне и на письмах, и при личных свиданиях в Париже намечал то, что было бы особенно ценно для его газеты. Но Краевский был то, что народ называет «кулак», то есть чистой крови оппортунист, умевший ловко лавировать между подводными камнями русского режима, а Коршу дороги были известные принципы и идеалы. Но в выборе ближайших участников в газете он не имел дара предвидения. Сделав Суворина и Буренина главными своими сотрудниками, он верил в их радикализм и не распознал в них будущих матадоров такого органа, как «Новое время».
Он приблизил к себе Жохова – того, что был убит на дуэли Евгением Утиным, – как передовика по земским и вообще внутренним вопросам, и я одно время думал, что этот Жохов писал у Корша и критические фельетоны. И от Корша я тогда в первый раз узнал, что критик его газеты – Буренин, тот самый Буренин, который начинал у меня в «Библиотеке» юмористическими стишками.
В Париже я познакомился и с Жоховым и нашел в нем довольно милого, по многим вопросам, петербургского чиновника, пишущего в газетах, довольно речистого и начитанного в чисто петербургских интересах, но совсем не «звезду», без широкого литературного, философского и даже публицистического образования. Я водил его по Парижу, как раньше редактора «Русского инвалида», и полковник, при всей офицерской складке, и то оказывался нисколько не менее развитым, чем этот передовик «Санкт-Петербургских ведомостей». Корш называл Жохова «мой приятель», и видно было, что он о нем очень высокого мнения.
У Благосветлова, как я сказал выше, были постоянные сношения с Эли Реклю. Оба брата, а также и Наке, называли его «Blago» и считали едва ли не самым радикальным русским журналистом.
Ко мне он обратился прямо, в тоне самого бывалого редактора-издателя, с предложением дать в его «Дело» повесть. Это была та вещь, которая появилась у него под заглавием «По-американски».
В Благосветлове все было очень своеобразно: и наружность, и тон, и язык, и манеры. Если он был из «духовного» звания, то этого нельзя было сразу подметить в нем, но учитель в нем сразу чувствовался из тогдашних радикалов.
Благосветлов попал в Лондоне в домашние учителя, в семейство Герцена; но он сумел, вернувшись в Петербург, сделаться «persona grata» у графа Кушелева-Безбородко и после редакторства «Русского слова» сделаться издателем сначала его, а потом «Дела».
С ним я вошел в более продолжительное знакомство, когда сам вернулся в Россию в январе 1871 года.
За границей я написал для «Дела» повесть «По-американски», которая явилась по счету первой моей повестью, как раньше, в 1866 году, «Фараончики», написанные в конце того года в Москве, были моим первым рассказом.
Как беллетрист я после «Жертвы вечерней» задумал роман «На суд» и начал его писать в Вене.
Он мне как-то не давался, и писал я его с большими паузами. Его замысел не был навеян ближайшей русской жизнью, а представлял собою интимную супружескую драму, но все же на русской, барской почве. Узел драмы – преступление мужа, в котором жена делается сообщницей, только участвуя в мнимом его сумасшествии, – навеян, я это могу теперь сказать, историей Сухово-Кобылина, заподозренного, как я это рассказывал выше, в убийстве в запальчивости своей любовницы-француженки. Но ни характер героя, ни его жены, ни обстановка – ничто не подсказано той историей, которую я слыхал только в самых общих чертах.
Это был мой опыт, и притом единственный, написать целый (хотя и небольшой) роман на психическую тему.
Роман прошел тихо, и только гораздо позднее в «Отечественных записках», в одной рецензии, где разбирались типы женщин в новейшей беллетристике, было разобрано и лицо героини, но с узкофеминистской точки зрения. Автор статьи была Цебрикова.
Наке предстояло снова отсиживать, и он затеял отправиться в Испанию. Он нашел себе работу корреспондента в одной из тогдашних оппозиционных газет и предложил мне поехать с ним в Мадрид, соблазняя меня тем, что момент был очень интересный – после прошлогодней Сентябрьской революции и регентства маршала Сера– но, когда приближался день обнародования новой конституции.
Это было в последних числах мая 1869 года. Сколько помню, я успел столковаться с Коршем насчет этой поездки.
Тогда мы не были избалованы огромными окладами и подъемными корреспондентов. Я не попросил никакого ежемесячного содержания, довольствуясь той построчной платой, какую уже получал в «Санкт-Петербургских ведомостях». Теперь ни один молодой писатель, с некоторой уже известностью, не удовольствовался бы такими условиями. Но повторяю; мы тогда не были избалованы.
Я еще тогда не решил, когда я вернусь в Россию; но я был вполне свободен, в Лондон меня не тянуло, Париж делался летом неинтересен, а тут я мог месяца два провести в стране, о которой не раз мечтал, но до нее еще не доехал.
Об Испании я читал письма Боткина, но уже давно, а в Париже стал следить за событиями освободительного движения, особенно после Сентябрьской революции.
Встреча и знакомство с Кастеляром (о чем я говорил выше) приблизили ко мне все, что делалось в этой стране, и я прочел и несколько статей и книжек на тему тогдашней Испании.
Всего этого было бы еще недостаточно, чтобы отправиться в страну «заправским» корреспондентом. Но ни я сам, ни редакция газеты, куда я собирался писать, и не смотрели так серьезно на подобную поездку. Меня успокоивало и то, что я, через посредство Наке, попаду сейчас в круг разноплеменных корреспондентов и испанцев из радикального лагеря, в чем я и не ошибся.
Языка я еще не знал настолько, чтобы изъясняться на нем как следует, но я начал его изучать еще раньше и надеялся овладеть им скоро. Газеты я мог уже довольно свободно читать.
Меня не смутило и то, что я отправляюсь на такой юг летом и рискую попасть на большие жары и оставаться в Мадриде в духоте городской жизни. Но молодость брала свое. Не смущало меня и то, что я не имел никаких добавочных средств для этой поездки. И тут Наке явился «мужем совета». Выхлопотывая себе даровой проезд, он и мне выправил безденежный билет до Мадрида. Сам он уехал раньше меня за несколько дней. А меня что-то тогда задержало.
И я смело пустился в путь один, без всякого компаньона, с одними только сведениями из печатного гида и несколькими десятками фраз из «разговоров» на железной дороге, таможне, в ресторанах и гостиницах.
Я не мог останавливаться по дороге, боясь лишних расходов и чувствуя себя еще слишком малоподготовленным, и прямо из Парижа на другой же день перед обедом прибыл в Мадрид и на перроне вокзала увидал горб и ласковое лицо моего парижского собрата.
Испания! До сих пор эта страна остается в моей памяти как яркая страница настоящей молодости. Мне тогда еще не было полных 29 лет. И я искренно упрекаю себя в настоящий момент за то, что я не то что вычеркнул ее из своей памяти, а не настолько сильно влекся к ней, чтобы еще раз и на более долгий срок пожить в ней.
Если жизнь отводила меня от поездки в Испанию в течение следующих двух десятилетий (после 1869 года), то есть до 90-х годов прошлого столетия, то в последние десять лет я, конечно, нашел бы фактическую возможность ехать туда в любое время года и пожить там подольше.
Но располагает, в сущности, не наша «свободная воля», а то, что по-ученому называется «детерминизмом».
Объяснение можно найти и более точное.
Вышло так, что в течение этих долгих лет – в общем, с лишком сорока лет! – я ни разу не задавался какой-нибудь программой изучения Испании на месте, хотя, ознакомившись с языком, стал читать многое в подлиннике, что прежде было мне доступно лишь в переводах, начиная с «Дон-Кихота».
Язык сохранил для меня до сих пор большое обаяние. Я даже, не дальше как пять лет назад живя в Биаррице, стал заново учиться разговорному языку, мечтая о том, что поеду в Испанию на всю осень, что казалось тогда очень исполнимым, но это все-таки по разным причинам не состоялось. А два года раньше из того же Биаррица я съездил В Сан-Себастьяно и тогда же обещал сам себе непременно пожить в Испании подольше.
Задайся я каким-нибудь определенным планом, как например, насчет Рима (который мне долго решительно не давался), я бы уже успел написать что-нибудь вроде «Вечного города» после того, как я отправился в Рим осенью 1891 года с твердым намерением заново изучить его, для чего я, также заново, стал подготовлять себя к нему целый год.
Может быть и то, что после нового восстановления Бурбонов и падения Республики ни Мадрид, ни провинции не казались мне достаточно интересными.
Но если моя поездка к июлю 1869 года и была слишком краткой и летучей, то все-таки я вынес из нее живое и яркое настроение и жил среди испанцев в очень яркий момент и политического и социального кризиса.
Я не стану здесь рассказывать про то, чем тогда была Испания. Об этом я писал достаточно и в корреспонденциях, и в газетных очерках, и даже в журнальных статьях. Не следует в воспоминаниях предаваться такому ретроспективному репортерству. Гораздо ценнее во всех смыслах освежение тех «пережитков», какие испытал в моем лице русский молодой писатель, попавший в эту страну одним из первых в конце 60-х годов.
Одновременно со мною не было ни одного пишущего русского. И литература наша об Испании была «никакая», за исключением боткинских писем, но они были уже из совсем другой эпохи.
Не могу утверждать – до или после меня проживал в Испании покойный граф Салиас.
Он много писал о ней в «Голосе», но тогда, летом 1869 года, его не было; ни в Мадриде, ни в других городах, куда я попадал, я его не встречал. Думаю, однако, что если б ряд его очерков Испании стал появляться раньше моей поездки, я бы заинтересовался ими. А «Голос» я получал как его корреспондент.
Не нашел я в Мадриде за время, которое я провел в нем, ни одного туриста или случайно попавшего туда русского. Никто там не жил, кроме посольских, да и посольства-то не было как следует. Русское правительство после революции, изгнавшей Изабеллу в 1868 году, прервало правильные сношения с временным правительством Испании и держало там только «поверенного в делах». Это был г.
Калошин, и он представлял собою единственного россиянина, за исключением духовенства – священника и псаломщика.
И я сейчас же покончу с моими соотечественниками в Мадриде, рассказав, как я попал в посольство.
Это случилось уже через две-три недели после моего приезда. Мне понадобилось засвидетельствовать две доверенности на имя моего тогдашнего приятеля князя А.И.Урусова для получения за меня поспектакльной платы из конторы московских театров. И вот я по указаниям знакомых испанцев отыскал наше посольство, вошел во двор и увидал в нем бородатого, плотного мужчину, сидевшего под навесом еще с кем-то.
Это был псаломщик. Он мне чрезвычайно обрадовался и стал сейчас же изливаться, как ему здесь тоскливо; взялся передать мои бумаги г. Калошину, у которого я и был на другой день.
Этот дипломат, теперь уже покойный, принял меня изысканно-вежливо и мягко упрекнул меня в том, что я раньше не навестил своего соотечественника. А наглядным доказательством того, как много было текущих дел по консульской части, может служить то, что на моих доверенностях в конце июля (то есть в конце целого полугодия) стояли №№ 3-й и 4-й.
Про этого Калошина говорили мне и в России (что я слыхал позднее), и в Мадриде, что он щеголял прекрасным знанием не только литературного и светского кастильского языка, но и разными диалектами иберийского полуострова. Знакомые нам с Наке молодые люди – испанцы рассказывали нам, что русский посол изумлял их своим аппетитом. Он ходил завтракать и обедать в один из самых лучших кафе-ресторанов и проедал каждый день, один, больше чем на двадцать песет. Для умеренных в пище «гидальго» это было нечто колоссальное!
Наке привез меня в квартиру, где поместился тотчас по приезде, то, что у нас называется «у жильцов». Это было семейство Ортис, жены секретаря Марфорио, фаворита Изабеллы, бежавшего с ней в Париж.
Довольно пикантно показалось мне то, что мой республиканец-социалист выбрал таких хозяев. Он искал дешевизны так же, как и я. Мы оба жили на гонораре, да и то и ему и мне редакции высылали чеки с большой оттяжкой, и раз мы с ним дошли до того, что у нас обоих в портмоне осталось по одному реалу (25 сантимов). Но беспечный философ Наке повторял все с своим сильно провансальским акцентом:
– Милый друг, будь доволен, что имеешь стол и дом.
А это «vivre» et «convert», то есть одна большая комната с альковом, с полным пансионом, стоило каждому всего пять песет в день.
Синьора Ортис, хоть и была супруга такого «милашки», как синьор Марфорио, оказалась добродушнейшей особой, очень тихой, ласковой, весьма, конечно, набожной, но без всякого изуверства. Правда, она нас кормила ужасно, и на русский и на французский вкус, даже и после дешевых ресторанчиков Парижа.
Не знаю, как дело стоит теперь, но тогда домашний стол поражал своей первобытностью и неудобоваримостью. Чтобы дать об этом приблизительное понятие, я приведу рецепт холодного супа, каким нас частенько угощали: возьми воды (да и то еще тепловатой), накроши в нее сырых помидоров, салату, вареного гороху, сельдерея, луку, чесноку, кусков хлеба – и вот вам мадридская ботвинья. И горох-то не общеевропейский, а желтый, величиной с орех, с рубчиками, то, что французы называют сухим горохом и дают только… скоту, кажется, даже исключительно свиньям.
Зато при синьоре Ортис жили три дочери – взрослые Лола (Долорес) и Консуэла и подросток с таким же благоуханным именем. Каждый вечер приходили молодые люди (les navios, то есть женихи), и их вечеринки с пением и игрой очень напоминали жизнь нашей провинции эпохи моей юности.
Уже по дороге с вокзала до дома, где жила синьора Ортис, я сразу увидал, что Мадрид – совсем не типичный испанский город, хотя и достаточно старый. Вероятно, он теперь получил еще более «общеевропейскую» физиономию – нечто вроде большого французского города, без той печати, какая лежит на таких городах, как Венеция, Флоренция, Рим, а в Испании – андалузские города. И это впечатление так и осталось за все время нашего житья.
Центр столицы – знаменитая «Pureta del sol» – поразил меня банальной архитектурой ее домов, некрасивостью своих очертаний. А ведь это был тогда самый жизненный центр Мадрида. Посредине ее стоял Palacie de govemaries, и этот дом красно-кирпичной обшивкой и всем своим пошибом напомнил мне до смешного трактиры моего родного города Нижнего и на Верхнем, и на Нижнем базаре тогдашних, тоже знаменитых трактирщиков Бубнова, Лопашева и Ермолаева.
Не архитектура, не древности, не красота положения поддерживали интерес, а уличная жизнь, нравы, политическое движение, типы в народе, буржуазии и высшем классе, вечернее оживление по кафе, гулянье в парке «Прадо» и неизбежный Plaza de toros (площадь быков).
Толпа в Мадриде на более нарядных и бойких улицах не очень резко отличалась от общеевропейской; но в народных кварталах в ней была южная типичность, которую я видел тогда еще впервые, так как знакомство мое с Италией произошло с лишком годом позднее, в ноябре 1870 года.
Женщины и их наряд давали самую характерную ноту. Тогда, правда, на светских катаньях в Прадо и в театрах франтихи уже носили шляпки и вообще парижские моды, но большинство в буржуазии держалось еще традиционной мантильи, то есть кружевного или шелкового покрывала, которое прикрепляется к гребенке. И всегда цветок в волосах и, конечно, веер. У нашей синьоры Ортис жила в услужении кухарка по имени Пруденсия – всю неделю ужасная замарашка. Но как только воскресенье и ее отпустят в Прадо (мадридцы не произносят Прадо, а Прао), она взденет мантилью, воткнет цветок в волосы и начнет играть грошовым веером.
Я приехал – в самый возбужденный момент тогдашней внутренней политики – почти накануне торжества обнародования июньской конституции 1869 года, которая сохранила для Испании монархическую форму правления. Торжество это прошло благополучно. Республиканских манифестаций не было, хотя в процессии участвовал батальон национальной гвардии и разных вооруженных обществ. Все это – весьма демократического вида.
Тогдашнего регента, маршала Серрана – скорее любили. Но роль играл не он, а Прим, которого я и видел в первый раз на этом торжестве. Из него сделала героя картина даровитого художника Реньо, изобразившего Прима во главе войска, идущего ниспровергать Изабеллу. Эта картина вызывала восторги Вл. Стасова, видевшего ее в Париже.
Разумеется, в честь «Конституции 3 июня» дан был и торжественный бой быков – тоже первый по счету, на каком мне удалось быть.
Моим первым разочарованием было то, что музыка вместо чего-нибудь чисто испанского стала играть попурри из оффенбаховских опереток, так же, как и на торжестве обнародования.
Памятен мне до сих пор тот несчастный случай, которым ознаменовался тот бой быков. Против самого свирепого быка должен был выступить знаменитый, уже пожилой тореро, который перед тем уже совсем было покончил свою карьеру. Имени его не могу припомнить, но его сухую жилистую фигуру в черном костюме хорошо помню.
Публика невзвиделась, как бык (кажется, по числу четвертый или пятый) вздернул заслуженного тореро, или spada (как он также называется), и тот хлопнулся оземь; его унесли и должны были отнять у него ногу, а через несколько недель (перед нашим отъездом из Мадрида) ему давали серенаду по случаю его выздоровления.
Для всякого заезжего иностранца бой быков – неизбежное зрелище, где мадридская праздная толпа всего ярче мечется вам в глаза, где так называемая «couleur locale» (местная окраска, колорит) считается самой что ни на есть испанистой.
Во мне первый же бой под конец вызвал почти что отвращение. Говорю это не задним числом, а верно воспроизводя тогдашнее мое настроение.
Граф Салиас в «Голосе» проделал целую кампанию против этого варварского пережитка, который теперь начинает забирать и французскую публику. Он называл бой быков «бойней быков», и в этом он был, в общем, прав, хотя эти «корриды» и кончаются гибелью тореро. В последние годы особенно как-то часто.
Но, должен я здесь признаться, когда вы живете в Мадриде или в Севилье, вы после первого боя, вызвавшего в вас законное брезгливое чувство, испытаете то, что потянет во второй раз, и надо сильно реагировать против этой тяги, чтобы укрепить в себе протест против кровавой, отвратительной бойни лошадей с их распоротыми животами и зрелищем добиваемого быка, который далеко не всегда воинственно настроен. Я очень хорошо помню, что чуть не на этом торжественном бое первый бык выбежал, потоптался на месте и «дал бежку» при смехе и негодующих криках публики, более кровожадной и животненной, чем это четвероногое.
Но на третье воскресенье я уже не пошел на Plaza de toros.
В Мадриде я как газетный корреспондент поставлен был сразу в довольно выгодные условия. Всем этим я был обязан Наке. Он сейчас же познакомился в самом бойком политическом клубе со всеми иностранными корреспондентами, завел знакомство и с испанцами вплоть до выдающихся депутатов левой парламентской партии, где были уже не только республиканцы, но и социалисты, хотя и в ничтожном меньшинстве.
Из корреспондентов я всего чаще видался с немцем Лаузером, с французом Кутульи (впоследствии дипломат) и с тогда совсем еще неизвестным, а впоследствии всемирно знаменитым Стэнлеем, тем, что открывал Ливингстона.
Никто бы из нас, его тогдашних коллег, не мог бы представить себе, что этот довольно-таки первобытный, совсем не образованный полуамериканец-полуангличанин, бывший морской юнга, будет историческим Стэнлеем. Он был в десять раз менее подготовлен к роли корреспондента, чем даже самые плохенькие из нас. Ни одного языка, кроме английского, он не знал, а по-испански мог произнести только две фразы: «Prim – malo (дрянь)» и «уо republicano» (я – республиканец). Все над ним подтрунивали, и никто не вступал с ним в разговор. Ко мне он сразу очень льнул, может, потому, что я один мог объясняться с ним по-английски.
Не без удивления узнал я от него, что газета «New York Tribune» послала его в Испанию как специального корреспондента. Редакция той же газеты вскоре потом отправила его отыскивать Ливингстона, что он и выполнил. Упорства и смелости у него достало на такую экспедицию, но в Мадриде он был совсем не на месте; но «куражу» не терял и вел себя совершенно по-американски во всем, что относилось к его ремеслу газетчика.
Как он смотрел на требование точности тех известий, какие он телеграфировал в длинных, страшно дорогих депешах, показывает такой факт.
Мы в конце моего пребывания в Испании поехали целой группой корреспондентов и депутатов (о чем я ниже расскажу подробнее) на юг Испании, и в больших городах депутаты-республиканцы устраивали митинги.
Первый митинг пришелся на Кордову.
После митинга – мы жили в одном отеле – Стэнлей зашел ко мне в номер и показал мне текст своей депеши, где стояло, что на этом митинге было больше пятнадцати тысяч народу.
– Помилуйте, Стэнлей, – остановил я его. – Да площадь не может вместить больше четырех-пяти тысяч. Да и их не было!
– Вот еще! – наивно вскричал Стэнлей. – Из-за чего же я стал бы посылать такую дорогую депешу!
Его коллеги-корреспонденты раз в Мадриде пошутили с ним в таком вкусе. Идея этой мистификации принадлежала французам.
Стэнлей был очень целомудрен. И его завели нарочно в один гостеприимный дом, «без классических языков», уверив его, что идут в кафе. В нижней зале было еще пусто в ожидании прихода «барышень». Он все ходил и осматривался. Эта пустота и отделка дома начали приводить его в недоумение. И он не выдержал и все спрашивал:
– Is it a coffee-house? (Разве это кофейная?) Наконец, когда на лестнице послышалось топанье женских туфель и говор «хорошеньких девушек», Стэнлей понял, куда его завели.
Прошли долгие годы. Он сделался всемирной знаменитостью. Из «янки» он опять перешел в подданство королевы Виктории, нажил состояние, женился на богатой и очень милой англичанке, устроился в Лондоне и попал депутатом в палату общин.
Тогда, в 1895 году (то есть ровно 26 лет после нашего житья в Мадриде в 1869 году), я навестил его в приемный день его жены, когда он уже был в некотором роде «особа», жил в прекрасно обставленном особняке и на его пятичасовом чае перед хозяйкой красовался русский посеребренный самовар.
Когда он повел меня из гостиной в свой кабинет с богатой отделкой книжными шкалами, я ему напомнил комический инцидент с coffee-house. Стэнлей много смеялся. Он уже не был такой целомудренный, и когда я в другой раз попал в гостиную его жены, то я по ее намекам понял, что и ей анекдот известен.
И вот уже и Стэнлей – покойник… и вся его судьба, особенно для тех, кто знавал его в Мадриде в 1869 году, кажется какой-то феерией.
Будь я простым туристом, даже и с хорошими деньгами, а не газетный сотрудник, я бы, попав в Мадрид, вряд ли и на одну половину был ввязан в его жизнь в какие-нибудь полтора месяца. Но для разъездов по всей стране с порядочными деньгами у меня было бы больше и досуга и средств. А то вышло так, что мы с Наке еле-еле пробивались и страдали от неаккуратной высылки довольно-таки скудного гонорара.
И вышло так, что в Андалузии я прямо из-за недостатка «пехунии», как мы говаривали студентами в Дерпте, не заехал даже в Гренаду, хотя и был в Севилье.
Поездку с депутатами Наке устроил с даровыми билетами. Таким образом я пробрался из Андалузии в Сарагоссу и Барселону, а оттуда на Пиринеи, во Францию и в Швейцарию. Но это случилось уже к августу.
Мадридское «сиденье» было для меня в физическом смысле довольно утомительно. Я – северянин и никогда не любил жары, а тут летний зной начал меня подавлять. Мой коллега Наке, как истый южанин, гораздо бодрее меня нес свою корреспондентскую службу, бегал по городу и днем, и даже в полдень. А я выходил только утром, очень редко от 12-ти до 4-х, и начинал «дышать» только по заходе солнца, когда, собственно, и начиналась в Мадриде бойкая жизнь.
Всего чаще мы отправлялись в тот политический клуб, о котором я упомянул выше, я садился на балкон, пил всякие прохладительные (особенно замороженный апельсинный сок – naranjade gelade), смотрел на уличное движение и разговаривал с теми, кого приводил неутомимый Наке и от кого мы тут же узнавали самые свежие новости.
С нами особенно сошелся один журналист, родом из Севильи, Д.Франсиско Тубино, редактор местной газеты «Andalusie», который провожал нас потом и в Андалузию.
Он был добродушнейший малый, с горячим темпераментом, очень передовых идей и сторонник федеративного принципа, которым тогда были проникнуты уже многие радикальные испанцы. Тубино писал много о Мурильо, издал о нем целую книгу и среди знатоков живописи выдвинулся тем, что он нашел в севильском соборе картину, которую до него никто не приписывал Мурильо.
Несколько молодых депутатов из крайней левой дружили с нами, нас принимал и Кастеляро в своей скромной квартире – тогда уже первая по таланту и обаянию фигура Кортесов, все такой же простой и общительный, каким я его зазнал в Берне на конгрессе всего какой-нибудь год назад. Помню, что он долго говорил нам о том, что ждет Испанию, если она не расстанется с таким политиком, как Прим, который метит ни больше ни меньше как в короли. Сам же Кастеляро тогда совсем не метил в президенты республики, каким судьба сделала его, но и тогда он был в душе республиканец, но централист, а не федералист, что и сказалось во всей его политической «платформе» и как простого депутата, и как президента.
Красноречие Кастеляро и тогда уже вошло в пословицу. А чтобы им выдвинуться среди испанцев, надо иметь совершенно исключительный дар.
Я часто – и с особым интересом – изучал самый процесс испанского красноречия. У них совершенно другой мозговой аппарат, чем, например, у нас или у немцев, англичан, – самой передачи умственных образов, артикуляции звуков. Она совершается у них с поражающей быстротой. И способность мыслить образами также совсем особенная. На банкете в Андалузии я стоял рядом с одним из ораторов, и этот образно-диалектический аппарат приводил меня в крайнее изумление.
Кастеляро отличался не этой стремительностью передачи идей и артикуляции, а красотой образов, мелодичностью тона, ритмом, жестами, игрой физиономии. Но во всем этом он был продукт позднейшего романтизма. То же сидело и в складе его мировоззрения, во всех его идеалах и принципах.
Стоит только припомнить его знаменитую речь о веротерпимости. Это было большой милостью для Испании, где еще царила государственная нетерпимость, не допускавшая ничего «иноверческого»; но в этой красивой и одухотворенной речи Кастеляро все-таки романтик, спиритуалист, а не пионер строгой научно-философской мысли. Таким он был и как профессор истории, и года изгнания не сделали его более точным исследователем и мыслителем.








