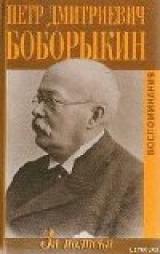
Текст книги "За полвека. Воспоминания"
Автор книги: Петр Боборыкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 46 страниц)
Тут звучала не одна узкопатриотическая жилка, а вспоминались дни великих событий и всемирной славы того города, откуда пошло в Европу великое освободительное движение.
Да и мелодрамы из современной жизни далеко не все были проникнуты буржуазной моралью. Еще наш Герцен перед самой февральской революцией с великим сочувствием разбирал в своих письмах из Парижа (появлявшихся в «Современнике») такие мелодрамы, как «Парижский ветошник» тогдашнего республиканца и социалиста Феликса Пиа, впоследствии заговорщика и изгнанника. В таких пьесах заложены были и «разрывные» идеи. Во Вторую империю им уже не было такого свободного доступа на подмостки, но мелодрама продолжала, удерживая свой подвинченно-сентиментальный строй, давать бытовые картинки из разных углов и подполий парижской бедноты с прибавкою интересной уголовщины.
На сценах «Porte St. Martin» и «Ambigu» нам удалось захватить еще игру ветеранов романтической эпохи, таких актеров, как знаменитый когда-то Мелэнг и «великий» (так его называют и до сих пор) Фредерик Леметр, или просто «Фредерик» – как французы говорят всегда «Сара», а не «Сара Бернар».
Мелэнг (Melingue) оставался долгие годы героем пьес «плаща и шпаги» – драм из истории Франции, особенно эпохи Возрождения и XVII века. Главным поставщиком таких спектаклей был Дюма-отец. И вот, в одной из его прославленных драм «La Tour de Nesle» («Нельская башня») мне еще привелось видеть Мелэнга, тогда уже старого, в роли героя. Для меня, тогда так любившего театр и его историю, такие спектакли являлись чистым кладом. В них вы воочию видели и чувствовали целую эпоху: дух репертуара, манеру исполнения, дикцию, костюмировку, декоративную «mise en scene» – все.
Фредерика Леметра мне привелось видеть несколько позднее. Он уже сошел со сцены за старостью, но решился для последнего прощания с публикой исполнить ряд своих «коронных» ролей. И я его видел в «Тридцать лет, или Жизнь игрока» – мелодраме, где у нас Каратыгин и Мочалов восхищали и трогали наших отцов.
Было немного жутко смотреть на него в первом акте; в конце он еще потрясал, хотя и говорил со старческим шамканьем. Но вы опять-таки воспринимали уже исчезнувший пошиб игры и понимали, чем «Фредерик» трогал и поражал залу 40-х годов. В нем тогда, быть может впервые, явился настоящий реалист мелодрамы. Вам становились понятны восторженные оценки всех лучших знатоков театра той эпохи. Но он остался и старцем с этой основой реалистического трагизма. Для его прощаний с публикой написана была и новая драма, где он, и по пьесе старик, пораженный ударом судьбы, сходит мгновенно с ума и начинает, в припадке безумия, танцевать по комнате со стулом в руках.
Другой обломок той же романтической полосы театра, но в более литературном репертуаре, Лаферрьер, еще поражал своей изумительной моложавостью, явившись для прощальных своих спектаклей в роли дюмасовского «Антони», молодого героя, которую он создал за тридцать лет перед тем. Напомню, что этот Лаферрьер играл у нас на Михайловском театре в николаевское время.
С годами, конечно, парижские театры драмы приелись, но я и теперь иногда люблю попасть на утренний спектакль в «Ambigu», когда удешевленные цены делают театральную залу еще более демократичной. А тогда, в зиму 1865–1866 года, эта публика была гораздо характернее. Теперь и она стала более чинной и мещански чопорной.
Тогдашний партер, и ложи, и галереи в антрактах гудели от разговоров, смеха и возгласов. Продавцы сластей и газет выкрикивали свой товар. В воздухе носились струи запаха апельсин. Гарсоны театральных кафе, пронизывая общий гул, выкрикивали: «Оршад, лимонад, пиво!» Тогда соседи непременно заговаривали с вами первые; а теперь – никогда. Да и отделка зал, дорогие, сравнительно с прежними, цены – все это сделало и «Бульвар преступлений» совсем другим. Тогда сверху то и дело слетали негодующие возгласы зрителей, возмущенных преступностью и коварством главного злодея: «Каналья! Убийца! Негодяй!» А когда, в заключительной сцене, невинность пьесы спасалась от ков этого злодея и герой произносил: «Спасена! Благодарю тебя, господь!» – весь театр плакал чуть не навзрыд.
Многим сторонам жизни Парижа и я не мог еще тогда отдаться с одинаковым интересом. Меня тогда еще слишком сильно привлекал театр. А в следующем году я производил экскурсии в разные сценические сферы, начиная с преподавания театрального искусства в консерватории и у частных профессоров.
И в журнализм, в писательские сферы я еще не проникал. Не привлекала меня особенно и политическая жизнь, которая тогда сводилась только к Палате. Париж еще не волновался, не происходило еще ни публичных митингов, ни таких публичных чтений, где бы бился пульс оппозиции. Все это явилось позднее.
Мне хотелось прожить весь этот сезон, до мая, в воздухе философского мышления, научных и литературных идей, в посещении музеев, театров, в слушании лекций в Сорбонне и College de France. Для восстановления моего душевного равновесия, для того, чтобы почувствовать в себе опять писателя, а не журналиста, попавшего в тиски, и нужна была именно такая программа этого полугодия.
Через Вырубова я сошелся с кружком молодых французов, образовавших общество любителей естественных наук. У нас были заседания, читались рефераты; с наступлением весны мы производили экскурсии в окрестностях Парижа – оживленные и веселые.
Русских тогда в Латинском квартале было еще очень мало, больше все медики и специалисты – магистранты. О настоящих политических «изгнанниках» что-то не было и слышно. Крупных имен – ни одного. Да и в легальных сферах из писателей никто тогда не жил в Париже. Тургенев, может быть, наезжал; но это была полоса его баденской жизни. Домом жил только Н.И.Тургенев – экс-декабрист; но ни у меня, ни у моих сожителей не было случая с ним видеться.
В России все казалось тихо и невозмутимо.
И вдруг – каракозовский выстрел!
О нем я узнал в нашем отеле, на лестнице, возвращаясь откуда-то. Мой сосед, француз-адвокат, очень умный и начитанный малый, который с нами и обедал за табльдотом, – остановил меня и сообщил:
– Стреляли в императора, в каком-то публичном саду!
Но я не могу сказать, чтобы это произвело тогда особую сенсацию. Скорее удивление. Никто на Западе еще не предвидел, что Россия вступит в период глухого политического брожения. Конечно, возмущались и тем, что «царь-освободитель» мог сделаться жертвой покушения.
Так как я уехал в Париж без всякой работы в газете или журнале как корреспондент, то я и не должен был бегать по редакциям, отыскивать интересные сюжеты для писем.
И, повторяю, это было чрезвычайно выгодно для моего самообразования и накопления сил для дальнейшей писательской дороги.
Пришла весна, и Люксембургский сад (тогда он не был урезан, как впоследствии) сделался на целые дни местом моих уединенных чтений. Там одолевал я и все шесть томов «Системы позитивной философии», и прочел еще много книг по истории литературы, философии и литературной критике. Никогда в моей жизни весна – под деревьями, под веселым солнцем – не протекала так по-студенчески, в такой гармонии всех моих духовных запросов.
Париж я полюбил. Он тогда не был так шумен и громаден, как теперь, но милее, наряднее, гораздо чище, с некоторым аристократическим пошибом. И то, что тогда мыслило и чувствовало с более серьезными запросами, надеялось на лучшие времена.
Было в воздухе нечто, что потом, при Третьей республике, утратилось, когда настало царство довольной массы, более грубой погони за деньгами, тщеславием и чувственными утехами.
Хоть тогда и царствовал «Наполеонтий», как мы презрительно называли его, но все-таки и тогда из Парижа шло дуновение освободительных идей. Если у себя дома Бонапартов режим все еще давал себя знать, то во внешней политике Наполеон III был защитник угнетенных национальностей – итальянцев и поляков. Италия только что свергнула с себя иго Австрии благодаря французскому вмешательству.
Итальянская кампания довершила то, что начал легендарный герой Италии – Гарибальди.
Поляки начали эмигрировать в Париж после восстания 1863 года. Да и прежде, после революции 1831 года, они удалялись сюда же. Здесь, в отеле «Ламбер», жил при нас и их «круль», то есть князь Чарторыйский. У них был в Париже особый патриотический фонд, и правительство Наполеона III давало им субсидию.
Существовал уже и их «Коллегий св. Станислава».
В последнее восстание они мечтали о вмешательстве Наполеона III. И вообще у них был культ «наполеоновской идеи». Они все еще верили, что «крулевство» будет восстановлено племянником того героя, под знаменем которого они когда-то дрались в Испании, в Германии, в России в 1812 году.
После Парижского мира во всей Западной Европе (а тем паче в Париже) держалась легенда о том, что от России было потребовано освобождение крепостных. Если это и вздор, то она прямо показывает, что Наполеона III считали способным на такую роль. Хоть он в глазах демократов и даже умеренных либералов и считался «злодеем», изменнически нарушившим свою присягу конституции как президент республики, но у него самого были (как выразился при мне старик Литтре) «des prejuges liberaux» – «либеральные предрассудки». И даже больше: он всегда имел склонность к социализму и еще до своего заключения в крепость Гам выпустил в свет брошюру «Об искоренении нищеты» и даже просил правительство Луи-Филиппа дозволить ему в крепости свидание с тогдашним вожаком французских социалистов Луи Бланом. Когда я дойду до знакомства моего с Луи Бланом (в Лондоне в 1868 году), я приведу и его мнение о тогдашнем гамском узнике, сделавшемся императором после переворота 2 декабря.
В Париже и после тогдашнего якобы либерального Петербурга жилось, в общем, очень легко. Мы, иностранцы, и в Латинском квартале не замечали никакого надзора. По отелям и меблировкам ходили каждую неделю «инспекторы» полиции записывать имена постояльцев; но паспорта ни у кого не спрашивали, никогда ни одного из нас не позвали к полицейскому комиссару, никогда мы не замечали, что нас выслеживают.
Ничего подобного!
И французам жилось куда вольнее, чем жителям Петербурга и Москвы. На улице, в кафе, в театре, на публичном балу вы себя чувствовали совсем легко, и вот эта-то легкость жизни в публике и составляла главную прелесть Парижа.
Да и над литературой и прессой не было такого гнета, как у нас. Предварительной цензуры уже не осталось, кроме театральной. Система предостережений– это правда! – держала газеты на узде; но при мне в течение целого полугодия не был остановлен ни один орган ежедневной прессы. О штрафах (особенно таких, какие налагаются у нас теперь) не имели и понятия.
Привлекательность Парижа заключалась и в том, что вы видели всюду картины довольства, во всех слоях общества, в бедном люде, в рабочих, в ремесленниках.
Все это пользовалось жизнью гораздо легче, веселее, чем у нас, имело более крупный заработок, тратило гораздо меньше, чем у нас в обеих столицах. Тогда действительно было дешево жить в Париже, даже и не по сравнению с нашей дороговизной. Хорошенькая годовая квартира стоила ка– ких-нибудь пятьсот франков в год, даже и дешевле. В Латинском квартале бедные студенты находили обеды (с вином!) за франк и даже за девяносто сантимов.
Существовали уже и «бульонные заведения» с маленькими ценами на все – на тридцать и более процентов дешевле теперешних цен в таких же «Etablissements du bouillon». Стакан красного вина в кабачке стоил десять-пятнадцать сантимов. В маленьких закусочных бедная молодежь находила все, что ей нужно: молоко, кофе, бульон, бифштекс, жареный картофель – по самым микроскопическим ценам.
Вы видели вокруг себя, что, несмотря на водворение империи, вы живете в демократическом государстве, где и трудовой люд не чувствует себя отверженными париями и где, кроме того, значилось и тогда до семи миллионов крестьян-собственников.
Моя «студенческая» жизнь в Латинском квартале за все эти полгода не нарушалась никакими неприятными инцидентами, текла мирно, разнообразно и с чрезвычайным подъемом всех душевных сил. Из Петербурга я получал деловые письма и знал вперед, что моему парижскому блаженному житию скоро настанет конец и надо будет вернуться домой – окончательно ликвидировать злосчастную антрепризу «Библиотеки для чтения».
А пока я сидел под тенистыми каштанами Люксембургского сада и впитывал в себя выводы положительной философии. Этот склад мышления вселял особенную бодрость духа. Все в природе и человеческом обществе делалось разумным и необходимым, проникнутым бесконечным развитием, той эволюцией, без которой потом в науке и мышлении нельзя уже было ступить ни единого шага.
А мудреца позитивизма я видел в старике Литтре, с которым меня еще тогда познакомил Вырубов, через год задумавший издавать вместе с ним журнал «Philosophic Positive».
Литтре уже и тогда смотрел стариком, но без седины, с бритым морщинистым лицом старой женщины, малого роста, крепкий, широкий в плечах, когда-то считавшийся силачом. Он смахивал скорее на провинциального учителя или врача, всегда в черном длинноватом сюртуке, скром ный, неловкий в манерах, совсем не красноречивый, часто молчаливый, с незвучным произношением отрывистой речи.
Никто бы из иностранцев не подумал, что перед ним парижанин. Таких я уже потом не встречал в Париже ни в каких сферах —: ни в прессе, ни среди поэтов и писателей, ни среди профессоров, адвокатов, медиков.
Жил он тогда около Люксембургского сада, в тесноватой квартире, с женой и дочерью, стареющей девицей. Мне уже было известно через Вырубова, что у этого позитивиста, переводчика книги Штрауса об Иисусе Христе, жена и дочь – ярые клерикалки. Но у мудрецов всегда так бывает. И у Сократа была жена Ксантиппа. А эти по крайней мере не ссорились с ним и оберегали его спокойствие и материальное довольство. Но и требовательность его была самая философская. Он работал целыми днями в крошечном кабинете, и тут же, на маленьком столике, ему ставили завтрак, состоявший из самой скудной пищи. Работоспособность в этом уже 60-летнем старике была изумительная. Он мог без устали, изо дня в день работать до шестнадцати часов и никуда не ходил, кроме заседаний «Института», где был уже членом по разряду «Надписей и литературы» (и где его приятелем был Ренан), и визитов к вдове Огюста Конта – престарелой и больной; к ней и наш Вырубов являлся на поклон и, как я позднее узнал, поддерживал ее материально.
Литтре, при научно-философском свободомыслии, не был равнодушен к общественным и политическим вопросам. В нем сидел даже немножко инсургент революции 1848 года, когда он с ружьем участвовал в схватке с войсками и муниципальной стражей.
Предметом его ненависти оставался Наполеон III. И эту нелюбовь к Бонапартову режиму распространял он и на великого главу династии. Это был род его «пунктика».
Он не только оценивал «корсиканца» как хищного себялюбца с манией величия, но отрицал и его военный гений. По этой части они могли бы подать друг другу руку с Л.Толстым, который как раз в эти годы писал «Войну и мир». Необычайных административных способностей он не отрицал у Наполеона I, а только его военный гений. Литтре молодым человеком состоял секретарем у одного из бывших министров Бонапарта. И тот рассказывал ему постоянно, какой изумительный работник был император и как был одарен для всего, что входит в машину управления.
Судьбе угодно было побаловать Литтре свержением наполеоновской династии 4 сентября 1870 года. Он попал даже и в депутаты.
Но писатель снова заговорил во мне. И опять в драматическую форму вылились оба моих замысла, комедия «Иван да Марья» и драма «Скорбная братия».
Я писал их в часы отдыха от чтений и экскурсий по Парижу. Ни та, ни другая вещь не появились даже в печати. «Иван да Марья» была дана в следующий сезон (как я уже упоминал) в мое отсутствие на Александрийском театре – и без всякого успеха.
А драма «Скорбная братия» была скорее повесть в диалогах на тему злосчастной судьбы «братьев писателей». В герое я представлял себе бедного Помяловского, безвременно погибшего от роковой страсти к «зелену вину». Рукопись этой вещи у меня зачитал один бывший московский студент, и я не знаю, сохранилась ли черновая в моих бумагах, хранящихся в складе в Петербурге.
Писал я ее под конец моего житья в Париже. И когда кончил, то пригласил Вырубова и Петунникова, моих сожителей, в ресторан Пале-Рояля, в отдельный кабинет, и там до поздних часов ночи читал им драму. Она им очень понравилась. Но я и тогда не мечтал ставить ее.
В мае по письмам из Петербурга выходило так, что следует ускорить ликвидацию.
Мне сделалось самому жутко заживаться за границей, когда надо идти на все те, хотя бы и очень тяжкие, последствия, которые ликвидация могла повести за собою.
Меня начало усиленно тянуть в Россию. Последние деньги, какие у меня еще оставались, я расчел так, чтобы успеть доехать до Петербурга, заехав на два дня в Гейдельберг, где тогда жило семейство той девушки, с которой я мечтал еще так недавно обвенчаться.
Жаль мне было Парижа, почти до слез жаль. Помню, как последний вечер я до поздней ночи бродил по улицам и бульварам, усталый, очутился около церкви Мадлены, сел на скамью и глубоко загрустил. Но ехать было надо. И я поехал.
Мои кредиторы тем временем не дремали. Тотчас по приезде я испытал даже некоторое предвкушение долговой тюрьмы, потому что на полусуток должен был высидеть в канцелярии какой-то части.
Все полгода, с мая по конец декабря, проведенные мною в Москве, я причисляю к моему первому парижскому периоду. О том, что я сделал для удовлетворения моих кредиторов, я уже рассказал в предыдущей главе, но писательская моя жизнь, сначала в Сокольниках, где я гостил в семействе князя А.И.Урусова, потом в Москве, полна была Парижем, тамошними моими «пережитками». Летом и к началу зимы я приготовил к печати две вещи: одну по сценической критике, другую – роман «В чужом поле». И то и другое дано было исключительно моей парижской жизнью. В романе я создал лицо молодого русского, увлеченного Парижем и жадного до всяких наслаждений, влюбчивого, самолюбивого и настолько богатого, чтобы вести более широкую роль «знатного иностранца». Фабула была мною сочинена, но подробности быта в «Латинской стране» и некоторые лица французов и француженок были выхвачены из реальной жизни. Большая статья точно так же заполнена была одним Парижем театров и озаглавлена «Мир успеха». Посвятил я ее памяти М.С.Щепкина. В этом роде у нас еще не появлялось тогда журнальных этюдов.
Сезон в Москве шел бойко. Но к Новому году меня сильно потянуло опять в Париж. Я снесся с редакторами двух газет в Москве и Петербурге и заручился работой корреспондента. А газетам это было нужно. К апрелю 1867 года открывалась Всемирная выставка, по счету вторая. И в конце русского декабря, в сильный мороз, я уже двигался к Эйдкунену и в начале иностранного января уже поселился на самом бульваре St. Michel, рассчитывая пожить в Париже возможно дольше.
Париж еще сильно притягивал меня. Из всех сторон его литературно-художественной жизни все еще больше остального – театр. И не просто зрелища, куда я мог теперь ходить чаще, чем в первый мой парижский сезон, а вся организация театра, его художественное хозяйство и преподавание. «Театральное искусство» в самом обширном смысле стало занимать меня, как никогда еще. Мне хотелось выяснить и теоретически все его основы, прочесть все, что было писано о мимике, дикции, истории сценического дела.
Из Москвы я поехал даже с мечтой… быть может, самому подготовить себя к сцене.
До того (хотя я еще в Дерпте считался очень выдающимся любителем) мне сколько-нибудь серьезно не приходила эта мысль.
Для поправления своего материального положения я мог бы выбрать тогда адвокатскую деятельность (к сему меня сильно склонял Урусов, только что поступивший в окружной суд), но я смотрел тогда (да и впоследствии) совсем не сочувственно на профессию адвоката. А она, конечно, дала бы мне в скором времени хороший заработок – я имел все данные и все права, чтобы сделаться «присяжным поверенным». Мечта о сцене была совершенно бескорыстна. Расчеты на выгодную карьеру в нее абсолютно не входили.
Половина зимы в Москве держала меня все-таки в воздухе сцены. Только что был открыт Художественный кружок, который в зиму 1866–1867 года скромно помещался еще на Тверском бульваре. Там каждый почти вечер я находил писательское и актерское общество: Островский, Плещеев (с ним мы тут ближе и сошлись); все корифеи Малого театра: Садовский, Живокини, Самарин, Ек. Васильева, Косицкая, Вильде, который начал уже играть роль в дирекции. Там я на одном из вечеров прочел и свою пьесу «Иван да Марья». Но ставить я ее в Москве не собирался, да, кажется, она и не особенно понравилась артистам, которые слушали ее на том вечере.
Вероятно, воздух Малого театра, пахнув опять на меня, вызвал во мне более глубокую и искреннюю думу о нашем сценическом искусстве и нашем избранном репертуаре. Факт тот, что я взял с собою в Париж маленькую библиотеку, и лицо Чацкого захватывало меня так, как никогда раньше.
Я стал даже мечтать о комедии, которая бы через сорок с лишком лет была создана на такую же почти идею. Помню, что в Париже (вскоре после моего приезда) я набросал даже несколько монологов… в стихах, чего никогда не позволял себе. И я стал изучать заново две роли – Чацкого (хотя еще в 1863 году играл ее) и Хлестакова. Этого мало – я составлял коллекцию костюмов для Чацкого по картинкам мод 20-х годов и очень сожалею, что она у меня затерялась.
Моя мечта о сцене как новой художественной дороге не осуществилась. Но интерес к театру, в самом обширном значении и содержании, не пропадал. А Париж, особенно тогда, представлял собою самое обширное поле для изучений всякого рода, начиная с вопроса о преподавании театрального искусства. И по этой части единственно во Франции было национальное учреждение. Консерватория не только «музыки», но и «декламации», даровая высшая школа, предоставленная всем, у кого окажутся способности к делу драматического артиста.
Я уже сказал, что приехал в Париж, заручившись и работой корреспондента. Первая газета, с которой я условился по этой части, была «Москва» (потом «Москвич») – орган Ивана Аксакова. Я в Москве поехал к нему и сговорился. Тогда я его и видел поближе и помню отчетливо его квартиру и тесноватый кабинетик, куда надо было (как это бывает в московских домах) спускаться вниз одну ступеньку. Раньше я его видал и слышал издали. Он меня принял ласково и согласился печатать письма и о парижской общей жизни, и о политике, литературе и выставке, когда она весной откроется.
А уже из Парижа я списался с редакцией газеты «Русский инвалид». Редактора я совсем не знал. Это был полковник генерального штаба Зыков, впоследствии заслуженный генерал. Тогда газета считалась весьма либеральной. Ее постоянными сотрудниками состояли уже оба «сиамских близнеца» тогдашнего радикализма (!) Суворин и Буренин как фельетонисты.
У Аксакова я подписывался буквами, а для «Инвалида» сочинил псевдоним «Авенир Миролюбов».
Так я обставил свой заработок в ожидании того, что буду писать как беллетрист и автор более крупных журнальных статей. Но прямых связей с тогдашними петербургскими толстыми журналами у меня еще не было.
Поселился я опять в Латинском квартале, на самом Boulevard St.Michel – главной артерии «квартала школ», как парижане до сих пор зовут эту часть города.
Тогда из студенческих кафе одним из самых бойких было Кафе молодой Франции, и теперь еще существующее, хотя и в измененном виде. Верхний над ним этаж занимали меблированные комнаты, довольно чистенькие, содержимые «мадамой» с манерами и тоном светской женщины. Было это уже подороже того, что мы с москвичами платили в Hotel Lincoln. Из них ботаник Петунников вернулся в Россию, а Вырубов совсем устроился в Париже, взял квартиру, отделал ее и стал поживать, как русский парижанин. Он продолжал свои работы по химии и минералогии, интересовался и медициной и расширял свое знакомство в научных сферах. Тогда уже он задумывал издавать с Литтре философский журнал. У него стали собираться позитивисты. А к следующему сезону он назначил дни – сколько помню, по четвергам, и через три года в один из них состоялось и мое настоящее знакомство с А.И.Герценом.
Программа моего парижского дня делалась гораздо разнообразнее, а стало быть, и пестрее. Я уже был корреспондент и обязан был следить за всякими выдающимися сторонами парижской жизни.
До открытия Всемирной выставки на Марсовом поле, в апреле, я имел достаточно досуга, чтобы отдаться моему специальному интересу к театру.
Познакомился я еще в предыдущий сезон с одним из старейших корифеев «Французской комедии» – Сансоном, представителем всех традиций «Дома Мольера». Он тогда уже сошел со сцены, но оставался еще преподавателем декламации в Консерватории. Я уже бывал у него в гостях, в одной из дальних местностей Парижа, в «Auteuil».
Тогда он собирал к себе по вечерам своих учеников и бывших сослуживцев. У него я познакомился и с знаменитым актером Буффе, тогда уже отставным.
Для меня Сансон, вся его личность, тон, манера говорить и преподавать, воспоминания, мнения о сценическом искусстве были ходячей летописью первой европейской сцены. Он еще не был и тогда дряхлым старцем. Благообразный старик, еще с отчетливой, ясной дикцией и барскими манерами, живой собеседник, начитанный и, разумеется, очень славолюбивый и даже тщеславный, как все сценические «знаменитости», каких я знавал на своем веку, в разных странах Европы.
Сансон выпустил тогда в свет целую теорию сценического искусства в стихах, вроде «Эстетики» Буало. Книга называется «Театральное искусство». В ней александрийским размером преподаются разные афоризмы и правила и приведены случаи и анекдоты из истории, главным образом «Французского театра». Но эта книга (в своем роде единственная в литературе педагогической драматургии давала мне толчок к более серьезному знакомству с литературой предмета на разных языках.
Тогда я стал собирать и выписывать книги теоретического характера, и мемуары знаменитых артистов, и специальные сочинения по разным отделам театрального искусства.
Как преподаватель в классе Консерватории, Сансон держался тона учителя «доброго старого времени», всем говорил «ты», даже и женщинам, покрикивал на них весьма бесцеремонно и частенько доводил до слез своих слушательниц.
Преподавание драматического искусства находилось при мне в руках четырех «сосьетеров»: (постоянных членов труппы) Сансон, Ренье, Брессан и посредственный актер Тальбо.
Отдел этот составлял маленькое «государство в государстве». Главное начальство в лице директора, композитора Обера, ни во что не входило. Но я все-таки должен был явиться и к Оберу – попросить позволения посещать классы декламации, которое он мне сейчас же и дал.
Обер и в то время был уже старенький старичок, «в прошедшем веке запоздалый», употребляя стих Пушкина. Всякий принял бы его у нас за чиновника, состарившегося на департаментской службе: небольшого роста, худощавый, бритый, с седым старомодным хохлом и такими же «височками» и бакенбардами.
Принял он меня в салоне своей казенной квартиры в здании Консерватории, в зимнее пасмурное утро, очень рано. В салоне стоял старенький «фишель», покрытый суконным чехлом. На нем он сочинял, вероятно, свою «Немую из Портичи» и «Фра-Дьяволо».
Но и тогда еще, во второй половине 60-х годов, он только что поставил новую оперу на театре Opera Comique свою последнюю вещь. Она и названа им была «Первый день счастья». И главную роль он писал для хорошенькой певицы, бывшей воспитанницы Консерватории и его любимицы – Marie-Rose. Парижская стоустая молва повторяла, что эта молоденькая и чрезвычайно красивая девица была его возлюбленной! Эго – в возрасте-то сильно за семьдесят лет! Хоть бы впору олимпийцу Гете, который страстно влюбился на 75-м году и совсем было собрался жениться на девице Леветцов!
Консерваторская выучка имела очень сильные пробелы в своей программе. Начать с того, что разучиванья целых пьес, то есть создания ролей на настоящих ученических спектаклях, вовсе не полагалось. В зале классов имелась, правда, сцена, и вся она была устроена в виде театра. Но на этой сцене никогда не давали спектаклей. Ученики и ученицы выходили на подмостки и исполняли отдельные места из трагедий и комедий «классического» репертуара – и только. Стало быть, ни гримировки, ни костюмов, ни создания ролей, ни ансамбля – ничего. То же продолжается, кажется, и теперь. Французы – чрезвычайные рутинеры во всем, что отзывается «традицией», и до сих пор пресса не поднимала протеста против такой рутинной системы обучения.
Тогда, то есть во второй половине 60-х годов, не было никаких теоретических предметов: ни по истории драматической литературы, ни по истории театра, ни по эстетике. Ходил только учитель осанки, из танцовщиков, да и то никто не учился танцам. Такое же отсутствие и по части вокальных упражнений, насколько они необходимы для выработки голоса и дикции.
Занимались исключительно дикцией. И до сих пор это – главная забота французских профессоров и всего французского сценического дела. В дикции, в уменье произносить стихи и прозу, в том, что немцы называют «Vortrag», a русские неправильно «читкой» – альфа и омега французского искусства.
При традиционном, обязательном исполнении на двух национальных театрах («Французской комедии» и «Одеоне») классического репертуара выработка дикции делалась первенствующей заботой. Но слушатели и слушательницы Консерватории усваивали себе слишком условную манеру произносить стихи и прозу. Более реальная манера говорить, разные оттенки светского и бытового разговора совсем не преподавались, не говоря уже о том, что создание характеров и проведение роли через всю пьесу и ансамбль оставались в полном забросе, что, как слышно, продолжается и до сих пор.
Но в тех условиях, в какие преподавание было поставлено в Консерватории, все-таки в Париже оно велось как нигде. Довольно было и того, что лучшие силы Comedie Francaise назначались из сосьетеров. И каждый из них представлял собою особый род игры, особое амплуа; следовательно, достигалось разнообразие приемов, дикции и мимики.
Сансон был слуга мольеровской комедии, перешедший потом на амплуа «благородных отцов». Но он и по трагедии считался хорошим преподавателем. Он был учитель Рашели, о которой он мне немало рассказывал. В смысле «направления» он стоял за простоту, правду, точность и ясность дикции и был врагом всякого «романтического» преувеличения, почему и не очень высоко ставил манеру игры «Фредерика» (Леметра) и раз даже передразнил мне его жестикуляцию и его драматические возгласы.








