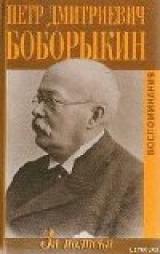
Текст книги "За полвека. Воспоминания"
Автор книги: Петр Боборыкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 46 страниц)
Он считался образцовым чтецом, но стоял по таланту и манере гораздо ниже таких актеров-профессоров Парижской консерватории моего времени, как Сансон, Ренье, Брессан, а впоследствии знаменитый jeune premier классической французской комедии – Делоне.
И Стракош, и другие знатоки декламации и дикции немецкой школы держались все-таки условного тона, особенно в пьесах «героического» репертуара, в стихотворных драмах и комедиях – с певучестью и постоянным попиранием на отдельные слова, возгласы и даже целые тирады. Это чувство усилия и внешней «подвинченности» до сих пор портит немецкую «читку», как выражаются у нас актеры. Только в комедии читка у них и тогда была проще, а в Бург-театре тон «высокой комедии» был хороший, мало уступавший манере вести диалог на лучших парижских сценах.
На жанровых венских сценах, где шли легкие комедии и Posse местного производства, в «Theater ander Wien», в «Karl-Theater» и в театре Иозефштадтского предместья (где шли постоянно и пьесы на венском диалекте) преобладал реализм исполнения, но все-таки с рутинными приемами и повадками низшего, фарсового комизма.
Среди таких комиков легкого жанра некоторые отличались своей веселостью, прирожденным комизмом и всегдашним уменьем приводить залу в жизнерадостное настроение. Огромной популярностью пользовался многие годы комик-буфф Блазель (по венскому прононсу Блёзель), особенно в пьесах из венской жизни, где он говорил на диалекте.
Литературные сферы Вены специально не привлекали меня после Парижа. И с газетным миром я познакомился уже позднее, в зиму 1869 года, через двоих видных сотрудников «Tagblatt'a» и «Neue Freie Presses». А в первый мой сезон (с октября 1868 года по апрель 1869) я не искал особенно писательских связей.
Вышло это оттого, что Вена в те годы была совсем не город крупных и оригинальных дарований, и ее умственная жизнь сводилась, главным образом, к театру, музыке, легким удовольствиям, газетной прессе и легкой беллетристике весьма не первосортного достоинства. Те венские писатели, которые приподняли австрийскую беллетристику к концу XIX века, были тогда еще детьми. Ни один романист не получил имени за пределами Австрии. Не чувствовалось никаких новых течений, хотя бы и в декадентском духе.
На всех лежала печать посредственности, за исключением, быть может, некоторых тогда еще только начинавших лирических стихотворцев.
Национальной, чисто австрийской славой жил престарелый Грильпарцер. Его пьесы не сходили с подмостков Бург-театра (вроде «Des Meeres und der Liebe Wcllen») («Геро и Леандр») с Вальтер в роли Геро. Но он уже доживал свой век, нигде не показывался и принадлежал уже больше к царству теней, чем к действующим писателям.
Драматург (и отчасти беллетрист) Вильдебрандт – не знаю, был ли австриец родом.
Он тогда был в расцвете своих сил, ставил пьесы на Бург-театре (и женат был на молодой актрисе этой сцены), но не представлял собою особенно крупной творческо-художественной величины.
Да и вообще тогда не было в Вене никаких центров чисто литературного движения.
Поразительно бедной являлась столичная жизнь по части публичных чтений, литературных conferences, писательских вечеров, фестивалов или публичных заседаний литературного оттенка.
Печать «легкости» лежала на всей интеллигентной Вене. И даже как-то плохо верилось, что в этом самом городе есть старый университет, процветает блестящая Медицинская школа, куда приезжают учиться отовсюду – и из Германии, и из России, и из Америки.
В университет я заглядывал на некоторых профессоров. Но студенчество (не так, как в последние годы) держало себя тихо и, к чести тогдашних поколений, не срамило себя взрывами нетерпимого расового ненавистничества. Университет и академические сферы совсем не проявляли себя в общем ходе столичной жизни, гораздо меньше, чем в Париже, чем даже в Москве в конце 60-х годов.
Жуирный, вивёрский склад венской культурной публики не выказывал никаких высших потребностей ни по философским вопросам, ни по религиозным, ни по эстетическим, ни по научным. По всем этим сферам мысли, работы и творчества значились профессора и разные специалисты. Но их надо было отыскивать. Они составляли особый мирок, который совсем почти не влиял на общее течение столичной культурности, на вкусы и увлечения большой публики.
Газеты и тогда уже входили в жизнь венца как ежедневная пища, выходя по несколько раз в день. Кофейни в известные часы набиты были газетной публикой. Но и в прессе вы не находили блеска парижских хроникеров, художественной беллетристики местного происхождения, ничего такого, что выходило бы за пределы Австрийской империи с ее вседневной политиканской возней разных народностей, плохо склеенных под скипетром Габсбургов.
И в венских газетах уже и тогда развилась – до степени махровой специальности – сексуальная и порнографическая публичность: обычай читать целые столбцы и страницы объявлений не только по части брачных предложений, но со всевозможными видами любовной корреспонденции и прямо публичной и тайной проституции, продажности не только со стороны женщин, но и от разных «кавалеров». Это проникло и к нам, но только тридцать лет спустя. И каждый венец за утренним и вечерним кофе накидывается и до сих пор на эти специфические объявления, письма и предложения. Без них ему никакая газета не будет «всласть». Поэтому ни в какой столице мира (не исключая и Парижа) не происходит такой беспрерывной и несмолкаемой игры в забавные похождения и всякие формы эротизма, половой распущенности и торговли своим грешным телом – и вовсе не в одной сфере проституции, а во всех классах общества.
Венский фашинг того времени еще полон был чувственной жизненности и всяких позывов к развеселому житью, которые совсем не притихли всего каких-нибудь два года после разгрома Австрии на полях Садовой. Об этом что-то никто не тужил.
Империя сделалась дуалистической, и когда-то крамольные венгерцы теперь как бы спасали империю той ролью, какую они стали играть.
Венцы и венки справляли фашинг по балам, маскарадам и Promenade концертам – тогда еще настоящее венское удовольствие, неизвестное ни в Берлине, ни в Париже, дешевое и очень приятное. Кроме военных хоров, играл оркестр Штрауса. Все трое братьев были еще тогда живы. Иоганн уже перешел от сочинений вальсов к оперетке; а Иосиф и Эди (Эдуард) попеременно выступали капельмейстерами в разных залах, не с одной только палочкой, но и со скрипками. Иосиф был очень талантлив как композитор бальной музыки и скрипач, но его хмурое лицо не могло очень весело настроивать залу. Зато Эди, менее даровитый и как композитор, и как скрипач, постоянно подпрыгивал под такт, франтоватый, подзавитой и с усиками в ниточку.
Легкость нравов во время фашинга делалась еще откровеннее, но все-таки на публичных балах и в маскарадах вы не видали такого сухого цинизма, как в тогдашнем Париже, – даже и в знаменитом заведений Шперля с его ежедневными объявлениями в «Tagblatt'e», где неизменно говорилось, что у Шперля балы более чем хороши и что каждый иностранец идет к Шперлю. И в самом деле, каждый приезжий мужчина, холостой или женатый, после театра отправлялся в этот общедоступный притон (если посмотреть построже) и кутил там до зари.
В Вене тип кокотки высшей марки еще не создавался, зато легких женщин всяких рангов и цен, начиная с кельнерши и гувернантки и кончая певичками и танцовщицами, город был полон. Да и в бюргерстве, в мелком чиновничестве и даже в светском кругу доступность женщин была и тогда такая же, как и теперь, в начале XX века.
В дворцовых залах, известных под именем «Reduten-Sale», в фашинг давались маскарады высшего сорта. Тут эрцгерцоги, дипломаты, генералы, министры смешивались с толпой масок. Это напоминало петербургские маскарады моей первой молодости в Большом театре и в Купеческом клубе – в том доме, где теперь Учетный банк.
Там можно было видеть веселого старика с наружностью отставного унтера, в черном сюртуке – дядю императора, окруженного всегда разноцветными домино. Тут же прохаживался с маской под руку и тогдашний первый министр Бейст, взятый на австрийскую службу из Саксонии – для водворения равновесия в потрясенной монархии Габсбургов.
Мой венский сезон не прошел для меня и без экскурсий в мир университетской науки, больше через посредство русских молодых людей – медиков и натуралистов.
Интересовала меня и славянская молодежь. Ко мне ходил и давал мне уроки языка один чех с немецкой фамилией, от которого я узнал много о том, что делается в Чехии и других славянских странах, особенно в Далмации. С далматинцами он много водился и, так же как и они, свободно говорил по-итальянски. Другой чешский патриот, званием фармацевт, был страстный поклонник России и стремился в Петербург слушать лекции Драгомирова, тогда профессора Военной академии, с целью усовершенствовать себя в теории «уличной войны». Но революционера из него не вышло. Да и вообще тогдашнее славянское движение, как и впоследствии, не имело нашего подпольного характера.
В славянофилах я никогда не состоял. Не увлекался никогда и идеей панславизма, но охотно пошел на приглашение студентов общества галицийских русских «Основа» – иметь у них беседы о русской литературе.
Это были в большинстве сторонники того направления, которого держалась тогдашняя консервативно-русофильская пресса. Но и среди них уже назревало нечто более народническое, однако без крайних украинофильских мечтаний. Говорили и писали эти молодые люди на том смешанном и смешноватом семинарско-российском диалекте, какого и до сих пор, вероятно, держатся в Галиции консервативные русины.
Это слово «Russin» и «Russinischer» создано было австрийским правительством, и официально «Основа» именовалась «Russinischer Grundstein».
И эти полухохлы и другие братья славяне из бедных студентов по необходимости льнули к тому очагу русского воздействия, который представлял собою дом тогдашнего настоятеля посольской церкви, протоиерея Раевского.
Этот радетель славяно-русского дела был типичный образец заграничного батюшки, который сумел очень ловко поставить свой дом центром русского воздействия под шумок на братьев славян, нуждавшихся во всякого рода – правда, очень некрупных – подачках. У него каждую неделю были и утренние приемы, после обедни, и вечерние.
Там можно было всегда встретить и заезжих университетских молодых людей, и славянскую молодежь.
Мне лично гораздо симпатичнее был псаломщик посольской церкви, некий В., от которого я много наслышался о политике отца протоиерея. Псаломщик этот, бывший учитель, порывался все назад в Россию. Его возмущало то, что он видел фальшивого и самодурного в натуре и поведении своего духовного принципала. В моих «Дельцах» есть лицо, похожее на личность и судьбу этого псаломщика. Он кончил, кажется, очень печально, но как именно – в точности не припомню.
Из русских, с какими я чаще встречался, двое уже покойники: нижегородец из купцов У., занимавшийся тогда изучением микроскопической анатомии. Он впоследствии получил кафедру и умер после долгой душевной болезни. Позднее я с ним встречался в Берлине.
Кажется, через него или через протоиерея Раевского, познакомился я с заезжим отставным кавалеристом, князем Е-товым, балетоманом и любителем театра, тогда еще богатым помещиком. Он приехал в Вену лечиться и привез с собою, как бы в качестве домашнего врача, молодого, очень красивого малого, только что кончившего курс в Москве и игравшего приятно на виолончели. Этот виолончелист-терапевт сделался впоследствии одним из ассистентов Захарьина и сам сделался профессором терапевтической клиники и доживает теперь в звании московской медицинской знаменитости.
Славянские студенты дали в конце сезона большой вечер с речами. Меня просили говорить, и это была единственная во всю мою жизнь немецкая речь. А немецкий язык и тут сослужил роль междуславянского языка.
Хотя я с детства говорил по-немецки, в Дерпте учился и сдавал экзамен на этом языке, много переводил – и все-таки никогда ничего не писал и не печатал по-немецки.
Моя речь появилась в каком-то венском листке. В ней я-с австрийской точки – высказывался достаточно смело, но полицейский комиссар, сидевший тут, ни меня, никаких других ораторов не останавливал.
Вообще особо строгого полицейского надзора мы, русские, не чувствовали. Всего раз, да и то в мой следующий приезд, меня пригласили к комиссару, и он, весьма добродушно и как бы конфузясь, спрашивал меня, чем я занимаюсь и долго ли намерен пробыть в Вене. Тем это и покончилось.
В Чехии готовились к трехсотлетней годовщине Яна Гуса.
Мне представлялся очень удачный случай побывать еще раз в Праге – в первый раз я был там также, и я, перед возвращением в Париж, поехал на эти празднества и писал о них в те газеты, куда продолжал корреспондировать. Туда же отправлялся и П.И.Вейнберг. Я его не видал с Петербурга, с 1865 года. Он уже успел тем временем опять «всплыть» и получить место профессора русской литературы в Варшавском университете.
Прагу нашел я в это время года очень оживленной, с тем налетом старины, которую чувствуешь в Москве, но гораздо культурнее и благоустроеннее. По случаю национальных празднеств – и большой съезд, вся чешская интеллигенция была в сборе. Нас, русских, очень услаждали, и нас с князем Е. (тем самым, который сошелся со мною в Вене) поместили в доме какой-то чешской титулованной барыни.
Перезнакомился я с группой тогдашних «младочехов» и их главным штабом – редакцией «Narodi Listy», с братьями Грейер и с другими патриотами и ораторами на всех тогдашних сборищах и рефератах.
Был я с визитом и у знаменитого Палацкого и нашел его по языку и тону и всему обличью – немецким филистером. От него я услыхал замечание насчет туранской (чужеродной) примеси к великорусскому племени.
– Оттого, – сказал он, – у вас в словах, как трт (торт), вран, врата и других, вставлена везде гласная «о».
В женском клубе, на торжествах в замке Софийского острова, на парадном спектакле, где композитор Сметана сам дирижировал своей оперой «Проданная невеста», – всюду нам, русским, оказывали большое внимание. В редакции «Народных листов» меня все просили пустить в ход в моих корреспонденциях мысль: как хорошо было бы для сближения с Россией организовать поездку в Прагу нашей оперной и даже балетной труппы. Мысль о балете показалась странной редакции той русской газеты, куда я писал. А сорок лет спустя наши балетные триумфы в Париже прогремели как настоящее художественное событие.
Поездка в Гусеницы – родину Гуса – осталась в моей памяти как настоящее столпотворение вавилонское по ужасной свалке на станции Пильзен, где пассажиры нашего поезда атаковали буфет с пильзенским пивом. Селение Гусеницы приняло нас к ночи особенно радушно. И на нескольких транспарантах красовались фразы на русском языке, вроде: «Привет братьям русским».
И в таком селении все было неизмеримо культурнее, чем у нас, в России. Поражала зажиточность крестьян, общая грамотность, живое чувство своего национального достоинства. Когда показалась процессия к дому, где родился Гус, мы любовались целой кавалькадой молодых парней и шествием девушек в белом – и все это были крестьяне и крестьянки.
Нас, корреспондентов, посадили на помост у какого-то сарая, на самом припеке.
Этим был всего сильнее недоволен П.И.Вейнберг и мой лондонский приятель, англичанин Рольстон, приехавший также на эти торжества. Тогда, в ожидании процессии, Вейнберг сочинил такое четверостишие, оставшееся у меня в памяти.
Кажется, я уже приводил его печатно в другом месте.
Ян Гус в Констанце на костре
Не так страдал от пламенной стихии,
Как страждут, сидя на жаре,
Корреспонденты из России.
Но эта поездка закончила характерной главной нотой мое первое пребывание в веселой и привольной Вене, которую я променял на Париж без особого сожаления.
Потянуло заново в Париж. Жил я опять на Итальянском бульваре, наискосок старой Оперы, вскоре потом сгоревшей.
Тут я остановлюсь на эпизоде знакомства моего с Дюма-сыном.
Я уже упомянул вскользь о том, как он перед приездом моим из Лондона заходил ко мне и оставил карточку, на которой написал несколько очень любезных строк, приглашая к себе, когда я вернусь в Париж, И в приписке стояло, что «Madame Dumas – une compatriote».
Я уже знал это, госпожа Дюма была не кто иная, как бывшая г-жа Нарышкина, та самая, у которой на вечере, в Москве, был Сухово-Кобылин в ночь убийства француженки на его квартире. После этой истории она уехала за границу, сошлась с Дюма, от которого имела дочь еще до брака, а потом вышла за него замуж.
Дюма жил в Елисейских полях (кажется, в Avenue Friedland) в барской квартире, полной художественных вещей. Он был знаток живописи, друг тогдашних даровитейших художников, умел дешево покупать их полотна начерно и с выгодою продавал их.
Тогда весь Париж знал и его очень удачный портрет работы Дюбёфа.
Как только я написал ему записку, водворившись в Париже, он сейчас же пригласил меня обедать.
Так у нас из моих сверстников – и старших и младших – никто никогда не жил в России. Такой роскошной обстановки и такого домашнего быта не было и у Тургенева на его вилле в Баден-Бадене. А уж о Гончарове, Достоевском, Салтыкове, Островском и более богатых людях, вроде Фета и даже Толстого, и говорить нечего.
Обед, на который я был зван, был вовсе не «званый обед». Кроме меня и семьи, был только какой-то художник, а вечером пришел другой его приятель – фельетонный романист, одно время с большой бульварной известностью, Ксавье де Монтепен. И эти господа были одеты запросто, в пиджаках. Но столовая, сервировка обеда, меню, тонкость кухни и вин – все это было самое первосортное. Тут все дышало большим довольством, вкусом и крупным заработком уже всемирно известного драматурга.
Дюма был тогда еще в полной силе, бравый, рослый мужчина, военного вида, в усах, с легкой проседью, одетый без франтовства, с тоном умного, бывалого, речистого парижанина, очень привычного к светским сферам, но не фешенебля, не человека аристократической воспитанности.
Госпожа Дюма была уже дама сильно на возрасте, с рыжеватой шевелюрой, худощавая, не очень здорового вида, с тоном светской русской барыни, прошедшей «высшую школу» за границей. Во французском акценте чувствовалась московская барыня, да и в более медленном темпе речи.
Из дочерей старшая, если не ошибаюсь, носила фамилию своего отца Нарышкина, а девочка, рожденная уже в браке с Дюма, очень бойкая и кокетливая особа, пользовалась такими правами, что во время десерта, когда все еще сидели за столом, начала бегать по самому столу – от отца к матери.
Разговор Дюма был чисто литераторский, не столько преисполненный самовлюбленности и славолюбия, сколько соперничества с своим тогдашним главным соперником по сцене – Сарду. Вот остроумное сравнение, какое он сделал постройке всякой пьесы Сарду:
– Это все равно, как в фокусах… Мускатный шарик, попадая из-под одного стаканчика в другой, все растет, пока не достигнет самых больших размеров, в четвертом стаканчике он сокращается, а в пятом приходит в нормальную величину.
Так точно строит свои пьесы и мой собрат Сарду.
Дюма, сделавший себе репутацию защитника и идеалиста женщин, даже падших («Дама с камелиями»), тогда уже напечатал беспощадный анализ женской испорченности – роман «Дело Клемансо» и в своих предисловиях к пьесам стал выступать в таком же духе. Даже тут, в присутствии своей супруги, он не затруднился повести разговор на тему безыдейности и невежественности светских женщин… и в особенности русских. У него вырвалась, например, такая подробность из их интимной жизни:
– Иногда спросишь мадам Дюма, о чем она думает, она отвечает так невозмутимо; «Да ни о чем».
Разговор этот происходил уже в гостиной, около камина. Госпожа Дюма не спорила с ним, а только снисходительно улыбалась. Она еще интересовалась немного Россией, но он – нисколько, и его совсем не занимало то, что у нас делалось после освобождения крестьян.
Он опять завел речь о невежественности дам и уверял, что когда-то его близкая приятельница, графиня Нессельроде (дочь графа Закревского), которую он когда-то взял в героини своего любовного романа – «Дама с жемчугом», написанного в параллель к «Даме с камелиями», приехала к нему с какого-то обеда и спрашивала его, «про какую такую Жанну д'Арк все толковали там».
И он прибавил:
– Я уверил ее, что это была знаменитая куртизанка эпохи Людовика Пятнадцатого.
Может быть, это и не была выдумка; но слишком уж он бесцеремонно относился к полу, представительницей которого была ведь его супруга.
Впечатление всего этого дома было какое-то двойственное – ни русская семья, ни совсем парижская. Хозяйка оставалась все-таки московской экс-львицей 40-х годов, старшая дочь – девица без определенной физиономии, уже плоховато владевшая русским языком, а меньшая – и совсем французская избалованная девочка.
В своих пьесах и статьях тогдашний Дюма, несомненно, производил впечатление умного и думающего человека, но думающего довольно однобоко, хотя, по тому времени, довольно радикально, на тему разных моральных предрассудков. Ему, как незаконному сыну своего отца (впоследствии только узаконенному), тема побочных детей всегда была близка к сердцу. И он искренно возмущался тем, что французский закон запрещает устанавливать отцовство» чем и поблажает беспутству мужчин-соблазнителей.
Если Дюма не отличался сладостью, когда говорил о женской испорченности, то мужчинам доставалось от него еще сильнее. И в этих филиппиках он достигал большого подъема, писал сильным, метким, образным языком.
Мой единомышленник Г.И.Вырубов особенно высоко ставил тогдашний стиль Дюма в его статьях и брошюрах.
Вечер закончился тем, что в час нашего вечернего чая подали пиво в изящных стаканах и Дюма стал расхваливать этот «напиток богов». Пиво было венское, которое победило парижан на выставке 1867 года – так называемое дрейеровское «Le Gerbier». А мюнхенское захватило кафе и пивные бульваров уже позднее, в 80-х и особенно в 90-х годах.
Хозяин сводил меня в свою спальню (он спал отдельно) всю увешанную прекрасными картинами парижских художников, все его приятелей, и при этом рассказывал мне, кого из них он первый «открывал» и, разумеется, приобретал их полотна за пустую цену – прежде чем они входили в славу.
В памяти моей остался конец нашего разговора о Тургеневе и г-же Виардо, когда я уже уходил и Дюма провожал меня до передней. Я вспомнил тогда, что один из моих собратов (и когда-то сотрудников), поэт Н.В.Берг, когда-то хорошо был знаком с историей отношений Тургенева к Виардо, теперь только отошедшей в царство теней (я пишу это в начале мая 1910 года), и он был того мнения, что, по крайней мере тогда (то есть в конце 40-х годов), вряд ли было между ними что-нибудь серьезное, но другой его бывший приятель Некрасов был в ту же эпоху свидетелем припадков любовной горести Тургенева, которые прямо показывали, что тут была не одна «платоническая» любовь.
– Знаете что, – сказал мне Дюма тоном бывалого и в точности осведомленного человека, – отзыв господина Берга меня нисколько не удивил бы…
– Почему? – остановил я.
– А потому, – Дюма даже не понизил тона, – что Полина всегда имела репутацию любительницы… женского, а не мужского пола, d'une…
И он употребил при этом циническое слово парижского арго.
Оставляю эту подробность на совести покойного. Да оно и не существенно, ведь были, всегда есть и будут и мужчины и женщины, которые, как гоголевский городничий, именинники и именинницы «и на Антона и на Онуфрия».
На тогдашней выставке в Елисейских полях Дюма пригласил меня на завтрак в летний ресторан «Le Doyen», долго ходил со мною по залам и мастерски характеризовал мне и главные течения, и отдельные новые таланты. С нами ходил и его приятель – кажется, из литераторов, близко стоявших к театру. И тут опять Дюма выказал себя на мою тогдашнюю оценку русского слишком откровенным и самодовольным насчет своих прежних любовных связей.
Разговор зашел о «Comedie Franchise» и об одной актрисе, державшей тогда амплуа jeune premiere в комедии и легкой драме, не очень красивой и даровитой, но довольно симпатичной. Я не назову ее по фамилии. Дюма заговорил о ней очень сочувственно, повторяя, что никто не знает, какая это милая женщина во всех смыслах.
– Вы знаете, ее открыл не кто иной, как я, – добавил он.
И это слово «открыл» он сопровождал такой миной, что ему весьма возможно было придать более реальный и довольно-таки бесцеремонный смысл.
Но тогда в парижском писательском мире и не то и не так еще говорилось! Нечего греха таить – и среди русских писателей разных поколений водилась замашка довольно-таки цинического жаргона. Не один Дюма-сын при личном знакомстве оказывался, на более строгую оценку, по своему этическому «я» ниже сортом, чем его талант, ум, наблюдательность, знание жизни. Разве это нельзя сказать в такой же мере и про «поэта-солнце» – В.Гюго? А также в значительной степени и про любого знаменитого писателя, не исключая ни Флобера, ни Золя, ни Доде, ни Мопассана?
У французских писателей, особенно если они добились известности, всегда найдете вы больше писательской исключительности и самопоглощения своим писательским «я».
С кем я ни беседовал из них на моем веку, мне бросалось в глаза их полное почти равнодушие ко всему, что не их дело, их имя, их писательские успехи.
Дюма, быть может, еще менее хромал на эту ножку. Его все-таки занимали вопросы общественной морали и справедливости. И его интерес к театру, к изящным искусствам делал его беседу более разнообразной. И его ум, меткость суждений и независимость взглядов делали его разговор все-таки менее личным и анекдотическим, чем с большинством французов из литературного и артистического мира.
Со мною его тон был всегда самый приветливый, без малейшего «генеральства».
Позднее он не забыл даже послать мне билет на первое представление пьесы, написанной им в сотрудничестве, под псевдонимом. Она шла в «Gymnase» и большого успеха не имела.
Как он переделывал пьесы, которые ему приносили начинающие или малоизвестные авторы, он рассказывал в печати. Из-за такого сотрудничества у него вышла история с Эмилем Жирарденом – из-за пьесы «Мученье женщины». Жирарден уличил его в слишком широком присвоении себе его добра. Он не пренебрегал – как и его соперник Сарду – ничьим чужим добром, когда видел, что из идеи или сильных положений можно что-нибудь создать ценное. Но его театр все-таки состоял из вещей, им самим задуманных и написанных целиком.
Я имел случай и еще раз убедиться в том, как он отзывчиво способен был откликнуться на такое письмо, которое другая бы «знаменитость» оставила без всякого ответа или же ограничилась бы общими местами.
Это было в конце лета того же 1869 года. После поездки в Испанию (о которой речь пойдет дальше) я, очень усталый, жил в Швейцарии, в одном водолечебном заведении, близ Цюриха. И настроение мое тогда было очень элегическое. Я стал тяготиться душевным одиночеством холостяка, которому уже перевалило за тридцать, без всякой сердечной привязанности.
Таким настроением было проникнуто письмо, написанное мною Дюма. И он тотчас же ответил мне на восьми страницах – своим крупным, круглым почерком, – где он остерегал меня, как испытанный мизогин (женоненавистник), от серьезного сближения с женщиной. До сих пор помню его характерные две фразы: «заведите друга», «купите собаку». И то, что он говорил тут об опасности такого критического момента в жизни одинокого мужчины, было не только очень остроумно и метко, но и в прекрасном, искреннем тоне. Я что-то не помню, чтобы мне за всю мою жизнь молодого писателя привелось получить подобное послание от какого-нибудь из корифеев нашей тогдашней беллетристики.
Быть может, иной читатель найдет, что мне не следовало бы так строговато оценивать Дюма, раз он со мною выказывал себя так благожелательно. На это я скажу раз навсегда (и для всего последующего в моих воспоминаниях), что я ставлю выше всего полную правдивость в передаче того, как я находил известное лицо при личном знакомстве, совершенно забывая о том, как оно относилось лично ко мне.
Если б он или кто другой на его месте обошелся со мною невнимательно или некрасиво, это не помешало бы мне оценить его с полной правдивостью. Оговорка тут должна быть одна – надо, чтобы впечатление осталось в памяти достаточно точное. За это нельзя ручаться абсолютно, особенно в деталях, но в общем это возможно.
И вообще я не считаю желательным и ценным придерживаться всегда уклончивого или слащавого тона, говоря даже о покойниках. Ни обвинять, ни оправдывать их нечего, но не следует и бояться высказывать то, что осталось в вашей памяти о человеке, кто бы он ни был и что бы вам впоследствии ни досталось от этого в печати.
В Париж меня потянуло из Вены, но я вскоре почуял, что прежнего интереса к парижской жизни уже не было.
Живя почти что на самом Итальянском бульваре, в Rue Lepelletier, я испытал особого рода пресноту именно от бульваров. В первые дни и после венской привольной жизни было так подмывательно очутиться опять на этой вечно живой артерии столицы мира. Но тогда весенние сезоны совсем не бывали такие оживленные, как это начало входить в моду уже с 80-х годов. В мае, к концу его, сезон доживал и пробавлялся кое-чем для приезжих иностранцев, да и их не наезжало и на одну десятую столько, сколько теперь.
И вся банальная подкраска Бонапартова режима выступала в виде своих лишаев и подтеков. Эти каменные лица кокоток на террасах кафе и вдоль тротуаров, эти треугольные шляпы сержантов (как назывались тогда полицейские), это запойное сиденье в кафе и пивных тысяч праздного народа с его приевшимися повадками мелкого французского жуирства. В Елисейских полях – трескотня плохих оркестров и дозволенный цинизм песенок и канканных кривляний. И отсутствие настоящего веселья. Наемные плясуны и плясуньи, толпа мужчин, глазеющих на эти кривлянья, выставка стареющих, намазанных кокоток.
Я стал подумывать, куда бы поехать на лето с таким же интересом, как в прошлом году. На море было еще рано, да и на купаньях я увидал бы опять тот же жуирный Париж.
В числе моих более близких знакомых французов состоял уже с позапрошлого зимнего сезона приятель Вырубова и русского химика Лугинина – уже очень известный тогда в парижских интеллигентных сферах профессор Медицинской школы по кафедре химии Альфред Наке. О нем я и раньше знал, как об авторе прекрасного учебника, который очень ценился и у нас. Вырубов быт уже с ним давно в приятельских отношениях, когда я познакомился с Наке.








