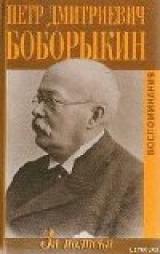
Текст книги "За полвека. Воспоминания"
Автор книги: Петр Боборыкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц)
И с Островским как писателем я как следует познакомился только тогда в Большом театре, где видел в первый раз «Не в свои сани не садись». В Нижнем мы добывали те книжки «Москвитянина», где появлялся «Банкрут»; кажется, и читали эту комедию, но она в нас хорошенько не вошла; мы знали только, что ею зачитывалась вся Москва (а потом и Петербург) и что ее не позволили давать на сцене.
Никогда еще перед тем я не испытывал того особенного восхищения, какое дает общий лад игры, где перед вами сама жизнь. И это было в «Не в свои сани не садись» больше, чем в «Ревизоре» и в «Горе от ума», где, например, Чацкий – Полтавцев казался мне совсем не похожим на того героя, которого мы представляли себе. Да и те танцы, которые тогда очень нравились публике, отзывались чем-то слишком водевильным, скорее в угоду райку, чем более развитому зрителю. Такого трио, как три купца в первом акте комедии Островского (первой, по счету, попавшей на сцену), как Садовский (Большов), С.Васильев (Бородкин) и Степанов (Маломальский), больше уже не бывало. По крайней мере мне за все сорок с лишком лет не приводилось видеть. Старуха Сабурова (жена трактирщика) и Косицкая (Авдотья Максимовна) дышали бытовой правдой: первая с прибавкой тонкого комизма, вторая – с чисто народным лиризмом.
Косицкая была моя землячка. Про нее я много слыхал дома. Дядя знавал ее еще крепостной помещиков Б-ных, в услужении у купчихи Долгоновой, где ее заставляли петь при гостях. Потом она, как известно, попала статисткой в театр, где ее заметил Живокини и перетащил в Москву, и в два-три года она стала любимицей публики, полуграмотная, силой таланта и необычайной искренности. Ее заставляли много играть в трагедиях и в романтических драмах, где она оставалась все же «Любашей», нижегородской горничной с порывами чувства и прекрасным голосом. Видал я ее потом в таких вещах, как «Отец и дочь» Ободовского и «Гризельда и Персиваль», и глубоко сожалел о том, что она навек не осталась русской простой девушкой, Авдотьей Максимовной, которую Ваня Бородкин спасает от срама.
Трогательно было то, что Косицкая, уже знаменитостью, когда приезжала в Нижний на гастроли, сохраняла с нами тот же жаргон бывшей «девушки». Так, она не говорила: «публика» или «зрители», а «господа дворяне», разумея публику кресел и бельэтажа. У ней срывались фразы вроде:
– Много довольна приемом господ дворян!
И это было на склоне ее карьеры, в 60-х годах, когда я, приехав раз в Нижний зимой, уже писателем, видел ее, кажется, в этой самой «Гризельде» и пошел говорить с нею в уборную.
Конец ее был довольно печальный. В последний раз я с ней встретился в «Кружке», в зиму 1866 года.
С Малым театром я не разрываю связи с той самой поры, но здесь я остановлюсь на артистах и артистках, из которых иные уже не участвуют в моих дальнейших воспоминаниях, с тех пор как я сделался драматическим писателем.
Прежде всего, конечно, Михаил Семенович Щепкин. Я видал его позднее всего только в двух пьесах: в «Свадьбе Кречинского» (роль Муромцева) и в пьесе, переделанной из комедии Ожье «Зять господина Пуарье» под русским ее заглавием: «Тесть любит честь – зять любит взять».
Но в истории русского сценического искусства Михаил Семенович – творец двух лиц:
Фамусова и городничего, и, в меньшей степени, Кочкарева в «Женитьбе». Во всех трех этих «созданиях» я его видел тогда юношей, уже значительно подготовленным к высшим запросам от театра и игры актера.
Это была последняя полоса его игры, когда он, уже пожилым человеком, еще сохранял большую артистическую энергию. Случилось так, что я его в Нижнем не видал (и точно не знаю, езжал ли он к нам, когда меня уже возили в театр) и вряд ли даже видал его портреты. Тогда это было во сто раз труднее, чем теперь.
Вся его короткая, полная (но не очень толстая) фигура, круглое лицо с сильной гримировкой, особого рода подвижность, жесты рук, головы, мимика рта и глаз – все это отзывалось чем-то необычным. Голос был непохожий и на интонации тогдашних актеров из коренных москвичей. Полная простота тона и вкусная – если можно так определить – дикция, с легким стариковским оттенком артикуляции, говорили о чем-то особенном. М.С. был и оставался «хохлом» более, чем великороссом. Мне рассказывал покойный Павел Васильев (уже в начале 60-х годов, в Петербурге), что когда он, учеником театральной школы, стоял за кулисой, близко к сцене, то ему явственно было слышно, что у Щепкина в знаменитом возгласе: «Дочь! Софья Павловна!» слышалось хохлацкое «хв», и он, хотя и не очень явственно, произносил: «Дочь! Сохвья Павловна!»
Поэтому-то он так хорош бывал в одной из своих характерных ролей в «Москале-чаривныке», а великорусских простонародных типов не создавал.
Фамусовым он был в меру и барин, и чиновник, и истый человек времени Реставрации, когда он у своего барина достаточно насмотрелся и наслушался господ. Никто впоследствии не заменил его, не исключая и Самарина, которого я так и не видал в тот приезд ни в одной его роли.
Сквозник-Дмухановский точно нарочно создан был для Щепкина. Его произношение только помогало правде и типичности создания этой фигуры. Он его играл сангвиником, без всякого умничания, не уступая другу своему Гоголю в толковании этого лица, не придавая ему символического смысла, как желал того автор «Ревизора».
И все в нем дышало комизмом. Он был глубоко забавен, но не мелко смешон. И выходило так от полнейшей художнической искренности исполнения. Комизм пробивался во всем: в дикции, в минах, в походке, в жестикуляции.
До сих пор я могу еще представить себе: как он сидит и читает письмо в первом акте, как дрожит перед пьяным Хлестаковым, как указывает квартальным на бумажку посредине гостиной, как наскакивает на квартального с подавленным криком: «Не по чину берешь!» Друг и единомышленник Гоголя сказывался и в том, как он произносил имя квартального Держиморды.
Щепкин выговаривал «Держиморда», а не «Держиморда», как произносят везде вне московского Малого театра, где щепкинская традиция, вероятно, до сих пор еще сохраняется.
Сангвинический пошиб во всем преобладал. Тогда «первый комический актер» (по номенклатуре Гоголя) действительно играл как высокий комик, а не как резонер, который по-своему мудрит и подгоняет лицо, выхваченное из жизни, под свои личные теории, соображения, вкусы и приемы игры.
В Кочкареве я, помню, не сразу признал его, когда на сцену ввалился кругленький господин в темно-русом парике, вицмундире и в белых брюках.
Сказать ли правду? Он показался мне мало похожим на петербургского «чинуша», шумного торопыгу, балагура и свата. Для этого он уже не был достаточно молод; его тон и повадка мало отзывались тем, что можно было представлять себе, читая «Женитьбу».
Люди генерации моего дяди видали его несколько раньше в этой роли и любили распространяться о том, как он заразительно и долго хохочет перед Жевакиным. На меня этот смех не подействовал тогда так заразительно, и мне даже как бы неприятно было, что я не нашел в Кочкареве того самого Михаила Семеновича, который выступал в городничем и Фамусове.
Года брали свое. К этому времени те ценители игры, которые восторгались тогдашними исполнителями нового поколения, Садовским и Васильевым, – начинали уже «прохаживаться» над слезливостью Щепкина в серьезных ролях и вообще к его личности относились уже с разными оговорками, любили рассказывать анекдоты, невыгодные для него, напирая всего больше на его старческую чувствительность и хохлацкую двойственность. От одного из писателей кружка и приятелей Островского – Е.Н.Эдельсона (уже в 60-х годах) я слышал рассказ о том, как у Щепкина (позднее моей первой поездки в Москву) на сцене выпала искусственная челюсть, а также и про то, как он бывал несносен в своей старческой болтовне и слезливости.
У него с молодых лет была склонность, как у многих комиков, к чувствительным ролям, и одной из любимых его ролей в таком роде была роль в пьесе «Матрос», где он пел куплеты в патетическом роде и сам плакал. Эту роль он играл всегда в провинции и в позднейший период своей сценической карьеры.
Такого именно податливого на слезы старика я нашел в нем в ту зиму, когда с ним лично познакомился на репетиции моей драмы «Ребенок», когда мы сидели в креслах рядом и смотрели на игру воспитанницы Позняковой, которую выпустил Самарин в моей пьесе, взятой им на свой бенефис.
Но и тогда (то есть за каких-нибудь три года до смерти) его беседа была чрезвычайно приятная, с большой живостью и тонкостью наблюдательности. Говорил он складным, литературным языком и приятным тоном старика, сознающего, кто он, но без замашек знаменитости, постоянно думающей о своем гениальном даровании и значении в истории русской сцены.
Подробности этой встречи я описал в очерке, помещенном в одном сборнике, и повторять здесь не буду. Для меня, юноши из провинции, воспитанного в барской среде, да и для всех москвичей и иногородных из сколько-нибудь образованных сфер, Щепкин был национальной славой. Несмотря на сословно-чиновный уклад тогдашнего общества, на даровитых артистов, так же как и на известных писателей, смотрели вовсе не сверху вниз, а, напротив, снизу вверх.
Типическим ценителем того времени был мой дядя, тот, кто привез меня в Москву.
По времени воспитания он восходил к 20-м годам (родился в 1810 году), и от него-то я с раннего детства слышал о знаменитых актерах и актрисах, без малейшего оттенка барского пренебрежения; не только о Михаиле Семеновиче (он так его всегда и звал), но о Мочалове, о Репиной, о молодом Самарине, Садовском, даже Немчинове, и о петербургских корифеях: Каратыгине, Брянском, Мартынове, А.Максимове, Сосницком, чете Дюр, Асенковой, Гусевой, семействе Самойловых.
Мы уже гимназистами знали про то, что Щепкин водил дружбу с писателями: с Гоголем, с кружком Грановского и Белинского и с Герценом, которого мы много читали, разумеется кроме того, что он начал уже печатать за границей, как эмигрант.
Для тогдашнего николаевского общества такое положение Щепкина было важным фактом, и фактом, вовсе не выходящим из ряду вон. Я на это напираю. Талант, личное достоинство ценились чрезвычайно всеми, кто сколько-нибудь выделялся над глухим и закорузлым обывательским миром.
В моем лице – в лице гимназиста из провинции, выросшего в старопомещичьем мире, – это сказывалось безусловно. Я уже был подготовлен всей жизнью к тому, чтобы ценить таких людей, как Щепкин, и всякого писателя и артиста, из какого бы звания они ни вышли.
Сергея Васильева я только тогда и увидел в такой бытовой роли, как Бородкин.
Позднее, когда приезжал студентом домой, на ярмарочном театре привелось видеть его только в водевилях; а потом он ослеп к тому времени, когда я начал ставить пьесы.
Бородкин врезался мне в память на долгие годы и так восхищал меня обликом, тоном, мимикой и всей повадкой Васильева, что я в Дерпте, когда начал играть как любитель, создавал это лицо прямо по Васильеву. Это был единственный в своем роде бытовой актер, способный на самое разнообразное творчество лиц из всяких слоев общества: и комик и почти трагик, если верить тем, кто его видал в ямщике Михаиле из драмы А.Потехина «Чужое добро впрок не идет».
К нему привлекала также и блестящая, игривая веселость, какая бывает только у прекрасных французских комиков. Самая некрасивость его лица, голос немного в нос – все это превращалось в привлекательные особенности. По богатству мимики и комических интонаций он не уступал ни Садовскому, ни Живокини.
Кроме роли Бородкина, Сергей Васильев выступал в ту памятную мне Масленицу еще в одном типичнейшем своем создании – почтмейстер Шпекин.
Роль – очень небольшая; но он действительно «создавал» нечто тонко-юмористическое, без шаржа в гримировке, тоне, жестах. Это был немножко чопорный, но благодушно настроенный гоголевский чиновник, делающий себе из привычки вскрывать письма постоянное умственное развлечение.
Надо было видеть выражение его лица, усмешку рта и глаз и слышать его интонации, когда он рассказывает городничему о том, как описывается торжество, где стоит знаменитая фраза – «штандарт скачет».
Только истинно артистическая натура способна была на подобное разнообразие в сценическом воспроизведении фигур, до такой степени непохожих одна на другую, как Шпекин и Ваня Бородкин.
Впоследствии (как я заметил выше), приезжая из Казани и Дерпта на вакацию, я видал Васильева на ярмарке в Нижнем и в Москве, но в водевилях.
Ранняя слепота свела его со сцены, и этот блистательно-веселый комик кончал жизнь в глубокой печали заживо погребенного для сцены слепца.
Садовский и тогда уже считался «первой силой» труппы, после Щепкина, а для его почитателей не только рядом с Щепкиным, но даже над ним. Если за Щепкиным значилась неувядаемая слава быть создателем Фамусова и городничего, то Садовский, уже и в зиму 1852–1853 года, появлялся в разнообразных созданиях– в Осипе, Подко-лесине, купце Большове. Гоголя он сочетал – и в таком разнообразном воспроизведении– с Островским, а типы Островского Щепкину не удавались позднее в такой же степени.
И если взять два крупнейших лица из театра Гоголя – городничего и Подколесина, то трудно было тогда и знатокам театра решить, кто стоял выше как художник-исполнитель:
Щепкин или Садовский?
Для нас, провинциалов, Садовский был еще что-то совсем новое, хотя он уже и состоял к тому времени в труппе Малого театра более десяти лет.
Но газеты занимались тогда театром совсем не так, как теперь. У нас в доме, правда, получали «Московские ведомости»; но читал их дед; а нам в руки газеты почти что не попадали. Только один дядя, Павел Петрович, много сообщал о столичных актерах, говаривал мне и о Садовском еще до нашей поездки в Москву. Он его видел раньше в роли офицера Анучкина в «Женитьбе». Тогда этот офицер назывался еще «Ходилкин».
От игры Садовского впервые испытал я впечатление чего-то могучего. Чувствовался кряж натуры, прирожденного богатейшего таланта. Все тут было свое, ниоткуда не заимствованное. Каждая интонация, всякий жест, взгляд, усмешка, поворот головы говорили о бытовой почве.
И все это дышало необычайной простотой и легкостью выполнения. Ни малейшего усилия! Один взгляд, один звук – и зала смеется. Это у Садовского было в блистательном развитии и тогда уже в ролях Осипа и Подколесина. Такого героя «Женитьбы» никто позднее не создавал, за исключением, быть может, Мартынова. Я говорю «быть может», потому что в Подколесине сам никогда его не видал.
Сохранилось все это у Садовского и даже достигло полной виртуозности и позднее, как, например, в роли Расплюева… Одно его появление и первый вздох уже настраивали всю залу на особый комический лад.
И тем разительнее выходил контраст между Подколесиным и Большовым. Такая бытовая фигура, уже без всякой комической примеси, появилась решительно в первый раз, и создание ее было делом совершенно нового понимания русского быта, новой полосы интереса к тому, что раньше не считалось достойным художественной наблюдательности.
А в области чистого комизма Садовский представлял собою полнейший контраст с комизмом такого, например, прирожденного «буффа», каков был давно уже тогда знаменитый любимец публики В.И.Живокини. В нем текла итальянская кровь. Он заразительно смешил, но на создание строго бытовых лиц не был способен, хотя впоследствии и сыграл немало всяких купеческих ролей в репертуаре Островского.
Случилось так, что я видел его тогда два раза и… в том числе в опере! Он играл труса и хвастуна Фрелафа в «Аскольдовой могиле». А в «Горе от ума» – Репетилова.
О нем я в 80-х годах написал воспоминания в одном сборнике после многолетнего личного знакомства и участия его в моем «Однодворце».
Его ближайший сверстник и товарищ по театральному училищу и службе на Малом театре, П.Г.Степанов, был создатель роли трактирщика Маломальского в том бесподобном трио, о котором я говорил выше.
В свое время он считался «второй силой», как нынче и официально выражаются, а стоил многих теперешних «первых сюжетов» и даже превосходил их.
Он с самых молодых лет отличался тем, что нынче называют «гримом» и вообще схватывателя типичных черт, в особенности пожилых лиц и стариков. Когда было разрешено давать только третий акт «Горя от ума», ему поручили роль князя Тугоуховского, в которой я его и увидал впервые, до представления «Не в свои сани не садись». Позднее, уже во второй половине 60-х годов, он сам мне рассказывал, как император Николай видел его в этой роли и вызвал потом играть ее в Петербург. Другой его такой же типичной ролью из той же эпохи было лицо старого Фридриха II (в какой-то переводной пьесе), и он вспоминал, что один престарелый московский барин, видавший короля в живых, восхищался тем, как Степанов схватил и физическое сходство, и всю повадку великого «Фрица».
Ту же типичность и рельеф замысла и выполнения выказывал он в гоголевском Яичнице. Эта роль оставалась одною из его «коронных» ролей.
В таких старых актерах было что-то особенно прочное, веское, значительное и жизненное, чего теперь не замечается даже и в самых даровитых исполнителях. И по бытовому репертуару Степанов среди своих сверстников один и подошел по тону и говору. Задолго до создания лица Маломальского он уже знаменит был тем, как он играл загулявшего ямского старосту в водевиле «Ямщики».
С.В.Шуйский к зиме 1852–1853 года встал уже впереди, рядом с Васильевым и Самариным; из водевильного актера очень скоро превратился в тонкого художника с разнообразным и гибким дарованием.
Я его видел тогда в трех ролях: Загорецкого, Хлестакова и Вихорева («Не в свои сани не садись»). Хлестаков выходил у него слишком «умно», как замечал кто-то в «Москвитянине» того времени. Игра была бойкая, приятная, но без той особой ноты в создании наивно-пустейшего хлыща, без которой Хлестаков не будет понятен. И этот оттенок впоследствии (спустя с лишком двадцать лет) гораздо более удавался М.П.Садовскому, который долго оставался нашим лучшим Хлестаковым.
Загорецкий являлся у Шуйского высокохудожественной фигурой, без той несколько водевильной игривости, какую придавал ей П.А. Каратыгин в Петербурге. До сих пор, по прошествии с лишком полвека, движется предо мною эта суховатая фигура в золотых очках и старомодной прическе, с особой походочкой, с гримировкой плутоватого москвича 20-х годов, вплоть до малейших деталей, обдуманных артистом, например того, что у Загорецкого нет собственного лакея, и он отдает свою шинель швейцару и одевается в сторонке.
Роль Вихорева, несложная по авторскому замыслу и тону выполнения, выходила у него с тем чувством меры, которая еще более помогала удивительному ансамблю этой, по времени первой на московской сцене, комедии создателя нашего бытового театра.
Шумского 60-х годов я лично зазнал уже как драматический писатель; но об этом в другом месте.
Трех женщин Малого театра, кроме Е.Васильевой (Она была тогда еще девица Лаврова и выступала в Софье в «Горе от ума»), помню я из этой поездки: старуху Сабурову, Кавалерову и только недавно умершую П.И.Орлову.
С Сабуровой (мать петербургской актрисы) ушли особенная своеобразность, прекрасная московская дикция, комизм без шаржа и значительность всего пошиба игры. Одинаково хороша была она и в московской старой барыне (из «Горя от ума»), и в жене трактирщика Маломальского.
Кавалерова и тогда уже считалась старухой не на одной сцене, а и в жизни; по виду и тону в своих бытовых ролях свах и тому подобного люда напоминала наших дворовых и мещанок, какие хаживали к нашей дворне. Тон у ней был удивительно правдивый и типичный. Так теперь уже разучаются играть комические лица. Пропала наивность, непосредственность; гораздо больше подделки и условности, которые мешают художественной цельности лица.
П.И.Орлова держала тогда – уже на склоне карьеры – амплуа светских дам, отличалась представительностью и приятной дикцией. Через два года она уже попала в сестры милосердия во время Севастопольской кампании.
Итак, театр всего больше захватил меня, и вообще Москва показала себя «столицей» всего больше в театральных залах. Ничего подобного провинция не могла дать. В особенности зала Большого театра и такие зрелища, как балеты, тогда увлекавшие москвичей, с такими балеринами, как Санковская и Ирка-Матьяс. Совсем столицей обдал меня и последний спектакль тогдашней казенной французской труппы, который обыкновенно давался в среду на Масленой, после чего русская труппа овладевала уже театром до понедельника Великого поста и утром и вечером.
Меня взяла в ложу бельэтажа тетка со стороны отца, и я изображал из себя молодого человека во фраке. Тут было все тогдашнее светское общество. В литерной ложе дочь генерал-губернатора, графиня Нессельроде, тогдашняя львица, окруженная всегда мужчинами, держала себя совершенно по-домашнему, так же как и ее кавалеры.
Труппа была весьма и весьма средняя, хуже даже теперешней труппы Михайловского театра. Но юный фрачник-гимназист седьмого класса видел перед собою подлинную французскую жизнь, слышал совсем не такую речь, как в наших гостиных, когда в них говорили по-французски. Давали бульварную мелодраму «Кучер Жан», которая позднее долго не сходила со сцены Малого театра, с Самариным в заглавной роли, под именем «Извозчик».
И не для меня одного театральная Масленица сезона 1852–1853 года была прощальной.
На первой же неделе поста сгорел Большой театр, когда мы были на обратном пути в Нижний.
В Малом театре на представлении, сколько помню, «Женитьбы» совершенно неожиданно дядя заметил из кресел амфитеатра моего отца. С ним мы не видались больше четырех лет. Он ездил также к выпуску сестры из института, и мы с дядей ждали его в Москву вместе с нею и теткой и ничего не знали, что они уже третий день в Москве, в гостинице Шевалдышева, куда он меня и взял по приезде наших дам из Петербурга.
Мои московские впечатления стали с этого дня еще разнообразнее. Он возил меня к своим родным и знакомым, и я вкусил немного тогдашней московской жизни в домах, где принимали.
Чего-нибудь особенно столичного я не находил. Это был тот же почти тон, как и в Нижнем, только побойчее, особенно у молодых женщин и барышень. Разумеется, я обегал вопросов: учусь я или уже служу? Особого стеснения от того, что я из провинции, я не чувствовал. Я попадал в такие же дома-особняки, с дворовой прислугой, с такими же обедами и вечерами. Слышались такие же толки. И моды соблюдались те же.
Я это привожу опять-таки затем, чтобы показать, как тогда замечался и в губернских городах известный уровень культуры, и ничто такое, что входило в интересы тогдашнего общества в Москве, уже не удивляло особенной новизной юного гимназиста.
В литературные кружки мне не было случая попасть. Ни дядя, ни отец в них не бывали. Разговоров о славянофилах, о Грановском, об университете, о писателях я не помню в тех домах, куда меня возили. Гоголь уже умер. Другого «светила» не было. Всего больше говорили о «Додо», то есть о графине Евдокии Ростопчиной.
Не скажу, чтобы и уличная жизнь казалась мне «столичной»; езды было много, больше карет, чем в губернском городе; но еще больше простых ванек. Ухабы, грязные и узкие тротуары, бесконечные переулки, маленькие дома – все это было, как и у нас. Знаменитое катанье под Новинским напомнило, по большому счету, такое же катанье на Масленице в Нижнем, по Покровке – улице, где я родился в доме деда. Он до сих пор еще сохранился.
Барский строй жизни с военным оттенком замечал я всего больше в мельканье парных саней с пристяжками, в касках и киверах тогдашних гусар и улан. Фуражек тогда не позволяли носить; а теперешняя мерлушковая шапка всех бы скандализовала, особенно на голове гвардейца. Подтянутость публики замечалась везде, и борода, кроме как у купцов, бросалась в глаза, и из-за нее приводилось иметь дело с полицией. Но в общем Масленица текла бойко, шумно и, кажется, веселее, чем в последние годы. Особенного гнета я не замечал, и вся Масленая прошла для меня, как в чаду.
Студенческие треуголки (фуражки строго преследовались) волновали меня. Я уже мечтал о скором поступлении в университет провинциальный. Тогда столичные университеты имели обаяние запретного плода. Существовал комплект, и каждый из нас смотрел на здешнего студента, как на счастливца.
Одним из таких счастливцев оказался мой земляк Б-вин, сын председателя палаты.
Он перешел сюда из Казани. Я отыскал его в плохонькой комнате, где-то на Никитской; но для меня и невзрачная студенческая «меблировка» казалась чем-то соблазнительным, и хотя мы с ним были на «ты», но я смотрел на него как на избранника.
Студентов в театрах я как-то не замечал; но на улицах видал много, особенно на Тверской, и раз в бильярдной нашей гостиницы сидел нарочно целый час, пока там играли два студента. Они прошли туда задним ходом, потому что посещение трактиров было стеснено. Оба были франтоваты, уже очень взрослые, барского тона, при шпагах.
Теперешнего вида студентов, какие встречаются по улицам Москвы сотнями, тогда не было. Самыми бедными считались казеннокоштные, но они все одевались вполне прилично и от них требовалось строго соблюдение формы.
Древняя Москва только скользнула по мне. Кремль, соборы, Чудов монастырь, Грановитая палата – все это быстро промелькнуло предо мною, но без старины Москва показалась бы только огромным губернским городом, не больше. Что-то таинственное и величавое осталось в памяти, и в этой рамке поездка в Москву получила еще большее значение в моей только что открывающейся юношеской жизни.
С этим совпало и мое свидание с сестрой после такой разлуки. Моему долгому одиночеству настал конец. Молодое существо стало рядом со мною, и я, хоть моложе ее, очутился как бы в ее руководителях.
И весь конец моего ученья, вплоть до студенчества, получил более светлый налет.
Даже стало житься по-другому. В наш большой, строгий и почти безмолвный дом вошло молодое веселье. И постом мы танцевали.
С сестрой у меня сразу завязалась нежная дружба. Все мне было ново и близко в ее институтском прошлом. Шли бесконечные разговоры и рассказы. В ней я не нашел того, что тогда соединяли с понятием «институтка», – той смешной наивности и еще менее наивничанья. Она была первое время скорее застенчива в большом обществе, но без всяких странностей специфического «монастырского» оттенка. Я мог по ней изучать, какими выпускали из столичного института девушек средних талантов и среднего прилежания. Она просидела безвыездно около девяти лет в стенах здания на Фонтанке. Их учили не по-нынешнему, но довольно старательно. Кроме языков и так называемых «русских» предметов – немного естественным наукам, довольно хорошо словесности, заставляли немало писать, развивали их музыкальные способности, приучали красиво танцевать. Читали французскую л немецкую литературу на этих языках и заставляли много учить классических отрывков.
«Идей» в теперешнем смысле они не имели, книжка не владела ими, да тогда и не было никаких «направлений» даже и у нас, гимназистов. Но они все же любили читать и, оставаясь затворницами, многое узнавали из тогдашней жизни. Куклами их назвать никак нельзя было. Про общество, свет, двор, молодых людей, дам, театр они знали гораздо больше, чем любая барышня в провинции, домашнего воспитания. В них не было ничего изломанного, нервного или озлобленного своим долгим институтским сидением взаперти.
Напротив! Они не задавались «вопросами», но зато были восприимчивы ко всем веяниям жизни, с большим фондом того, что составляет душевную норму. Как девицы, выезжающие в свет, они охотно танцевали, любили дружиться без излишнего кокетства, долго оставались с чистым воображением, не проявляли никаких сознательно хищнических инстинктов.
Из них весьма многие стали хорошими женами и очень приятными собеседницами, умели вести дружбу и с подругами и с мужчинами, были гораздо проще в своих требованиях, без особой страсти к туалетам, без того культа «вещей», то есть комфорта и разного обстановочного вздора, который захватывает теперь молодых женщин. О том, о чем теперь каждая барышня средней руки говорит как о самой банальной вещи, например о заграничных поездках, об игре на скачках, о водах и морских купаньях, о рулетке, – даже и не мечтали.
Не надо забывать, что тургеневские Лиза и Елена принадлежали как раз к этой генерации, то есть стали взрослыми девицами к половине 50-х годов.
Крепостным правом они особенно не возмущались, но и не выходили крепостницами и в обращении с прислугой привозили с собой очень гуманный и порядочный тон. Этого, конечно, не было бы, если б там, в стенах казенного заведения, поощрялись разные «вотчинные» замашки. Они не стремились к тому, что и тогда уже называлось «эмансипацией», и, читая романы Жорж Занд, не надевали на себя никаких заграничных личин во вкусе той или другой героини.
Думаю, что главное русло русской культурной жизни, когда время подошло к 60-м годам, было полно молодыми женщинами или зрелыми девушками этого именно этическо-социального типа. История показала, что они, как сестры, жены и потом матери двух поколений, не помешали русскому обществу идти вперед.
И тут будет уместно помянуть добрым словом всех тех женщин – замужних и девиц, которые участвовали и в нашем умственном и нравственном росте. Я лично отроком и юношей до университета много им обязан. В моей тетке (со стороны матери) я находил всегда чуткую душу, необычайно добрую, развитую, начитанную, с трогательной любовью к своей больной сестре, моей матери, и к брату Николаю, особенно с той минуты, как он был сослан в Сибирь по делу Петрашевского. Она одна могла бы служить ярким доказательством того, какие та эпоха дог ставляла личности. И она и мать моя хоть и выросли на рабовладельческих порядках, но никогда их не оправдывали. Гнет родительской власти не помешал им быть проникнутыми теплой сердечностью и в родственных связях, и ко всем, кто сближался с ними.
Мальчиком я долго был неразвязен и дик, в особенности при женщинах. Но во мне рано подметили влюбчивость и склонность к дружбе с взрослыми девицами. И те, кто умели приручить меня, охотно со мной беседовали и, может и не желая того, участвовали в моем воспитании.
У меня еще до университета, когда я уже подрос, было несколько приятельниц, старше меня на много лет. Они не довольствовались ролью конфиденток, которым я поверял свои сердечные тайны. Они давали мне книги, много рассказывали о себе и о своих впечатлениях, переписывались со мною подолгу; даже и позднее, когда я поступил в студенты.
Одна из них в особенности интересовала меня. Тут не обошлось и без некоторой влюбленности, но уже впоследствии; а сначала она меня привлекала своим умственным изяществом, даровитостью и блестящим разговором. Мы продолжали с ней дружбу и в Казани. И она была из институток, даже провинциальных, но из ряду вон.








