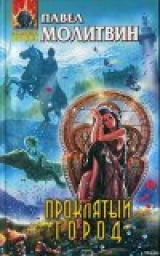
Текст книги "Лики контакта"
Автор книги: Павел Молитвин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Какой? – с изумлением уставился я на Яну. – Который ты пишешь во внерабочее время!
– Но я не пишу роман.
– А что ты пишешь в свободное время?
– Ничего, кроме эсэмэсок.
– Странно, – с разочарованием сказала Яна.
– Не понял, чего тут странного. Зачем мне писать роман?
– Любой журналист, по-моему, мечтает стать писателем.
– Бред! Писательство – это или состояние души, или ремесло, которое ничем не лучше журналистики. Даже хуже, поскольку хуже оплачивается.
– А как насчет состояния души? – не унималась Яна.
Кто ты? За душой моей явилась
Только нет души,
– немузыкально пропел Вадя и пояснил: – Кипелов. «Ария». А теперь ступайте-ка, ребята, на кухню, что-то у меня глаза закрываются.
За окнами начало смеркаться. Я поставил на печку чайник, подкинул несколько полешков, и тут Яна снова полезла мне в душу. Ни к месту и ни ко времени процитировав ницшевское двустрочие:
Ты, обезьянка бога своего, довольствуешься быть всего лишь обезьянкой?
Она изрядно меня разозлила. И я уже готов был дать достойный отпор юной велосипедистке, вздумавшей наезжать на «КамАЗ», когда на память мне пришли огромные книжные шкафы ее матери, до известной степени объяснявшие интерес дерзкой отроковицы к печатному слову.
Интересы Клавдии Парфеновны были весьма разнообразны. В застекленных, сделанных на заказ шкафах стояли собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков, Библиотека мировой литературы, Большая советская энциклопедия, Медицинская энциклопедия, Толковая Библия, Талмуд, Коран в великолепной сине-зеленой, тисненной золотом обложке и тьма-тьмущая всевозможных словарей: морской, экономический, международного права; словарь атеиста и агронома, машиниста, слесаря-сантехника и младшего помощника старшего ассенизатора. Наряду с этим целый шкаф был отведен книгам, посвященным исключительно оккультным наукам. Книгам, о которых мне доводилось только слышать: о малоизвестных религиозных культах, о странных верованиях и еще более странных фактах, необъяснимых современной наукой. Наряду с альбомами, заполненными вырезками из газет и журналов, иметь которые пристало профессору с мировым именем, а не безвестной гадалке, я обнаружил у нее дореволюционное издание «Молота ведьм», «О демоническом» Синистрари, «Жития магов» Эвиапиуса, «О природе демонов» Анания, «Полет Сатаны» Стампы, «Слово о колдунах» Буже, а также рукопись некоего сочинения Олауса Магнуса в черном переплете из гладкой кожи – по словам Клавдии Парфеновны, человеческой. Мать Яны, явно гордясь своей коллекцией, показывала мне распечатки немецких, французских и английских книг, о существовании которых я даже не подозревал, то есть был абсолютно уверен, что они являются выдумкой мистически настроенных фантастов. Например, «Некрономикон» сумасшедшего араба Абдула Альхазреда, который, кстати сказать, неоднократно упоминается Лавкрафтом и Дарлетом, зловещий том «De Vennis Mysteriis» доктора Людвига Принна, ужасное сочинение графа д'Эрлетта «Cultes des Goules», проклятая книга фон Юнтца «Unaussprechlichen Kulten» и его же «Безымянные культы». Книга эта, между прочим, получила название «Черной» из-за ее мрачного содержания.
Как-то, набравшись наглости, я попросил у Клавдии Парфеновны почитать что-нибудь этакое, когда она демонстрировала мне отрывки жуткой «Книги Эйбона», пропитанные, по ее словам, ужасом «Пнакотй-ческие Рукописи», «Текст Р'лаи» и книгу почтенного Уорда Филлипса «Тауматургические Чудеса в Ново-Английском Ханаане». На что Клавдия Парфеновна, рассмеявшись, заверила меня, что пословица «Меньше будешь знать – крепче будешь спать» как нельзя более относится к знаниям, содержащимся в этих распечатках, о коих непосвященным в некоторые области человеческих знаний ведать противопоказано. Если то же самое она говорила Яне, нет ничего удивительного в том, что та перечитала всю ее библиотеку и приставала ко мне со своими дурацкими расспросами.
– О чем, по-твоему, мне надобно писать? – в свою очередь спросил я у настырной девицы. – В оккультных науках я ни бельмеса не смыслю. Остаются женские романы, детективы, фантастика.
– M-да… – с сожалением в голосе изрекла Яна. – Неужели у людей нет больше проблем, о которых стоило бы призадуматься умному человеку? Неужели до вторжения фишфрогов жизнь была столь безоблачна и ничто не царапало твою душу?
Я вынужден был признать, что она все-таки умная девчонка. Или начитанная. Потому что про «царапало душу» было сказано точно. Про то, что не царапает, не то что писать – говорить скучно. Хотя, с другой стороны, пиши, говори, пой, кричи благим матом – что от этого изменится? Байка про то, что «однажды мир прогнется под нас» – такая же ложь, как утверждение, будто некое поколение русских выбрало пепси.
Почему бы нам, впрочем, было и не поговорить на отвлеченные темы под умиротворяющее гудение огня в Печи, под крепко заваренный чай и сгущающиеся с каждой минутой лиловые, бархатистые сумерки?
– О том, что царапает душу, пишут и журналисты. Хотя такие, «проблемные», статьи давно вышли из моды. Равно как и умные книги. Коль скоро общественная значимость искусства уверенно сходит на нет, ему остается только развлекательная функция. Публика хочет, чтобы ей щекотали нервы, а не царапали души. Князя Мышкина заменили акулы-мегаладоны и парки юрского периода. Но писать о них романы вряд ли более достойно, чем статьи о древних цивилизациях, экстрасенсах и всевозможных аномалиях, которые печатает «ЧАД».
– Очень удобная отговорка! – фыркнула Яна, вызывающе звякая ложечкой о стенки чашки. – О закате искусства говорили во все времена. Особенно громко те, кто занимался прибыльной поденщиной. Всякие там Эжены Сю и Понсоны дю Террайли.
– При желании в этот же ряд можно поставить и Александра Дюма, – заметил я. – Но ведь об этом же писал в середине прошлого века Кафка, который, по мнению критиков, поденщиной не занимался.
– Что-то не припомню! – заявила Яна с таким видом, будто ее незнание Кафки являлось веским аргументом.
– Ну как же! Вспомни хотя бы его «Голодаря». Забавный такой рассказ о человеке, сделавшем своим ремеслом, или даже искусством, умение долгое время обходиться без пищи. Некоторое время это умение привлекало к нему общественное внимание, а потом перестало вызывать интерес почтенной публики. В конце концов попавший в цирк Голодарь умирает-таки от голода, но перед смертью открывает тайну своего искусства. Оказывается, он был его служителем исключительно потому, что никакая еда не доставляла ему удовольствия.
– Не понимаю, к чему ты клонишь!
– Это притча. О том, что искусство необходимо лишь самому художнику. Да и то потому, что иные материальные и духовные ценности, которыми живет человеческое общество, его не увлекли и не вдохновили. У того же Кафки есть еще один забавный рассказ – о мышиной певице. Называется он «Певица Жозефина, или Мышиный народ». Собственно говоря, это тоже притча о том, что общество вполне может обойтись без певцов, писателей и художников. Наверно, так оно и есть. Роль их, во всяком случае, становятся все менее значительна или, лучше сказать, все более неприглядна. Они превратились в шутов, рекламирующих образ жизни и товары. Торговых агентов, менеджеров, ловко маскирующихся под традиционно уважаемых созидателей прекрасного.
– Если рассуждать подобным образом, Рафаэль, Тициан и Врубель тоже рекламировали образ жизни и товары! – запальчиво возразила Яна. Скорее из чувства противоречия, чем по существу вопроса.
– Нет, они выполняли заказы людей, смысливших в искусстве. Развитие живописи, литературы и музыки было обусловлено вкусами образованных заказчиков, а когда их не стало, мир захлестнула волна масс-культуры.
– Ничем не аргументированное стариковское брюзжание! Ты говоришь так, будто образованные люди повымерли, а между тем образование, напротив, стало повсеместным!
Наверно, такой разговор мог состояться только во время нашествия акваноидов. Мои приятели и знакомые собратья по перу избегают говорить на подобные темы, да и сам я предпочитаю обсуждать проблемы насущные, а не вселенские. Хотя, по большому счету, именно о них и следует говорить, если мы не хотим превратиться в свиней, озабоченных лишь количеством ботвиньи в корыте. И все Же я не стал бы развивать эту тему, если бы мне не хотелось утереть нос нахальной, лезущей на рожон девчонке.
– Образованные люди – очень расплывчатое понятие. Я говорил о людях, способных понимать музыку, живопись, поэзию. А для того чтобы их понимать, надо быть хотя бы чуть-чуть причастным к музыке, живописи, поэзии. Понимать, грубо говоря, откуда ноги растут. – Я жестом попросил Яну не перебивать меня, И она, снисходительно пожав плечами, воздержалась от комментариев и возражений. – Пушкин, Лермонтов, Волошин, Маяковский – список можно продолжить, включив в него Джека Лондона, Антуана Экзюпери, Генри Миллера – неплохо рисовали. Грибоедов, как известно, писал музыку; Леонардо и Микеланджело писали стихи. Не потому что были исключительными и уникальными – просто уровень образования до середины девятнадцатого века ставил искусство выше математики. Образованный человек был обязан уметь сколько-то рисовать, петь, музицировать, слагать стихи. Соответственно, он мог оценить то, что было сделано в этой области другими людьми. При отсутствии этих начальных знаний и навыков как может человек, будучи даже прекрасным математиком, отличить полотна Кандинского от пачкотни какого-нибудь коекакера?
Не скрою, мне хотелось произвести впечатление на Яну. Но ради одного этого я бы не стал забираться в такие дебри, хватило бы трех-четырех звучных имен, о которых она слышала разве что мельком. Нет, я стал развивать эту тему потому, что она, как мне кажется, была неким образом связана с вторжением фишфрогов и продемонстрированными Яной картинами грядущего.
– Иными словами, нынешняя элита, по-твоему, недостаточно элитна? – спросила Яна, намереваясь меня поддеть, но эта была одна из нужных мне реплик, и я не обратил внимания на прозвучавшую в ее голосе иронию.
– Нынешняя элита, быть может, понимает что-то в физике, химии и математике, хотя наша, сдается мне, больше продвинута в науке обирания своих ближних. Но она ничего не понимает, и не может понимать, в картинах Рафаэля, фресках Леонардо и статуях Микеланджело. Не потому, что она не «голубой крови», а потому, что ее этому не учили. И, естественно, не понимая ценности живописи, музыки, поэзии, она видит в них лишь инструмент увеличения своих доходов. Полотна Веласкеса, Тьеполо, Тинторетто представляют для нее ценность антикварную, а не художественную. Равно как старинные часы и здания, иконы и пистолеты… Индивидуальные изделия в жизни и в искусстве заменила штамповка, доступная всем – в прямом и переносном смысле. Финансовом и интеллектуальном. Недостаточно смотреть, надо видеть. Уметь видеть. Быть обученным разглядеть прекрасное там, где одни видят лишь раритет, а другие – способ заработать деньги для приобретения свечного заводика.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо…
– писал Николай Гумилев, предчувствуя недоумение по поводу того, что делать обделенному слухом с сочинениями Баха и Бетховена. Что делать обделенному литературным вкусом с произведениями Бунина и Булгакова, а подслеповатому в художественном отношении – с картинами Серова и Богаевского? Если мерилом всему является прибыль, то к чему голос Карузо и Марио Ланца в мире людей, не способных отличить их от Киркорова? Шопенгауэр писал в своих «Афоризмах житейской мудрости», что «к сожалению, из ста глупцов, взятых вместе, не выйдет и одного разумного человека».
– Стало быть, человечество откажется от высокого искусства и удовлетворится тем его суррогатом, который доступен всем! – констатировала Яна безо всякого сожаления.
– Стало быть, так, – согласился я. – Лев Толстой уступил место Пелевину. Астрид Линдгрен – сотворительнице Гарри Поттера. Чарли Чаплин – этому черненькому коротышке, забыл, как его… А Шаляпин – Земфире и Глюкозе. Поэзия представлена текстами песен для группы «Ленинград». Но ведь процесс дегенератизации человечества будет продолжаться! Уже и Маринина с Акуниным становятся неудобочитаемыми и на смену им пришла Донцова!
– Что-то я не читала о подобных перспективах развития человечества в вашем «ЧАДе»! – заметила Яна, изо всех сил старавшаяся меня подколоть, поскольку ответить по существу ей было нечего.
– Об этом-то я и веду речь! Умные журналы: «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Техника– молодежи», «Наука и религия» – умерли. Наивно рассчитывать отыскать что-то умное в «Домашнем очаге», «Космополитене», «Караване» и прочих глянцевых журналах. Процесс оглупления идет семимильными шагами. Эвримены – субъекты общества потребления – стали его идеалом и эталоном, а это значит: достойного будущего у нашего общества нет.
– Вот те раз! Всеобщее среднее образование есть, количество высших учебных заведений растет, научные открытия сыплются, как из рога изобилия, научно-техническая революция..
– Безусловно! Человечество на пороге выхода в Большой космос. Но вот вопрос: принесет ли космическая экспансия пользу человеческому сообществу и отдельным людям? Принесут ли они в космос что-либо, кроме своих недостатков? Количество далеко не всегда переходит в качество, а диплом об окончании высшего учебного заведения в лучшем случае свидетельствует о накоплении человеком некоего количества знаний. Доктор Геббельс имел корочки и получше. Гиммлер, Геринг и прочая сволочь, придумавшая концлагеря, абажуры из человечьей кожи, мыло и удобрение из трупов, тоже были ребятами не от сохи. Научные открытия – палка о двух концах. Один из которых – более 30 миллионов убитых во Второй мировой войне. Когда человечество выберется в космос, потери в очередной войне будут измеряться миллиардами или даже планетами…
И тут у меня в голове что-то щелкнуло. А что, если вторжение акваноидов как раз и вызвано беспокойством о том, что мы вплотную подошли к освоению космического пространства? Что, если они вовсе не гнусные захватчики, а заботливые дяди, вломившиеся в соседский дом, увидев, как великовозрастный кретин, добравшись до папиного автомата, расстрелял кошку, собачку, золотых рыбок, хомяка и попугая, а теперь собирается выйти на улицу, дабы порешить злобных соседей, мешающих ему врубать усилок на полную мощность? Или тот же кретин, выжрав бутылку водки, садится за руль цапиного «газона», дабы показать соседке класс езды по городским улицам в час пик?..
– Да ты просто мракобес! Философствующий шиз-одиночка, с вывихнутыми от непомерной нагрузки мозгами! Хотя такие-то, наверное, и нужны, чтобы писать завиральные статьи для вашего «ЧАДа»? – изрекла Яна и величественно прошествовала в свою спальню.
* * *
Разговор с маленькой ядовитой дурой вконец испортил мне настроение, которое и без того было паршивым. Мысль о том, что появление фишфрогов именно сейчас не было случайным, представлялась столь очевидной, что оставалось только удивляться, как она не посетила меня раньше. А ведь, учитывая, что с развалом Союза мир стал однополюсным и, следовательно, будет деградировать в ускоренном темпе, появление инопланетных «пожарников» можно было предвидеть. Это было вопросом времени, и вот пожалуйста – они явились, убедившись, что цивилизация наша катится в пропасть и может по пути напакостить соседям по вселенной. Ну что же, за дурость нашу нам и воздастся.
Спать не хотелось, и я, чтобы отвлечься от безрадостных мыслей, начал листать найденные в Вовки ной комнате книги. Попытался вчитаться и отложил в сторону, хотя свеча давала достаточно света. Судя по тому, как были потрепаны детективы в бумажных обложках, их успело прочитать несколько человек – и как только со скуки не померли?
Чтиво про всех этих сыщиков-суперменов, бегающих по нашим и импортным градам и весям с «макарами» или «магнумами» под мышкой, неизменно вызывало у меня тоску и отвращение. Если уж на то пошло, чтиво о любых суперменах: с мечами, «узи», «калашами», бластерами, атомными пистолетами, ворохом заклинаний и спрятанными в магическом рукаве «файерболами». Ибо мне всегда хотелось задать вопрос: зачем? И даже не одно «зачем», а несколько, на которые, понятное дело, ответа мне не получить.
Первое «зачем» относится к сюжету. Раньше доблестные сыщики охотились за империалистическими шпионами и расхитителями социалистической собственности, либо укравшими из универмага партию каракулевых шуб, либо схитивших картину Репина из запасынков Русского музея. Допускаю, что когда-то это вызывало у читателя живой отклик, хотя теперь вызывает улыбку. Проклятые империалисты – ныне лучшие, наши друзья и предполагаемые инвесторы – поимели уже все, что хотели, начиная с вывода наших войск из ГДР. Расхитители прикарманили все богатства страны, получили за это все мыслимые награды родины и стали образцами для подражания. Теперь они создают мемуары, которым уготована участь бестселлеров, а школьники пишут о них восторженные сочинения.
Справедливости ради надо признать, что «Место встречи изменить нельзя» я смотрел несколько раз с превеликим удовольствием. В отличие от свеженьких уголовных сериалов, где трудно понять, из-за чего сыр-бор загорелся. Один богатенький дядя кинул другого, тот обиделся, и пошла писать губерния. У третьего дяди злодеи украли дочку, дабы тот поделился потом и кровью скопленными богатствами – продал ради ее освобождения один или два нефтеперерабатывающих комбината или там Питерскую АЭС. Доблестный сыщик берет за задницу наркомафию, которая совращает с пути истинного золотую молодежь из столичной элитной гимназии. Ну и, разумеется, перепевы голливудских историй о доблестном мстителе: за напарника, брата, любимую девушку, папу, маму, дедку, бабку, дочку, внучку, Жучку, любимую кошку и мышку, тоже помогавшую некогда тащить выросшую до неба репку. Вот ведь беда-то пришла в наш колхоз!
Ну как тут не спросишь: ребята, как вы это многажды переваренное кушать можете? Ну фильмы голливудские – ладно, там хоть спецэффекты! А наши-то гляделки, читалки? Зачем?
Нет, я понимаю; что не всем быть Конан Дойлями, но зачем эта заведомая, бесконечная игра в поддавки автора с читателем, читателя с автором? Игра, где автор держит читателя за клинического идиота, а читатель считает таковым автора и пребывает в восторге от приятной компании. Ну, автор, допустим, детишкам на молочишко зарабатывает, хотя есть ремесла и поприбыльней. Но читатели-то что – мазохисты или потенциальные клиенты Желтого дома и больницы Кащенко? Или образ победительного Ивана-дурака им навеки глаза и сердца застил, не оставив места никому другому?
Беда заключается в том, что вопрос «зачем» применим не только к книгам, но и к жизни. И не прозвучавший из уст Яны, но подразумевавшийся вопрос: «Зачем ты пишешь дурацкие статьи?» – был вполне уместен в контексте нашего разговора.
Легко хаять скверные книги. Нетрудно писать глупые статьи про призраков и оживших мертвецов, откапывать в газетах, журналах и в Интернете материалы о таинственных исчезновениях, находках невиданных зверей и компилировать из них удобочитаемые опусы. Но ведь эти отписки – только ради хлеба с маслом. Они не могут быть целью и смыслом жизни. Равно как не может для полного сил, честолюбивого мужчины стать целью жизни мечта о собственном свечном заводике. Проповеди постперестроечных моралистов: обогащайтесь, как можете, заводите жену, детей, друзей, любовниц и живите полной жизнью – лживы. Ибо я не представляю себе жизнь только для себя, любимого. Без сверхзадачи она будет ущербной, куцей, как заячий хвост. Мало быть сытым, одетым, любящим и любимым – все это у меня уже было! – и я прекрасно понимаю, почему мои сверстники носят футболки с ликом Че Гевары, ушедшего с поста министра промышленности Кубы в иноземные партизаны – «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».
Но куда уйти мне? Какая цель стоит того, чтобы драться за нее, не щадя живота своего? Если нет ни красных, ни белых, а только жрущие, жрущие и еще раз жрущие…
Были знакомые ребята-журналисты в Чечне – избави бог, особенно добровольно, принимать участие в войне, с которой кормятся стоящие у власти. А теперь вот вторжение фишфрогов. Казалось бы, чего проще – бей пришельцев, спасай человечество! Но надо ли спасать обреченное? Ежели представители рода человеческого живут исключительно ради своих лавочек и свечных заводиков, то пропади они пропадом! Тогда нам, и верно, пора уступить место под солнцем более достойным, даже если те выглядят как помесь лягушек с рыбами или змеями. Не во внешности суть…
Сев перед печью, я открыл заслонку, подкинул в топку обломки старых досок и некоторое время любовался стремительным полетом искр, похожих на огненных мотыльков, гудящим в ее чреве пламенем. Среди рыжих и алых языков его иногда пробивались таинственные струйки фиолетового и зеленого огня – это горели обрывки толя и рубероида. Из топки веяло теплом, но чем дольше я сидел перед ней, тем больше, согреваясь наружно, остывал внутренне. Мне было так же холодно и одиноко, как лермонтовскому Демону. Однако разница между нами была существенной: Демон отверг Землю, а я изначально был одинок, как и все окружавшие меня люди. Мне нечего было отвергать, и одиночество с годами усугублялось. Оно росло по мере того, как рассеивались мифы. О дружбе, любви, взаимовыручке. Красивые, добрые сказки, которыми люди пытались скрасить свое одиночество и замаскировать неприглядную истину, заключавшуюся в том, что каждый в этом мире сам за себя и, следовательно, один против всех.
До вторжения фишфрогов я как-то не задумывался над этим. Чувствовал, но не осознавал своего одиночества. И только теперь, слушая Вадю, порывавшегося куда-то бежать, кого-то спасать, делать какие-то никчемушные благоглупости, понял всю бесцельность его порывов. И собственной прошлой жизни, и той, что еще предстояло прожить. Вера в то, что жизнь каждый день начинается заново и сулит всякие необыкновенности, растаяла и, как писал Блок: «Нам ясен долгий путь», который, выражаясь словами Грина, есть «дорога никуда».
В языках пламени передо мной проплывали смутные видения детства. Воспоминания о том, как я тяготился любовью матери, любовью, которая была, с одной стороны, похожа на привязанность обезьяны к своему голозадому детищу, а с другой – любовью собственника. Я был предметом любви. Мама любила меня не за то, каким я был, а просто за то, что я был ее сыном. До какого-то времени это было здорово, и я вовсю этим пользовался. А потом стало противно и стыдно. Стыдно за нее и за себя. И безмерно жаль ее неудавшуюся, нескладную жизнь: Только эта жалость и давала мне силы терпеливо выслушивать ее упреки, что вот, дескать, жизнь на меня положила, а я… Слава богу, этому пришел конец, когда у нее появился Даниил Сергеевич, а у меня – Ленка, и мы разбежались по отдельным берлогам.
Мама зря меня упрекала. Я вырос умненьким, благоразумненьким и не бегал вместо школы в кукольный театр, как ужасненький авантюрист и проходимец с длинным носом. К тому же я был везунчиком, и на первый взгляд все у нас с Ленкой ладилось. Вот только пусто было и правильно все до ужаса. Театры, кино, походы на байдарках во время летнего отпуска. Я научился расписывать пулю – хитроумному способу убивать время, о котором Маринина сказала как-то по телику, что «преферанс – это жизнь». Я даже начал смотреть телевизор, и только болеть за «Зенит» так и не сумел себя заставить.
Все как в старой шутке о цыгане, который учил лошадь голодать. Совсем было уже научил – три дня не ела – жаль, на четвертый сдохла. А я сбежал от Ленки, дабы начать новую жизнь. Перешел из шибко глянцевого журнала в «ЧАД». Но новая жизнь оказалась не краше старой. Хоть в монастырь, право, иди! Вот только кто меня туда возьмет, и к чему мне самосовершенствоваться? Век учись, а помрешь-то все одно дурнем… И вот что паскуднее всего – некому мне позавидовать, не с кого взять пример, как обустроиться в этом холодном и пустом мире!
Так что если акваноиды испепелят нашу Землю, клянусь, я не пожалею. То есть жаль будет, конечно, лесов и полей, просторного неба в нагромождении жемчужных гряд облаков, речек и озер, хмурого Балтийского моря и всех тех зеленых и теплых морей, которые мне так и не довелось увидеть. Хотя их-то фишфрогам зачем уничтожать? Достаточно истребить человеков, а остальное использовать с большим умом. У рачительного хозяина такое добро не пропадет…
* * *
Дверь не запиралась и не скрипнула, когда я, поместив огарок свечи в консервную банку, вошел в комнату Яны. В крохотной комнатке было жарко, и она спала, сбив одеяло в ноги и раскинув руки так, что пирамидки сосков отчетливо проступали под черной футболкой. Голова была закинута, и мне виден был только ее профиль, похожий на профиль Пушкина, но едва я поставил свечу на занимавший половину комнаты столик, как она повернулась и уставилась на меня огромными, немигающими глазами.
– Уйди, – сказала Яна, и мне действительно захотелось уйти.
Я не люблю усложнять себе жизнь, и только мысль о караулившем за дверью одиночестве заставила меня остаться. Сняв рубашку, я бросил ее на стол и задул свечу.
– Уйди! – прошептала она, когда я сел на край кровати. – Уйди, дурак! Козел! Тупица!
Я ощутил, как она отпрянула от меня, вжимаясь в стену, и лег на освободившийся край кровати. Она вцепилась мне в волосы, а я притиснул ее к себе, пожалев, что не был паинькой и не пошел спать.
Она попыталась ударить меня коленом в пах, но я опередил ее – обнял за плечи и коснулся губами ее сухих, жарких губ. Она могла укусить меня, но вместо этого мы потерлись губами, словно обмениваясь верительными грамотами, и пальцы Яны разжались. Мои губы пробежали по ее подбородку, шее. Она потянула мою голову к себе, подставляя губы для поцелуя.
Все было именно так, как должно было быть. Она не уехала из Питера и не ушла из квартиры матери, потому что ждала меня. Не из-за того, что я такой уж хороший – просто больше ждать было некого, а одиночество – пытка, придуманная не для меня одного. Она знала, чем все это кончится, и грубила, не желая подчиняться предначертанной судьбе. Сидя у печки и глядя в огонь, я бессознательно складывал кусочки несложной мозаики и тоже знал, чем все это кончится. Я не хотел этой новой мороки, но, видно, во мне, как в каждом мужчине, живет инстинкт покорителя горных вершин, до которых, по совести говоря, нам нет никакого дела. И если бы Яна не нахамила мне, отходя ко сну, я бы не стал входить в ее комнату…
Когда я начал целовать ее груди, она задышала часто, неровно, от нее запахло женщиной. Чутко реагируя на мои ласки, она широко раскинула ноги, и источаемая ею влага, её готовность, после всех этих лицемерных воплей: «Уйди! Козел! Тупица!» – неожиданно разозлили меня.
– У тебя здоровые инстинкты, – сказал я, но она, вместо того чтобы обидеться, рассмеялась хриплым, торжествующим смехом и начала стаскивать с меня джинсы.
* * *
В ней не было ничего особенного. Молодая, хорошенькая самочка. В меру зажатая, в меру бесстыдная. Начитанная и развитая значительно больше своих сверстниц, нервная, как и положено предсказательницам и экстрасенсам, но в общем такая же глупая и наивная, мечтающая, как нынче принято, не о принце, а о супермене из спецназа, который окажется к тому же еще и сыном богатеньких родителей.
Зачем, спрашивается, она мне нужна? – подумал я безо всякого любопытства, разглядывая ее в мутном свете зарождающегося дня. Неужто это и впрямь закон продолжения рода во что бы то ни стало, кидающий нас в объятия друг друга на пороге смерти? А тут еще это нестерпимое чувство одиночества… Впрочем, вопрос «зачем» – самый болезненный и бессмысленный из всех, и возвращаться к нему я не собирался.
– Подкинь дров.
Я хотел посмотреть на нее, и она, догадавшись об этом, рассмеялась. Скинула на стул одеяло, в которое куталась, словно в тогу, и присела перед печкой. Открыла заслонку, кинула в топку несколько полешков. Золотые и алые отблески огня заструились по молочно-белой коже и черным как смоль волосам.
Мы дурно друг о друге думали?
Мы были слишком далеки.
Но теперь-то, в этой крошечной хижине,
прибитые вместе к одной судьбе,
будем ли мы оставаться врагами?
Придется растить в себе любовь,
коли нельзя друг от друга уйти,
– продекламировала Яна, поворачивая ко мне словно отчеканенный из золота профиль. Он совсем не походил на пушкинский, и я удивился, как это мне могла прийти в голову такая ересь.
– Опять Ницше?
Она кивнула и, позволив мне еще некоторое время полюбоваться своей наготой, закрыла печь, зевнула и закуталась в одеяло.
– Пойдем спать. Светает.
– Светает? Свет тает, – повторил я. – Чушь, это истаивает ночь.
Яна улыбнулась и ушла в свою спальню. Я докурил сигарету и пошел в комнату, где спал подраненный Вадя.





