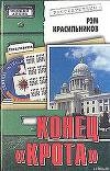Текст книги "Расплата"
Автор книги: Павел Крамар
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Но вдруг он замолк, закрыл лицо ладонями, несколько минут раскачивался взад-вперед, а затем продолжал: «Если говорить по правде, мы не Кунгурцевы и не Терещенки, а Дрозды. У моего отца фамилия Дрозд, зовут его Назар Архипович, жил он в Приморье, в Чугуевском районе, селе Тамбовке. А я не Кунгурцев, а тоже Дрозд, Игнат Назарович, родился не в Маньчжурии, а в той же деревне Тамбовке в 1922 году. Моя мама – Дрозд Лукерья Елисеевна, мой брат, Андрей, моложе меня – родился тоже в Тамбовке, в 1929 году. Тамбовку я помню смутно, потому как уехал оттуда давно, когда мне было 9 лет. Больше мне помнятся горы и тайга. Когда мы там жили, то отец пахал землю и охотился. Во время коллективизации он почему-то настроился против колхозов и скандалил с властями. Поэтому его хозяйство хотели забрать, а семью выселить. Но отец, как он позже не раз хвастался, опередил большевиков, распродал все добро и вместе с нами со всеми сбежал в Маньчжурию. Знакомые отцу хунхузы, как он называл контрабандистов, обещали за границей райскую жизнь. Но получилась большая ошибка. Не успели мы появиться за границей, как Маньчжурию заняли японцы. Отца они сразу арестовали, но через год отпустили, дали немного земли в Мишани, где мы поставили фанзу, а затем домик. Так мы и жили. Кроме занятий в своем хозяйстве отец иногда работал плотником, портным и сторожем. Но главное, чем он занимался, как я понял позже, – тайно прислуживал японцам. Отец часто куда-то ездил по их заданию – вроде бы на заработки, оставляя хозяйство на мать. За это от японцев имел хорошие деньги и подарки, чем порою тоже хвастал. И хотя японцы не дали ему развернуться и завести свое торговое дело, о котором он мечтал всю жизнь, отец все-таки во всех своих неудачах и невзгодах винил Советы. В 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, он часто становился на колени перед образами и молил всевышнего даровать победу германцам. В Маньчжурии мы все жили под фамилией Терещенко, откуда и как она появилась, я не знаю. Когда по настоянию отца в 1944 году я дал согласие сотрудничать с японцами и меня увезли в Харбин на подготовку, то мне дали другую фамилию – Кунгурцев, а во время обучения называли еще и по кличке Коршун. С тех пор отца, мать и брата я не видел, они остались жить не в Мулине, как я объяснял раньше на следствии, а в Мишани, по улице Сунгарийской, дом 54». – «Где родился ваш отец?» – «Не знаю». – «Кто у него есть из родственников?» – «Кажется, нет никого». – «А у матери?» – «У мамы есть сестра Устинья, она живет в Тамбовке, замужем за Зайчиковым. Родилась мама где-то в Приморье, но девичьей фамилии я не знаю». – «Кто такой Зайчиков?» – «Зайчиков – муж моей тетки Устиньи, зовут его Кузьма, он, должно, тоже живет в Тамбовке». – «Что вы еще неправильно показали на следствии?» – «Кроме фамилии, имени и отчества я неверно показал, что являюсь сыном русского эмигранта, а также что родился и жил в городе Борисове, затем якобы в 1944 году попал в Советскую Армию, был ранен и лечился от контузии. Вся эта часть моих показаний является легендой, которую придумали для меня японцы. Мне было тяжело усвоить эту легенду, поскольку я вырос в Маньчжурии и плохо представлял обстановку в Советском Союзе. Поэтому перед направлением в Приморье меня тренировал специальный инструктор, прибывший, видимо, по просьбе японцев в Харбин из Германии. Фамилия или кличка его была Артюх. Он средних лет, низкого роста, с рыжими, торчавшими во все стороны волосами и глубоко запавшими бесцветными глазами. До войны сидел в тюрьме за мошенничество. Попав на оккупированную немцами территорию, стал им прислуживать. Артюх хвастался, что знает всю подноготную о России и что обученных им агентов, переброшенных в Советский Союз, разоблачить невозможно. Он придумал для меня прикрытие, как он говорил, железное. Я должен был выдавать себя за родившегося в городе Борисове, что никто не сумеет проверить, так как все архивы оттуда немцы вывезли и почти весь город спалили. Не показал я на следствии также то, что в случае явной угрозы моего провала в Приморье мне следовало переодеться в гражданский костюм и прибыть к Зайчикову, где переждать опасность, а затем снова выполнять задание». – «Зайчиков тоже сотрудничал с японцами?» – «Нет, по-моему, не сотрудничал. Как мне объяснили японцы, Зайчиков находится в какой-то большой зависимости от моего отца, поэтому он в любое время мог меня укрыть. В случае прибытия к Зайчикову мне запрещалось рассказывать о сотрудничестве с японцами. Я должен был объяснить ему, что сбежал от призыва в японскую армию и нелегально через границу проник в Советский Союз… Хочу еще добавить: по настоянию Артюха японцы выработали мне так называемую ступенчатую линию. Суть ее состояла в том, что в случае задержания в СССР и проверки я вначале должен выдавать себя за командировочного. Если же будет назревать угроза разоблачения, тогда мне нужно переходить ко второй ступени, называя себя раненым фронтовиком, а на третьем этапе мне предписывалось симулировать потерю памяти в связи с контузией. На каждом из этих этапов, разъяснял Артюх, меня будут проверять… Хорошим поведением мне полагалось усыпить бдительность русских и, улучив момент, сбежать, выехать в другой район и снова браться за выполнение задания. После получения от меня информации через тайник японцы обещали дать другой способ связи через связника, а также указания о способе проникновения на службу в советскую воинскую часть. Но это почему-то не получилось – так я говорил и на допросах».
Беседовал я с Кунгурцевым в этот раз очень долго, спокойно. Мы по-хорошему расстались. О сообщенных им сведениях я немедленно доложил в Хабаровск, где организовали их срочную проверку. Через сутки оттуда сообщили, что новые объяснения осужденного в основном соответствуют действительности: Дрозд Назар в Тамбовке не обнаружен и вроде бы там не появлялся.
И вот наступила последняя встреча с Кунгурцевым. Пока я читал написанное им, по моей просьбе, объяснение, он внимательно наблюдал за выражением моего лица, видимо пытаясь определить, как я оценю его письменные признания, сохранится ли доброжелательность к нему, установленная в конце предыдущей беседы, или последуют окрики, придирчивые вопросы и обрыв разговора. Объяснение он написал, как говорится, от души. Оно полно отвечало на все до того неясные для нас вопросы. Я так и сказал Кунгурцеву – со всей доброжелательностью: «На вашу искренность хочу ответить тем же. Мы уже навели некоторые справки, и сведения относительно вашей семьи нашли подтверждение. Благодарим за правду».
Кунгурцев даже вспыхнул, услышав эти слова, весь преобразился, и за все эти дни впервые на его напряженном лице появилась улыбка. Он написал и передал мне записку для родителей: «Дорогие мама, папа и Андрей! Я жив и здоров, нахожусь в Советском Союзе. Думаю, что вам всем нужно переезжать жить сюда. А людям, которые передадут эту записку, прошу верить. Игнат».
Ответ на письмо я обещал прислать Кунгурцеву из Хабаровска.
Глава V
В ОТРОГАХ СИХОТЭ-АЛИНЯ
– Закончив работу по делу Кунгурцева, – продолжал свое очередное выступление перед курсантами Петр Петрович, – я ночью прилетел в Хабаровск. А утром у руководства управления уже всесторонне обсуждались новые показания этого заключенного. Много было сказано о ранее допущенных промахах по этому делу. Но к выводам пришли однозначным: Терещенко-Дрозд после побега из-под конвоя в 1945 году, вероятнее всего, вернулся в Маньчжурию. Правда, осуществить это не так просто. Поскольку обстановка в Приморье по сравнению с тридцатыми годами несравненно изменилась: граница усиленно охранялась, – зарубежные контрабандные ходки давно были ликвидированы и беглец утратил свои многие старые связи. Поэтому не исключалось, что он скрывается где-то на нашей территории, возможно, у своих старых знакомых или родственников. Враждебно относясь к Советской власти, Дрозд, возможно, совершал новые преступления. Поэтому руководство и поручило мне и капитану Сошникову срочно провести самый тщательный розыск беглеца на Дальнем Востоке и точно установить, кто он такой.
В наше харбинское представительство по репатриации русских эмигрантов из Маньчжурии мы направили письмо с просьбой выяснить, не проживает ли в Мишани с семьей разыскиваемый; если проживает – передать ему записку от сына Игната. Если там такового не окажется, то, по возможности, уточнить, что известно его жене о судьбе мужа.
Кроме таких справочных мер мы с капитаном Сошниковым предусмотрели также поездку в село Тамбовку, где надеялись напасть на след Терещенко-Дрозда. Сперва прибыли поездом в Даубиху. Затем наш путь пролегал по Чугуевскому тракту, петлявшему среди таежных перевалов и круч.
Октябрь уже был на исходе. В тайгу полновластной хозяйкой входила зима. С побелевших вершин и крутых отрогов Сихотэ-Алиня все ниже и ниже в долины и распадки спускался снежный покров; крепчали морозы, стыли реки и ручьи. Последние два дня огромными хлопьями валил сырой, липкий снег, занесенный в горы теплым океанским ветром.
На попутной полуторке, которая едва катила по обледеневшей дороге, мы за день преодолели с трудом западный склон большого горного отрога и благополучно спустились в Улахинскую долину. К вечеру того же дня добрались до районного центра – села Чугуевки. Это добротное таежное село широко разбросалось по извилистому берегу бурной горной реки Улахэ. В нем стояли похожие друг на друга, срубленные из вековых сосен и лиственниц пятистенные, с тесовыми крышами дома, украшенные затейливыми резными наличниками на окнах и обнесенные плотными дощатыми заборами. В одном из таких домов мы нашли райотдел госбезопасности, начальником которого был подполковник Акишев Зиновий Иванович.
«Наш район хоть и таежный, но с многоотраслевым хозяйством, – рассказывал нам подполковник. – В поймах Улахэ и ее притоков набирает силу после войны животноводство. Есть несколько леспромхозов. Словом, район богатый, да рабочих рук не хватает. Вот и прибывают к нам вербованные и переселенцы из разных краев. В общем-то, народ хороший, работящий. Однако и мусор наплывает: бездельники, любители легкой наживы, преступники… Недавно мы в одном леспромхозе несколько бывших полицаев разоблачили. Нынешним летом сгорели два штабеля леса и коровник… Не исключено, что поджог – дело вражеских рук… О Назаре Дрозде-Терещенко собрали кое-какие сведения. В Тамбовке он поселился после гражданской войны. Сперва охотой занимался, потом – землепашеством. Очень скоро разбогател. Батраков имел. В тридцатом году подлежал раскулачиванию, но успел распродать свое имущество и сбежал в Маньчжурию. Ходили слухи, будто Назар Дрозд разбогател на сделках с контрабандистами. Старожилы, кто знал его, померли. Правда, есть в селе семья, которой, пожалуй, известно, каким ветром занесло его сюда и где он сейчас. Это – супруги Зайчиковы. Кузьма Зайчиков и Дрозд Назар женаты на сестрах, свояки то есть, вместе в тайгу ходили – за пушным зверем. С Зайчиковыми не беседовали – вас дожидались».
Большим хлебосолом, по-таежному гостеприимным и радушным, оказался подполковник Акишев. Сводил нас в жарко натопленную парную баньку. А за ужином чем только не потчевал! И духовитым медвежьим салом, вяленой рыбой, мариноваными грибками, пахучим липовым медом…
В помощь нам подполковник Акишев отрядил молоденького лейтенанта Дедова.
Рано утром на легковушке мы выехали в Тамбовку. По просторной долине петляла заснеженная, но вполне пригодная для быстрой езды дорога. Однако пришлось и поволноваться. Не без опаски одолевали еще не совсем замерзшие, стремительные Улахэ и Ли Фудзин. Мостки через эти речки снесло осенним половодьем после проливных дождей, а новые сооружены были наспех, еле держались на опорах…
В солнечный морозный полдень мы въехали в Тамбовку – небольшое таежное село. Подрулили к зданию сельсовета. Возле него уже поджидал нас, сидя на завалинке, председатель сельсовета – Бочаров Демид Львович. Это был рослый, крепкий мужчина. Здороваясь, он протягивал сразу обе руки – с жесткими, как дерево, ладонями. Вместо левой ноги волочил по земле фабричный протез.
«Летом сорок четвертого под Яссами долбануло», – сказал Бочаров, когда мы вошли в просторную комнату, единственную в переделанном под служебное помещение крестьянском бревенчатом пятистенке.
Эта комната служила в разные, разумеется, часы и кабинетом председателя, и сельским клубом (тут были скамейки и низенький помост – нечто вроде сцены, в глубине которой светился небольшой квадрат белого полотна – экран для кино).
«Когда, значит, меня в госпитале подштопали – вернулся в Приморье. Ведь я коренной дальневосточник. Родом из села Камень-Рыболов. В Тамбовке как оказался?» – переспросил он, снимая с себя медвежий тулупчик и предлагая нам раздеться.
В комнате, хоть и потягивало холодком из-под дощатого пола, все же было тепло. Печь голландка, огромная, уходящая в высокий потолок, полыхала жаром – к ее железному кожуху нельзя было притронуться. Где-то внутри печи смачно потрескивал смолистый, пахучий кедрач.
«В Тамбовке я оказался, значит, так… – Бочаров поставил на стол, за которым мы расположились, ведерный самовар, водрузив на него заварной чайник. – В войну жила тут тетка моей женки. И женка с ребятишками перебралась сюда из Камень-Рыболова, когда я на фронте находился. В ту пору люди, значит, кучнее жить старались. Так мы тут и прижились».
Рассказывал он неторопко, с крестьянской рассудительностью и степенностью. И все подливал и подливал нам в огромные металлические кружки терпко пахнущий чай, изготовленный из каких-то таежных растений.
«Председательствую с сорок пятого. С народом обзнакомился. А как же – служба. Про родичей Дрозда Назара, про супругов Зайчиковых, значит, про Кузьму и про женку его Устинью, только хорошее можно сказать. Многострадальная семья, право слово. У них пять сынов было. Трое в войну полегли. Иван, предпоследний сын, сейчас в армии. А самый меньшой – Толик – в одиннадцать годков в речке утоп, прошлой весной. На тот час солнце уже за обед перевалило. Устинья на берегу была – бочонок из-под квашеной капусты отмывала. Вдруг видит: из-за кустов на стремнину потоком вынесло ее сынка – Толика, значит. А рядом с ним – ровесник его, соседский мальчонка Володя, с утра еще на рыбалку они ушли. И вот тебе… Замерла Устинья от ужаса. Да скоро пришла в себя. Бросилась в воду в чем была. А речка у нас не больно широкая и не сказать что глубокая, по шейку мне будет. А течение быстрое. Кое-как настигла утопавших Устинья, обратала их в обе руки – да к берегу. Но возле самого берега поскользнулась на валуне, упала, сама стала захлебываться. Тогда и оставила сынка Толика и кое-как выбралась на берег с Володей. Тут же обратно кинулась в речку. За своим сынком, значит. Да поздно – волна захлестнула его и унесла. Чуть не обезумела от горя Устинья. Долго бежала вдоль берега. Рвала на себе мокрые седые волосы. То тут, то там в воду кидалась, дико кричала. Подоспели люди, кое-как увели ее домой силой. И до той поры была Устинья немного нелюдимой. А после случившегося словно окаменела. Даже слезы не брали ее. Наши сельские уважали Устинью за кроткий нрав, за рассудительность, за честность. Однако после того слишком досужие кумушки прожужжали друг дружке уши – понять все хотели, почему Устинья спасла не своего, а чужого ребенка…»
Председатель сельсовета, рассказывая нам об Устинье Зайчиковой, вспомнил и такой случай. Однажды в июльский полдень колхозницы, сгребавшие подсохшее сено, скошенное накануне на заречной поляне, устроились подле берега обедать. Была среди них и Устинья. Жевала как поневоле и вдруг, повернувшись к речке, увидела спасенного ею Володю. Он нес в высоко поднятой левой руке корзину с обедом для своей матери, а правой прижимал к себе девочку лет семи – шли они через неглубокий перекат. Вода здесь доходила детям чуть выше коленок. Устинья безмолвно смотрела на детей, и слезы катились по ее лицу. Потом тяжело поднялась и, покачиваясь, отошла в сторонку, отвернувшись от речки. Под могучим кедром опустилась на землю, прислонилась к шершавой его коре.
Гомон среди женщин утих. Они поняли, какое неуемное горе всколыхнулось в душе Устиньи. А легкомысленная, болтливая Лизка Труханова, жена скотника, присела рядом с Устиньей, стала утешать ее. «Не бедуй так сильно, милая. Ведь сына назад не воротишь. Надо было своего на берег тянуть, а ты…»
Но она не договорила: Устинья оторвала мокрые, в слезах, руки от лица, отпихнула прочь от себя Лизку, закричала, рыдая: «Уйди, дурочка! Да разве мне было бы легче, если бы я спасла своего, а чужой утоп?»
Она еще долго голосила, а женщины напряженно и виновато помалкивали, не зная, чем ее утешить.
Потом она поднялась, подошла, пошатываясь, к речке, умылась, черпая пригоршнями прохладную, ключевую воду, и, успокоившись, принялась за работу.
«Вот такая она, Устинья Зайчикова», – сказал Бочаров, вздыхая.
Лейтенант Дедов и Бочаров ушли из сельсовета поздно вечером, пообещав навести через сельских активистов интересующие нас справки по делу Дрозда Назара.
В тот вечер, оставшись вдвоем, Сошников и я еще долго прикидывали, все ли гладко в наших мероприятиях. Перед приездом в Тамбовку у нас была вроде бы полная ясность, с чего их начинать и как дальше действовать. Поскольку Зайчиковы – родственники Дрозда, рассуждали мы, то они могут скрывать правду о нем. И мы намеревались под каким-нибудь предлогом вызвать Кузьму и Устинью в сельсовет и, чтобы исключить возможность их сговора, опросить поодиночке – в разных помещениях. А лейтенант Дедов должен был обеспечить скрытое наблюдение за домом Зайчиковых, чтобы выяснить, как они поведут себя после опроса, не укрывают ли Назара. Но вот после беседы с председателем сельсовета этот наш план оказался никуда негодным. Разве можно было еще и недоверием травмировать эту исстрадавшуюся женщину? И мы решили вообще исключить опрос Устиньи, ограничившись беседой с Кузьмой. Однако Кузьма без супруги мог бы ничего нам не сказать – такую уж она имела над ним власть, по утверждению председателя сельсовета. Следовательно, нужно было встречаться и с Устиньей. Так и порешили.
Рано утром в сельсовет прибыл лейтенант Дедов. Кстати, он оказался очень смышленым и энергичным оперативником. Сообщил нам, что признаков пребывания Назара в селе никто из его жителей не замечал. А с рассветом Зайчиков Кузьма вместе с Гладких Женей, комсоргом колхоза, на пяти подводах уедут за сеном. Устинья будет дома одна.
«Я мог бы заменить Кузьму, если он нужен для беседы», – предложил лейтенант. «Нет, заменять не надо. Пусть все будет как есть. Кузьма пусть едет за сеном. А мы будет беседовать с Устиньей у нее дома», – распорядился я.
Лейтенанту было поручено продолжать наблюдение за домом Зайчиковых и попросить комсорга Женю Гладких понаблюдать за Кузьмой, не встретится ли он во время поездки с кем-либо из посторонних людей.
Минут через тридцать лейтенант Дедов подал сигнал: Кузьма отбыл из села.
Капитан Сошников и я отправились к избе Зайчиковых, расположенной почти в центре Тамбовки. Подходы к их двору просматривались со всех сторон. Ко двору одним концом примыкал огород с редким частоколом. Другой конец огорода уходил почти к самой речке, еще не замерзшей посредине; дальше темнела густая тайга.
Добротная изба Зайчиковых была срублена из аккуратно отесанных, побуревших от времени лиственных шестигранников. Ее вершила необычно низкая крыша, какие чаще всего встречаются в ветреных степях. На окнах – незатейливые наличники. Во дворе, обнесенном почерневшим драньем, – сарай, баня, клади дров.
Мы вошли в избу.
На наше приветствие сидевшая у стола за вязанием сухощавая пожилая женщина с маленьким морщинистым лицом ответила равнодушным взглядом светло-серых, словно выцветших, глаз и еле заметным кивком.
«Вы Устинья Елисеевна?» – спросил я. «Я – Устинья. А чего вы хотите?» – ровным голосом ответила она, не отрываясь от вязанья. «Мы прибыли из района. По поручению властей хотели бы побеседовать с вами. Если, конечно, не возражаете».
Посматривая то на нас, то на свою работу – недовязанную варежку, – Устинья равнодушно сказала: «Ну что ж, беседуйте». – «Устинья Елисеевна, нам нужно поговорить о вашей сестре Лукерье. Беседа может немного затянуться, поэтому разрешите нам раздеться».
Упоминание о Лукерье вмиг преобразило Устинью. Бросив недовязанную варежку со спицами на стол и быстро поднявшись, она спросила: «А вы разве знаете Лукерью? Где она сейчас?» – «Мы немного знаем ее семью». – «Ну хорошо, раздевайтесь, кладите шинели вот сюда, на скамейку, и садитесь к столу», – захлопотала она, быстро семеня по избе.
В это время я увидел на стене в рамке фотокарточки трех молодых военных в гимнастерках и высоких буденовках. Я подошел к снимкам поближе. Ребята молоды, вроде бы мои ровесники, и сфотографированы они, как видно, на предвоенной действительной службе. У меня вдруг кольнуло в груди, и к горлу подкатил комок. Устинья заметила мою взволнованность, вскрикнула: «Вы что, знали их?!»
Я сделал над собой усилие, чтобы ответить. Но некоторое время не мог произнести ни слова. Сошников, уже раздевшийся, тоже с недоумением смотрел на меня. Наконец переведя дыхание, я ответил: «Нет, не знал… Это ваши… которые не вернулись?» – «Да, сыночки мои. Гриша, Андрюша, Ефим – погибли родимые», – сказала Устинья дрожащим голосом, вытирая взмокшие глаза концом платка. «Извините, Устинья Елисеевна… – сказал я. – Вот взглянул на ваших погибших сыновей и вспомнил своих братьев. Двое из них тоже не вернулись. Дома у матери висят точно такие их фотокарточки предвоенных лет… На братьях такие же буденовки…»
Я отвернулся от нее и быстро снял шинель.
Через минуту мы все трое уселись на скамейки, поставленные у стола.
«Устинья Елисеевна, ваша сестра Лукерья живет с семьей в Маньчжурии. Нашими властями принято решение дать возможность всем русским, кто этого захочет, переселиться оттуда в СССР. Мы хотели бы знать, сможете ли вы хотя бы на время принять к себе Лукерью с семьей, если они пожелают приехать сюда из Маньчжурии?» – «Да как же это? – запричитала Устинья. – Да что мы, ироды какие, что своих не приютим?! Пусть хоть сегодня едут к нам, места всем хватит… А что, они уже выехали?» – «Нет, еще не выехали, но могут приехать. Правда, одна есть сложность в вопросе об их приезде. Дело в том, что исчез и неизвестно где находится муж Лукерьи – Назар. А до установления его местонахождения власти не могут принять решения о переезде всей семьи».
Не успел я это произнести – Устинья встрепенулась, соскочила со скамейки и забегала по избе, запричитала:
«Ой, Назар… Да это же не человек, а бродяга какой-то! Измучил, погубил сестру и детей. Когда только все это кончится…» – «Где он находится?» – спокойно спросил капитан Сошников. «Кто его знает, не ведаю, ей-богу». – «А у вас сейчас его нет?» – «Нет, конечно. Да что вы, родимые, не верите мне?! Вот вам крест святой!» – Устинья повернулась лицом к висевшей в углу, возле потолка, иконе, прикрытой полотенцем, расшитым красными крестиками, быстро и коротко перекрестилась. «Когда он в последний раз приходил к вам? – продолжал, не меняя тона, спокойно спрашивать Сошников, в то же время цепко вглядываясь в побледневшее лицо женщины. – После войны он был у вас?» – «Был он у нас после войны. Как на духу скажу, два раза был: как-то осенью приходил и годом раньше». – «Устинья Елисеевна, мы верим вам, успокойтесь, пожалуйста. Садитесь и расскажите по порядку все, что знаете про Назара», – попросил я. «Хорошо, все расскажу как на духу, – тихо произнесла Устинья, усаживаясь на скамейку и поднося ко рту конец платка. – Назар объявился в Тамбовке впервой, кажись, в 1920 году со своим другом Афоней. Стал на постой у одинокой солдатки Ильяшенко Марьи. Охотился с другом. Потом они куда-то ушли, на прииск, что ли. На другой год Назар под осень вернулся в село один. Сказал: Афоня вроде бы утоп в речке. Пришел Назар богатый, сытый, хорошо одетый. И вот, видно, на свою беду, в то самое время к нам в гости приехала из Сучана моя младшая сестра Лукерья – двадцати лет от роду. Красивая была. Как они увиделись, Назар и околдовал девку. Горазд был на веселые побасенки. Да и удалый был, ничего не скажешь. Дорогие подарки ей носил: шелковые да атласные наряды. И двух недель не прошло – повенчались молодые. Хотя мы с мужем, Зайчиком, и возражали, поскольку Назар был без родства, неизвестно, кто он такой и откуда взялся». – «А почему вы мужа Зайчиком зовете?» – «Его все так прозывают. Еще в царское время приехали мы с ним в Тамбовку из Сучана. Ставили эту избу, и Кузьма за лесинами в тайгу отлучался и там простудился – ногу потянуло. Сколько ни лечился с тех пор, а все ходит хромый, потому люди и прозывают его Зайчиком, а в метриках записано: Зайчиков… Назар оказался мужиком ухватистым. После женитьбы быстро поставил хутор, распахал и засеял поле по притоку речки, накупил скотины. Потом из года в год добрел, расстраивался. Со стороны людей нанимал – батрачить, стало быть. Во всем у Назара с Лукерьей был достаток: ели-пили что хотели, стали наряжаться, только счастье стороной обошло их. Признавалась мне Лукерья: загубил он ей жизнь. Окромя хозяйства ворочал какими-то темными прибыльными делами. С контрабандистами в тайге якшался. Сестра христом-богом умоляла его бросить гибельное занятие. Назар, как от мухи, отмахивался. И даже под пьяную лавочку пригрозил: сболтнет что кому-либо – несдобровать ей, жизни решит. А детей нажитых он и сам, дескать, выведет в люди… Так все у них и тянулось…
Зимой 1930 года Назар быстро распродал свое имущество и ночью уехал с семьей неизвестно куда. Даже не попрощался с нами. А уже по весне в Тамбовку заходил незнакомый охотник. Передал он от Назара поклон и сказал: дескать, тот с семьей ушел жить в Маньчжурию. О них с тех пор ни слуху ни духу. И вот объявился Назар. В непогодь, глухой ночью, пришел к нам. Мы уже спали, как вдруг собака забрехала. И все кидается к огороду, с цепи рвется. Мы думали – волки. Кузьма набросил на плечи тулуп, во двор вышел. Два раза пальнул из ружья. Потом вернулся, в постель улегся. А собака еще злее залаяла. Тогда мы с Кузьмой вдвоем вышли из избы: он – с заряженным ружьем, я – с топором. Во дворе, около бани, голос послышался: «Зайчик, не стреляй, иди сюда, не бойся». – «Ты кто такой, чего тебе надо?» – крикнула я. «А, Устинья, и ты здесь. Это я, Назар, идите сюда да не шумите», – хрипло проговорил человек.
Тогда я признала Назара.
«Ну, здравствуйте, родичи. Христом-богом прошу приютить меня, не дайте погибнуть христианской душе». – «Здравствуй, Назар, пойдем в избу», – недовольно сказала я, а Кузьма поздоровался с ним за руку. «А кто у вас дома есть?» – «Чужих никого, только наши ребятишки». – «Э, нет, лучше зайдем в баню, – вроде бы попятился от нас Назар. – Мне пока нельзя показываться властям, все потом объясню».
Окно в бане я плотно закрыла рядном. Лампу зажгла, печь растопила. Назар присел у печки на чурбак, протянул к огню свои лапастые, скрюченные от холода руки.
На нем была старая, вся изодранная фуфайка. На штанах, вроде брезентовых, – заплата на заплате. Обут был в сыромятные звериные шкуры – перетянул их веревками. Борода седая, взлохмаченная. Кашлял он утробно. Страшно и жалко на него было глядеть. Муж мой, Зайчик, тоже пожалел Назара: «Ты что же, ента-таво, свояк, заплоховал крепко, как я вижу?»
Назар ему не ответил. С трудом унял кашель, попросил: «Мне бы, Устинья, кипяточку трошки да и самогону не мешало бы».
Принесли ему кипяток, кой-чего поесть, бутылку самогону. Назар повеселел и говорит: «Я полежу у вас в бане и уйду по своим делам. Вы не бойтесь. Только пусть сюда не заходят чужие люди и ваши дети. Для этого ты, Зайчик, развали на бане крышу, закрой проходы к дверям, оставь только небольшой лаз. Потом будешь ладить заново крышу и заходить ко мне. А людям объясни: крышу ветром снесло».
Выпил самогону, закусил и тут же повалился на пол, пригреб к голове соломы. Мы с Зайчиком и переглянуться не успели – захрапел, уснул как убитый.
Прожил Назар в нашей бане до конца зимы. Его кормили, поили, подлечивали. Каждый день баню подтапливали. А заодно мы тут готовили запарку для скотины. Отлежался Назар, в себя пришел, разговорчивей стал. Сознался: дескать, ушел в Маньчжурию по уговору знакомых хунхузов. Те носили в тайгу спирт и разные товары и обещали помочь ему завести за кордоном торговое дело. Но ничего этого вроде не получилось. Занимался там хлебопашеством, и семья была в достатке».
Назар сказал тогда Зайчиковым, что старший сын его Игнат осенью сорок четвертого с группой юнцов из эмигрантов вроде бежал из Маньчжурии в Приморье. Обещал дать о себе знать, что да как у него, но как в воду канул. А год спустя, когда уже кончилась война с Японией, Назар тоже тайно пробрался в Советский Союз, чтобы найти сына. Не имея на руках никаких документов, к властям не обратился, а лишь расспрашивал о сыне случайных людей. Он поинтересовался, не приходил ли Игнат к Зайчиковым. Узнав, что не приходил, почернел весь, замкнулся в себе. Несколько дней не разговаривал. А когда снова разоткровенничался, признался Устинье, что, не найдя сына и нигде не пристроившись без документов на работу, решил зазимовать в тайге. В середине ноября сорок пятого добрался до хорошо известного ему старого стойбища гольдов на Рокотуне, рассчитывая отсидеться там в пещере до весны. Но вход в пещеру оказался заваленным скатившимися с хребта камнями. Около месяца расчищал проход и, пока это делал, изорвал в клочья всю одежду, крайне отощал и перемерз. Когда же все-таки своего добился и пробрался в пещеру – настолько ослаб, что уже не мог ходить по тайге, добывать пищу и поддерживать огонь. Тогда он и решился обратиться за помощью к Зайчиковым.
Назар однажды намекнул Устинье, что пришел в Тамбовку не с пустыми руками – сумел найти ранее припрятанные им в пещере золотые монеты, которые добыл за пушнину у хунхузов еще до ухода в Маньчжурию.
Он предлагал золото Зайчикову и просил его съездить во Владивосток, где приобрести для него подходящую одежду, а также подкупить какого-нибудь милиционера, чтобы узнать о судьбе Игната. Может, тот, дескать, арестован. Когда Назар это говорил Устинье, был сильно хмельной и кричал, что отдаст все нажитое им золото, чтобы вырвать сына. Зайчиков отказался ехать на поиски Игната, а побывав в Чугуевке, купил там за свои деньги Назару теплый пиджак, брюки, шапку и сапоги. Чем ближе подходила весна, тем нетерпеливее становился окрепший Назар. Растаяли снега, схлынуло половодье, и он однажды ночью ушел неизвестно куда. Прощаясь, только и сказал Зайчиковым, что идет искать сына Игната.