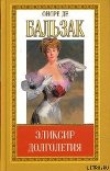Текст книги "Бальзак"
Автор книги: Павел Сухотин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Труды и дни
Объявив себя, особенно решительно в 1831 году сторонником роялистов, Бальзак и тогда не оказался в числе их активных деятелей и все время держался в зоне сочувствующих этой политической касте, а в 1832 году его политические выступления в прессе идут уже на убыль, несмотря на то, что не только в Париже, но и отголосками по всей Франции, вновь начинали вспыхивать восстания, ибо политические страсти ни на минуту не утихали. Мы знаем например два описания холерных волнений в Париже: Генриха Гейне и австрийского посла Аппоньи, и ни в одном не находим политической окраски. А между тем даже и в этих бунтах, являющих собою картины животной паники перед страшным лицом грядущей смерти, можно было бы усмотреть, хотя и в гротескных чертах, исконную рознь классов.
Удар колокола в ночь на 1 января 1832 года на соборе Парижской богоматери дал сигнал к началу нового восстания. Но неудача его была предрешена, ибо у власти стоял министр Казимир Перье [177]177
Перье Казимир (1777–1832). Французский банкир и политический деятель. Сначала принадлежат к левому крылу либеральной партии; будучи назначен председателем совета министров и министром внутренних дел, сделался реакционером, стал подавлять революционные восстания и способствовал процветанию конституционной монархии.
[Закрыть], член «партии сопротивления», который хотя и был прежде в оппозиции к клерикально-феодальному королю Карлу X, но в то же самое время нисколько не сочувствовал революции, и ее плодами воспользовался только в интересах буржуазии. Его цель была деловая – закрепить власть своего класса, положив конец демократическому движению, и сохранить мир с другими державами, отказавшись от поддержки зарубежных революций.
В стране наступило так называемое успокоение. Был закончен период беспрерывных войн и захватнических авантюр, и вся энергия устремлена к накоплению денег, а соответственно с этим, и к устройству материального быта и житейского уюта. И роялист Бальзак, будучи по своим политическим убеждениям врагом новой власти, не преминул, сам того не зная, косвенным порядком воспользоваться плодами политики своего классового друга, министра Казимира Перье, и устроил свою жизнь так, как этого требовали законодательные вкусы правящего класса.
Войдем в жилище Бальзака. «Главный вход закрыт железной решеткой, рядом с которой открывается маленькая калитка, как раз против ворот женского монастыря… Жилище Бальзака можно сравнить с домом провинциального буржуа; расположено оно между двором и садом. Два хорошеньких флигеля с окнами на запад, двухэтажные, с остроконечными крышами, выдаются на четыре метра в большой двор, отделенный от обширного сада низкой стеной, на которой расставлены горшки с цветами. От фундамента левого флигеля поднимается лестница, ведущая в первый этаж, в застекленную галерею, которая соединяет оба флигеля и служит прихожей или залой ожиданий. Галерея вела в маленькую гостиную, площадью в пять квадратных метров освещенную с востока окном, которое выходило во дворик соседнего дома. Напротив входной двери был камин из черного мрамора. Из этой маленькой гостиной вы проходили в рабочий кабинет. Рядом была спальня писателя; справа от гостиной находилась столовая, а из нее, по особой лестнице, можно было спуститься в кухню.
Таково было распределение комнат неправильной формы, из которых состояла эта странная и причудливая квартира… Теперь я попытаюсь, совсем как оценщик, описать всего две комнаты – рабочий кабинет и ванную; этого будет достаточно, чтобы составить себе приблизительное понятие о стиле меблировки остальных комнат. В гостиной, слева, между окном и стеной, скрывалась за занавеской маленькая потайная дверь, ведущая в ванную комнату, стены которой были выкрашены в белый цвет под мрамор. Там стояла белая мраморная ванна. Комната освещалась сверху большим окном, матовые красные стекла которого наполняли ее розоватым светом. Два стула с высокими спинками, обитые красным сафьяном, составляли единственную меблировку этой элегантной ванной, во всем достойной хорошенькой женщины.
Пройдем теперь, не останавливаясь, через рабочий кабинет, где мы отдохнем на обратном пути, и войдем в спальню молодого литератора, уже начинающего расправлять крылья в фантастической сфере роскоши и причуд. Войдя в эту спальню, вы останавливаетесь, пораженный. Два окна заливают ее морем света: одно выходит на юг, с видом на служебные помещения Обсерватории, а другое, на западе, открывается в огромный сад с цветами, фруктовыми деревьями и таинственной тенью. Эта комната была обставлена с тем вкусом, с тем богатством и роскошью, о которых можно составить себе представление, прочтя ниже описание рабочего кабинета писателя на улице Батайль, в Шайо. Достаточно сказать, что она была вся белая с розовым, наполненная ароматом самых редких, самых нежных цветов, вся залитая солнцем. Это была настоящая брачная комната пятнадцатилетней герцогини.
Прибавлю только, как верный и правдивый историк, одну подробность, очень характерную для автора «Озорных сказок»: в головах кровати, в густых складках розового и белого муслина, скрывалась еле заметная потайная дверца, выходившая напротив двери в столовую, которая, как я уже сказал, вела прямо в кухню, а оттуда во двор.
Пойдем теперь отдохнуть в рабочий кабинет нашего хозяина; его нет дома, и мы можем спокойно там посидеть… Этот кабинет представлял собой длинную комнату, площадью около шести метров на четыре; как и маленькая гостиная, он освещался двумя окнами, выходившими во двор соседнего владения, где был очень высокий дом, так что ни один солнечный луч никогда не проникал туда, и даже в самые ясные дни кабинет был погружен в полумрак. Против входной двери был небольшой мраморный камин. Справа – дверь в спальню. Меблировка была очень простая. Толстый, мягкий ковер, черный с голубым, покрывал паркет. Очень красивый книжный шкаф черного дерева, с большими панелями, украшенными зеркалами, с искусной резьбой, занимал все пространство между входной дверью и дверью в спальню.
Этот великолепный книжный шкаф содержал коллекцию редких и ценных книг, в роскошных переплетах из красного сафьяна, с гербами д'Антрэгов на крышках и корешках… Коллекция французских классиков, кое-какие латинские авторы и всего несколько разрозненных томов наиболее знаменитых из наших современных писателей. Там можно было заметить также любопытное собрание почти всех авторов, которые, как Сведенборг [178]178
Сведенборг Эммануил (1688–1772). Шведский ученый и «духовидец», основатель теософской секты сведенборгиан. Главное его сочинение – «Небесные тайны, находящиеся в священном писании или слове господа, с диковинами, виденными в мире духов и в небе ангелов». Сведенборгом увлекалась мать Бальзака. У нее были его сочинении и Оноре все их прочел в отроческие гады. Бальзаку мистицизм не был свойственен, и увлечение его Сведенборгом можно рассматривать только как дань времени.
[Закрыть](восторженным поклонником его объявлял себя Бальзак), писали о мистицизме, об оккультных науках и о религиозных верованиях всех народов. Напротив книжного шкафа, в простенке между окнами, возвышалась большая этажерка для бумаг, точно также из резного черного дерева, а в ней – папки из красного сафьяна с золотыми буквами. На этой этажерке стояла на высоком цоколе гипсовая статуэтка, около полуметра в высоту, изображавшая императора Наполеона I… На маленьком клочке бумаги, двух сантиметров в длину и одного в ширину, были написаны рукою неутомимого романиста следующие слова: «Чего он не мог завершить мечом, я осуществлю пером. Оноре де Бальзак».
На камине, украшенном зеркалом средней величины, стоял будильник из матовой бронзы и две фарфоровые вазы коричневого цвета. По обеим сторонам зеркала висели тысячи безделушек, целый арсенал нелепых, пестрых женских пустяков: вытертая перчатка, как будто снятая с детской руки, крохотный атласный башмачок, когда-то белый, который едва ли пришелся бы впору какой-нибудь андалузской маркизе; затем миниатюрный железный ключик, весь покрытый ржавчиной. Когда я спросил как-то Бальзака о его происхождении, он ответил мне, что это – его талисман, и он очень дорожит им. Была там, наконец, небольшая картина в рамке, где под стеклом был виден кусок коричневого шелка, на котором было грубо вышито сердце, пронзенное стрелой, с символическим девизом на английском языке: «От неизвестного друга»…Меблировку этой темной и уединенной комнаты довершало большое вольтеровское кресло, обитое красным сафьяном, совсем скромный – письменный стол, покрытый простеньким зеленым сукном, и четыре низких стула с высокими спинками, из черного дерева, обитые коричневым сукном с длинной шелковой бахромой того же цвета. Справа от двери, открывавшейся в гостиную, через галерею, находилась дверь столовой, веселой и очень хорошенькой комнатки».
Так описывает квартиру на улице Кассини Эдмонд Верде, издатель Бальзака, немало потерпевший от нравной натуры французского гения. Когда читаешь эти строки, невольно начинаешь припоминать, в каком произведении самого Бальзака и где именно встречается почти такое же описание внутренности дома, не потому, конечно, что Верде владеет тою же силой изобразительности, как и Бальзак, а потому, что самый стиль и сочетание описанных предметов воскрешает перед нами обиталище героев «Человеческой комедии».
Ванна с розовым светом и двумя креслами (непременно двумя), крытыми красным сафьяном, – разве это не та ванна, в которой проводила многие часы в дни своего величия великосветская куртизанка? А шикарная кровать рядом с потайною дверцей, скрытой за складками розового и белого муслина? Не есть ли это то самое томительное ложе юной герцогини, мечтающей сделаться супругой какого-нибудь барона де Растиньяка, этого лойяльного соучастника каторжника Жака Колена, который внушил ему, что для успеха всякой карьеры надо врываться в общество, как пушечное ядро или чума? А гербы на корешках и крышках сафьяновых переплетов, под которыми таились мистические вымыслы Сведенборга? Гербы предков, придуманных самим Бальзаком?
Квартира Бальзака – это стиль его произведений, стиль его героев, стиль эпохи, стиль буржуа, с одной только примечательной чертой, отличающей его от миллионов смертных: маленький клочок бумаги, прикрепленный к гипсовой статуэтке императора, и на нем: «Чего он не мог завершить мечом, я осуществлю пером». Это завет великого труженика, гиганта слова. Но и его не следует ставить в разряд чего-то невероятного. Разве мы не знаем еще примеров нечеловеческих усилий тех, кто с одним франком в кармане приходил в Париж побеждать мир и, победив его, умирал, оставив после себя сотни миллионов золота и груды бриллиантов Голконды и Виссапура? Эпоха Бальзака знала таких людей, в этом был знак и стиль эпохи, и в этом отношении гигантский труд Бальзака был ее же порождением.
И все-таки следует согласиться с Теофилем Готье в том, что в присутствии Бальзака нельзя было не повторить слов Шекспира: «Перед ним природа могла гордо подняться и сказать миру: вот человек». Этот человек «носил тогда вместо халата то самое монашеское одеяние из белого кашемира или фланели, со шнуром вместо пояса, в котором позднее его написал Луи Буланже… Это белое одеяние очень к нему шло. Он хвастался, показывая свои чистые обшлага, что никогда не нарушал их белизны чернильными пятнами, «потому что, – говорил он, – настоящий литератор должен работать аккуратно».
«Откинутый воротник его одежды обнаруживал шею атлета или быка, круглую, как обломок колонны, без мускулов, атласной белизны, резко выделявшейся рядом с яркой окраской лица. В то время Бальзак, в полном расцвете сил, обладал превосходным здоровьем, которое мало соответствовало тогдашней моде на романтическую бледность и зелень. Чистая кровь жителя Туреня пробивалась сквозь кожу его щек живым пурпуром и горячо окрашивала его губы, толстые и выгнутые, часто улыбавшиеся; небольшие усы и родинка подчеркивали их очертание. Нос с квадратным кончиком, разделенным на две половины, с широко раскрытыми ноздрями, был совершенно своеобразный – недаром Бальзак, позируя скульптору Давиду Анжер, говорил: «Берегитесь моего носа: мой нос – это целый мир».
«Лоб у него был красивый, большой, благородный, заметно белее остального лица, безо всяких складок, с одной только поперечной морщиной над переносицей; шишки «памяти на места» образовывали весьма значительную выпуклость над дугами бровей; густые, длинные, жесткие черные волосы были откинуты назад, как львиная грива… Таких глаз ни у кого не было: это были глаза, перед которыми орлы должны были опускать свои очи, глаза, которые могли видеть сквозь стены и сердца, могли испепелить взбесившегося зверя – глаза властелина, ясновидца, укротителя… Обычным выражением его лица была какая-то мощная радость, раблезианское и монашеское веселье. Разговаривая, Бальзак играл то ножом, то вилкой, и показывал руки, которые были редкой красоты, настоящие руки прелата, с розовыми и блестящими ногтями; он кокетничал ими и улыбался от удовольствия, когда на них смотрели; он считал их признаком расы и аристократического происхождения».
Таким мы видим Бальзака в 1832 году на улице Кассини, где он проживал под опекою тогда еще единственной служанки Розы, полной женщины с румяным и свежим лицом. Он приютил у себя своего друга, молодого художника Огюста Борже, который жил у него несколько лет. Итак, Бальзак не был одинок, а между тем он жалуется в своих тогдашних письмах: на одиночество и заброшенность, и, конечно, жалуется, кривя душой. К тому же и неизвестные поклонницы его не забывают и заваливают его стол восторженными посланиями.
И вот среди них в адрес издателя Госселена появляется письмо от некой Чужестранки. Чужестранки нередко писали ему, и особенно русские. В России, «в этой северной Франции», как называет ее Ловенжуль, «где нетронутым сохранился культ французского языка и искусства», многие дамы, русские и польские, жившие в своих имениях, вдали от «света», зачитывались романами Бальзака и, не зная его, по-институтски обожали.
Одна такая обожательница, не одобрившая «Шагреневую кожу», которая после «Сцен частной жизни» показалась ей слишком грубой, решила известить об этом Бальзака, не предполагая, что эта весть свяжет ее с ним на всю жизнь до самого последнего его вздоха. Эта чужестранка была графиня Евелина (Ева) Ганьска, урожденная Ржевусска. Родилась она в Киевской губернии, в Перебыще, по одним сведениям – 25 декабря 1803, по другим – 1805 года. Семья была большая – трое сестер и трое братьев, и все они впоследствии занимали видные места в свете как в России, так и во Франции. Денежные затруднения Ржевусских заставили искать для Евы богатого жениха, который не польстится на приданое, и Еву выдали замуж за Вячеслава Ганьского.
Он был старше ее на двадцать пять лет, человек необщительный, несмотря на то, что воспитывался в Вене, где общительность светского человека почиталась за добродетель. Большую часть своей жизни проводил в своем имении на Украине Вишховне. Земли у него было очень много, но из-за отсутствия дорог и рынков доходу она приносила мало, и граф не допускал каких-нибудь особенных роскошеств. С 1824 по 1831 год госпожа Ганьска родила пятерых детей, но четверо из них умерли вскоре же после рожденья, и осталась одна только дочь, Анна. Ей графиня отдала все свои заботы и не расставалась с ней ни на один день до самого ее замужества, – в 1846 году Анна была повенчана с графом Георгием Мнишеком.
Первое письмо Ганьской к Бальзаку, написанное ею через посредство гувернантки ее дочери, Анриетты Борель, попало к нему в руки 28 февраля 1832 года. Этого письма не сохранилось, но, вероятно, оно было написано незаурядно, ибо Бальзак, получавший немало дамских писем, обратил на него особенное внимание. Вообще из всех писем Ганьской сохранилось лишь два, да и то писанных не ее рукою, довольно скверным французским языком, и в них ничего примечательного нет.
В одном из них корреспондентка просит Бальзака дать ей знать, что он получает ее письма, поместив объявление в «Котидьен» – единственной французской газете, которая была разрешена к ввозу в Россию. И Бальзак такое объявление поместил, в номере от 9 декабря 1832 года: «Г-н де Б. получил посланное ему письмо; он только сегодня может известить об этом через эту газету, и весьма сожалеет, что не знает, куда ему адресовать ответ. Ч-ке – О. де Б.». Тогда этот способ сношения еще не был распространен, им почти никто не пользовался, и объявление могли принять за остроумную шутку. С тех пор Бальзак регулярно помещает в «Котидьен» извещения о выходе всех своих новых произведений, чтобы оповестить об этом Чужестранку.
Как бы очнувшись от своих тщеславных мечтаний о депутатском кресле, Бальзак возвращается к исконному труду. Он опять погружается в мир своих литературных замыслов, и даже темы его журнальных статей – в большинстве все в том же круге художественных зарисовок и наблюдений. Он подготавливает к новому изданию «Шагреневую кожу», но эта подготовка у него, как и всегда, выражается в коренной переработке крупных кусков текста, в добавлении целых глав и, главным образом, в искании стиля. Одновременно он пишет второй эпизод «Истории Тринадцати» и несколько «Озорных сказок». Эта работа заставляет его настолько крепко уединиться в своей квартире на улице Кассини, что он остается глух к событиям, происходящим в Париже весной и летом 1832 года.
В апреле этого года парижское общество было взволновано известием о том, что вдова герцога Беррийского со своими приверженцами высадилась неподалеку от Марселя с целью поднять восстание против Людовика-Филиппа в пользу сына своего, малолетнего Генриха V. Начать действия решено было в Вандее, в этой цитадели феодальных вожделений, но авантюра была во-время предупреждена, и сама герцогиня Беррийская арестована.
Заточение герцогини носило характер бутафорского пленения, так как никто из больших политиков не придавал особого значения ее замыслам, зная, насколько несерьезна и беспомощна была организация ее приверженцев – аристократов. Только на это событие еще отозвался Бальзак, и как «истинный карлист», через доктора герцогини Беррийской послал ей в заточение «живейшее восхищение поэта, приверженность роялиста, глубокое уважение француза и чувства частного лица».
В июне уже взволновали Париж более значительные происшествия, говорящие все о том же неуспокоении умов и неутихающем классовом борении. После подавления Июльской революции 15 сентября 1831 года, после восстаний, в Италии и Германии, также потерпевших неудачу, в Париж устремлялись многие эмигранты и именно те из них, для которых революционная деятельность не ограничивалась только территорией своей родины. По этой причине и за отсутствием средств к существованию они ютились в тех кварталах, где их деятельность скорее всего могла встретить сочувствие среди мелких буржуа, ремесленников и рабочих, подвергнутых в крайне тяжелое положение.
В начале 1832 года появляется много республиканских обществ, которые открыто выражают свое мнение в печати; участников этих обществ привлекают к суду, но обвинения в тайных заговорах оказываются несостоятельными, ибо подсудимые доказывают, что они выступали публично, и эти процессы только дают повод к новым публичным выступлениям против короля и правительства. «Да, мы хотим свержения этого слабого правительства, мы хотим республики», – заявляют республиканцы на суде. Таким образом можно себе представить, насколько была сильна революционная зарядка и как мало было нужно поводов к тому, чтобы она разрешилась в каком-либо внешнем проявлении. 1 июня умер генерал Ламарк, депутат-оппозиционер, а 5 июня на его похоронах в траурную колесницу, направлявшуюся в Пантеон, впряглись студенты и, встретив сопротивление воинского отряда, вступили с ним в стычку, о чем разнеслась весть по всему городу. И опять народ разбивал оружейные лавки, нападал на караулы, и вновь на улицах возникли баррикады. Восстание было подавлено, чрезвычайные суды готовили жестокие возмездия его участникам, но кассационная инстанция их не утвердила, и правительство должно было уступить. Обе стороны затаили взаимную ненависть. А 19 ноября Бержерон покушался на жизнь короля, направлявшегося на открытие новой сессии.
Король Людовик-Филипп давно уже перестал расхаживать по улицам Парижа в круглой шляпе и с дождевым зонтиком, сердечно пожимая руку каждому встречному лавочнику и ремесленнику, для чего, как говорили злые языки, он специально надевал грязные перчатки. Он засел в своем дворце в Тюильри и не казал оттуда носу. Печать тоже была резко настроена против него: «Трибюн», орган республиканской партии, ежедневно призывал к республике, «Насьональ» постоянно враждебно отзывалась о короле, юмористические журналы рисовали на него бесчисленные карикатуры.
Но буржуазный Париж продолжал веселиться, о чем свидетельствует описание Генриха Гейне: «В то время как различные затруднения и бедствия переворачивают внутренность государства, и внешняя обстановка все усложняется; в то время как все учреждения, даже самые высшие королевские, находятся под угрозой; в то время как политическая сумятица угрожает жизни всех – Париж этой зимой остается все тем же старым Парижем, прекрасным, волшебным городом, который так обворожительно улыбается юноше, так мощно вдохновляет мужа и так нежно утешает старца…
Франция похожа на большой сад, в котором сорвали все цветы, чтобы связать их в один большой букет, и этот букет называется Парижем. Правда, он распространяет сейчас не такой сильный аромат, как в те цветущие июльские дни, когда народы были одурманены этим благоуханием. Но все же он достаточно еще прекрасен, чтобы свадебно красоваться на груди Европы. Париж – столица не только Франции, но всего цивилизованного мира, и в нем собралась вся его духовная знать. Здесь собралось все, что велико любовью или ненавистью, чувством или мыслью, знанием или уменьем, счастьем или несчастьем, будущим или прошедшим. Если посмотреть на собрание знаменитых и замечательных людей, которые здесь встречаются друг с другом, можно принять Париж за живой Пантеон. Здесь создается новое искусство, новая религия, новая жизнь, и весело суетятся здесь творцы нового мира. Властители ведут себя мелко, но народ велик… Назревают великие дела, и скоро появятся неведомые боги. И при этом всюду танцуют, всюду цветет легкая шутка, веселая насмешка…»

Графиня Ева Ганьска, жена Бальзака
В январе 1833 года Бальзак получил от Чужестранки известие о том, что она скоро отправляется в путешествие и будет некоторое время жить недалеко от Франции. Супруги Ганьские ехали в Швейцарию. С конца января Бальзак стал отвечать на ее письма, но каким путем он ей их отправлял – неизвестно. Он выражает ей свою благодарность за удовольствие, доставляемое письмами, и многословно кокетничает: он-де, молод и одинок, никто его не понимает, в жизни у него были только одни огорченья, живет он в неустанных трудах, удалился от света, и единственная его отрада – это голос неведомой женщины, услаждающий его одиночество. И тут же облекается в рыцарские латы и потрясает мечом легитимизма и идет против своих врагов с открытым забралом, ибо он благороден, а его же за это бранят и ненавидят.
Первые письма Бальзака к Ганьской, несомненно, представляют собой наполовину вымысел, в той части, где они касаются его личной жизни и собственной особы, – в них он рекомендует себя не таким, каким был на самом деле, жалобит несуществующими невзгодами и старается в воображении Чужестранки нарисовать свой собственный образ как можно привлекательнее, за что впоследствии и получает возмездие – при первой их встрече Оноре де Бальзак производит неприятное впечатление. Он прав лишь там, где изображает свои непосильные труды по восемнадцать часов в сутки, очень сложную и кропотливую работу над рукописями и корректурами и над установлением своего собственного стиля, с подлинной и справедливой горечью замечая, что именно его-то и не признают современные критики. И, наконец, он по-бальзаковски великолепен там, где излагает свои планы и мысли о задуманных произведениях. Так, например, в одном письме он рассказывает о том, как хочет изобразить давно задуманную картину одной из наполеоновских битв:
«В ней я хочу приобщить Вас ко всем ужасам, ко всем красотам поля битвы; моя битва – это Эсслинг, Эсслинг со всеми его последствиями. Нужно чтобы равнодушный человек, сидя в своем кресле, видел бой, сражение, массы людей, стратегические планы, Дунай, мосты, чтобы он любовался подробностями и общей картиной этой борьбы, слышал артиллерию, интересовался ходом этой шахматной игры, видел все, чувствовал в каждом вздохе этого огромного тела – Наполеона, которого я покажу или дам увидеть только на одно мгновение, переправляющимся в лодке через Дунай. Ни одной женской головки: пушки, кони, две армии, мундиры. На первой же странице раздается пушечный залп и замолкает на последней. Вы будете читать, окутанная пороховым дымом, и, закрыв книгу, должны будете иметь перед глазами и вспоминать битву, как будто вы при. ней присутствовали».
Здесь чувствуется большой расчет художника и знание того, что иногда мимолетный показ какой-нибудь фигуры может произвести большее впечатление, чем ее тщательная и подробная выписка. Долгая и упорная устремленность Бальзака к батальным картинам и к военным сценам (которых было задумано до десяти – «Сцены из военной жизни») обнаруживает в нем очень характерную черту для писателя тогдашнего империалистического толка. Сюда же следует отнести и Стендаля, и Толстого, и Гюго.
Есть в этих письмах и еще нечто значительное, интимное – неудовлетворенность страстей и искание взаимного чувства молодой и красивой женщины. Жажда любви, взаимной и прекрасной, была настолько сильна, что Бальзак не стыдиться признаться в ней еще не ведомой женщине, хотя не исключена была возможность, что та могла бы и посмеяться над этим, превратив всю эту переписку в занимательную интригу. До сих пор любовный путь Бальзака пролегал по коротким или долгим этапам от одной стареющей женщины до другой: де Берни старше его на двадцать два года, д'Абрантес – на одиннадцать лет, де Кастри – на три года и инвалидка.
Следует поверить искренности таких излияний Бальзака: «Если бы Вы знали, с какой силой одинокая и никому не нужная душа рвется к истинному чувству! Я люблю Вас, неведомую, и это странное чувство – естественное следствие жизни, всегда пустой и несчастливой, которую я наполняю только мыслями и неудачи которой я смягчаю воображаемыми удовольствиями. Если такая любовь могла зародиться в ком-нибудь, то именно во мне. Я подобен узнику, заслышавшему в глубине своей тюрьмы чудесный голос женщины. Он всей душой отдается нежным и вместе мощным звукам этого голоса и после долгих часов мечтаний, надежд, после стольких порывов воображения прекрасная молодая женщина может принести ему смерть – так полно будет его счастье». И дальше, в очень простой и лаконичной фразе, звучит его жалоба: «А поседеть, не испытав любви молодой и красивой женщины – это грустно».
А между тем, каждый день довлеют заботы, и не всегда приятного характера: недоразумения с редактором Пишо и с издателями, кабальный договор с «Эроп литтерер», куда он должен был давать ежемесячно не меньше 8 колонок по 120 франков. К этому времени появился в печати «Феррагус» (первый эпизод «Истории Тринадцати»), который имел у публики очень значительный успех, не только во Франции, но и во всей Европе, не исключая России, где это произведение было отмечено нашим великим критиком Белинским, который, в разрез с прочими мнениями и первый из всех, почувствовал в Бальзаке необычайный талант.
«Посмотрите на Бальзака, – пишет Белинский в «Литературных мечтаниях», – как много написал этот человек, и несмотря на то, есть ли в его повестях хотя бы один характер, хотя одно лицо, которое сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми оттенками их индивидуальности! Не преследовал ли вас этот грозный и холодный обрах Феррагуса, не мерещился ли он вам и во сне, и наяву, не бродил ли за вами неотступной тенью? О, вы узнали бы его между тысячами; и между тем, в повести Бальзака он стоит в тени, обрисован слегка, мимоходом, и заставлен людьми, на коих сосредотачивается главный интерес поэмы. Отчего же это лицо возбуждает в читателе столько участия и так глубоко врезывается в его воображение? Оттого, что Бальзак не выдумал, а создал его, оттого, что он мерещился ему прежде, нежели была написана первая страница повести, что он мучил художника до тех пор, пока тот не извел его из мира души своей в явление для всех доступное. Вот мы видим теперь на сцене и другого из Тринадцати; Феррагус и Монриво, видимо одного покроя: люди с глубокой душой, как морское дно, с силой воли непреодолимой, как воля судьбы; и однакож, спрашиваю вас: похожи ли они сколько-нибудь друг на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женских портретов вышло из-под плодотворной кисти Бальзака, и между тем, повторил ли он себя хоть в одном из них?».
Особенно примечательны эти слова Белинского потому, что они являются первым серьезным отзывом, а тем более чужестранным, о произведениях Бальзака, в то время как в самой Франции отношение к нему критики, как к писателю, отличалось крайней поверхностностью, и к тому времени не появилось еще ни одного сколько-нибудь углубленного разбора его вещей.
Отзыв Белинского в смысле общей характеристики бальзаковского пера – явление замечательное, но наш критик не будучи еще знаком с постепенным ростом этого писателя, не мог усмотреть того, что именно в «Феррагусе» Бальзак уже более ясно и более полно, чем в ранее написанных вещах, определился как поэт Парижа. Этот Париж – не только панорама, официальный Париж, не только фон, на котором происходит действие и фигуры мелькают как на роскошной декорации. Урбанизм Бальзака – это вскрытие социального лица города, что и отличает его от описаний французской столицы, которые мы встречаем у иных авторов. Париж Бальзака – город религии наслаждения и эгоизма, город преступленьем нажитой роскоши и в подвалы брошенной нищеты, город социальных противоречий.
«Для других, – говорит Бальзак, – Париж всегда представляется одной и той же чудовищной диковиной, удивительным соединением движения, машин и мыслей, городом ста тысяч романов, головой мира». Но для любовников Парижа, к числу которых причислял себя Бальзак, «Париж – существо: каждый человек, каждая часть дома представляется им долей, входящей в клетчатку великой куртизанки». Надо было иметь такой зоркий и проницательный глаз художника, какой был у Бальзака, надо было много и долго бродить по улицам Парижа, «так хорошо изучить его физиономию, чтобы заметить на ней все бородавки, прыщи и пятна». Это дало возможность Бальзаку, взявши совершенно приключенческую фабулу, сбросить с себя плащ романтического гидальго и показать нам на груде золота нагое тело Парижа, изъязвленное социальными недугами.
В «Шагреневой коже» Бальзак еще не свободен от атлантических ухищрений и мистики, но здесь его реализм уже достигает совершенных форм. И недаром «Феррагусу» он предпослал предисловие, в котором снова старается отмежевать себя от романтической школы: «Отталкивающие кровавые драмы, комедии, исполненные ужаса, романы, в которых повествуется о тайно отрубленных головах, – все это было ему (автору) известно. Если кто-нибудь из читателей не насытился ужасами, с некоторого времени спокойно преподносимыми публике, автор может открыть ему страшные жестокости и захватывающие семейные драмы, пусть только будет выражено желание познакомиться со всем этим. Но здесь он предпочел выбрать самые нежные приключения, только те, в которых самые целомудренные сцены чередуются с бурею страстей и в которых женщина сияет добродетелями и красотой».