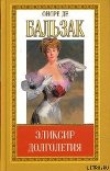Текст книги "Бальзак"
Автор книги: Павел Сухотин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Несомненно, что материал для описания литературного пиршества в доме Тайльфер почерпнут им из собственных беспутных дней. «Взглянуть в этот момент на гостиную значило увидеть нечто, подобное Пандемониуму Мильтона [170]170
Мильтон Джон (16(38—1671). Английский поэт, автор «Потерянного рая» и «Возвращенного рая». Пандемониум (упоминаемый Бальзаком) – царство тьмы, которое построил себе сатана, побежденный богом.
[Закрыть]. Голубоватые огни пунша адским светом окрашивали лица тех, кто еще мог пить. Безумные танцы, одушевленные дикой энергией, вызывали хохот и крики, вспыхивавшие, как взрывы фейерверка. Будуар и малая гостиная, заваленные мертвыми и умирающими, являли вид поля сражения.
Атмосфера была горяча от вина, наслаждений и слов. Опьянение, любовь, бред, забвение мира были в сердцах и на лицах, были написаны на коврах, выражались в беспорядке, и на все взоры набросили они легкие покровы, сквозь которые можно было в воздухе видеть опьяняющие пары… Там и сям группы тел, брошенных одно на другое, сливались с белым мрамором, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими комнату…»
Такова была ночь, но и утро было не менее кошмарно: «…Наутро, около полудня, прекрасная Акилина поднялась, зевая, усталая, со щеками, испещренными отпечатками табурета с узорчатым бархатом, на котором лежала ее голова. Евфрасия, разбуженная движением, подруги, сразу вскочила и хрипло вскрикнула; ее миловидное лицо, такое белое, такое свежее накануне, было желтым и бледным, как у девушки, которая идет в больницу. Понемногу все гости зашевелились, испуская мрачные стенания: они чувствовали, что руки и ноги их окостенели…»
Эти строки взяты из романа «Шагреневая кожа», который появился в августе 1831 года и произвел в обществе впечатление разорвавшейся бомбы. Теофиль Готье, сам переживший это впечатление, пишет о романе: «Бальзак, чувствовавший действительность своим, глубоким инстинктом, понял, что современная жизнь, которую он хотел описать, управляется великим фактором – деньгами, и в «Шагреневой коже» он имел смелость вывести любовника, занятого не только тем, тронул ли он сердце любимой женщины, но и тем, хватит ли у него денег, чтобы заплатить за ее карету. Это было величайшей смелостью, которую себе позволили в литературе, и ее одной было бы достаточно, чтобы обессмертить Бальзака. Впечатление было потрясающее, и пуристы возмутились этим нарушением законов жанра, но все молодые люди, которые, отправляясь на вечер к своим дамам, в белых перчатках, вычищенных карандашной резинкой, проходили по Парижу как танцоры, на цыпочках, боясь комочка грязи больше, чем пистолетного выстрела, – эти молодые люди сочувствовали мучениям Валантена, так как сами их пережили, и живо заинтересовались его шляпой, которую он не может сменить на новую и охраняет с такой поразительной тщательностью.
В дни крайней нужды находка одной монетки в сто су, сунутой между бумагами в ящик стыдливым состраданием Полипы, производит гораздо более романтический театральный эффект, чем появление пери в арабских сказках. Кто из нас не обнаруживал, в момент отчаяния, в кармане брюк или жилета, благословенный экю, появившийся как раз кстати и спасающий нас от несчастья – которого больше всего боится молодежь – очутиться в глупом положении перед любимой женщиной из-за кареты, букета, скамейки для ног, программы спектакля, чаевых или других пустяков в том же роде?»
Готье совершенно правильно отмечает, что в «Шагреневой коже» величайшей смелостью было показать деморализующее влияние денег на личную жизнь молодого человека этой эпохи, не лишенного тех способностей, которые при иных условиях могли бы дать ценные результаты. Но Бальзак гораздо шире и глубже поставил проблему значения этого нового фактора жизни и показал нам воистину страшную картину не личного, а общественного разврата, который воцарился в Париже с победоносным пришествием на арену политической жизни финансовой буржуазии, в роли полновластного хозяина. Французский читатель тогдашних газет и журналов мог еще верить, что их витии рождаются искренними убеждениями и страстями, но, после того как появилась «Шагреневая кожа», для него стало ясно, что красноречие и вдохновение газетчиков зависят не от убеждений, а целиком от кошелька редактора, банкира, депутата, писателя или любого обывателя, и нет такой клеветы, которая не могла бы появиться в печати, если за нее платят большие деньги.
Таким образом и в литературном смысле «Шагреневая кожа» является первым замечательным произведением, в котором поставлена тема Парижа, «города скорби», скорбь которого угадал, подслушал и увидел еще юный Оноре с мансарды на улице Ледигьер. Эта тема в будущем объединяет почти все произведения Бальзака, и если он назвал их «Человеческой комедией», в соответствии с «Божественной комедией» Данте [171]171
Данте Алигьери (1265–1321). Итальянский поэт, автор «Божественной комедии».
[Закрыть], то эта человеческая комедия происходит не где-нибудь, а в Париже: в предместье Сен-Жермен, на Шоссе д'Антен и в рабочих предместьях, так же как действие божественной комедии происходит в раю, в чистилище и в аду.
В успехе последних произведений Бальзака немалую роль сыграли и «Сцены частной жизни». Под этим названием были объединены рассказы из жизни самых обыкновенных людей. В то время как Гюго подготовлял к печати «Собор Парижской богоматери», где главным действующим лицом является средневековый собор, а человеческие добродетели облечены в безобразную маску Квазимодо, дианину красоту Эсмеральды и в аполлоново совершенство офицера Феба, Бальзак просто и бесхитростно изображал жизнь обыкновенных людей, которые проводят свои дни не в храмах, а в обыкновенных и порой довольно неопрятных жилищах, спят на непроветренных постелях, едят обыкновенную пишу, и если они радуются, страдают, ненавидят и любят, то все эти страсти Бальзак не возводит в степень страстей, которые должны потрясти весь мир. Этим изображением жизни своих героев Бальзак приближает к ним читателя. Героем литературы становится обыкновенный человек.
Внимание Бальзака к специфическим мелочам жизни замужней женщины, которой он отдает большое место в своих произведениях, послужило поводом к тому, что Бальзак стал получать анонимные письма от женщин с разными вопросами, упреками, восторгами и восхищениями. Одно из таких писем он получил от маркизы де Кастри, которая упрекала его за поругание женщины в «Физиологии брака» и восхищалась другими его произведениями. Письмо это она отправила ему, не будучи еще знакомой с писателем, тоже анонимно. Однако, инкогнито было вскоре раскрыто, и Бальзак стал бывать у маркизы. Кстати сказать, это была по-настоящему знатная дама, не в пример д'Абрантес, и это, конечно, импонировало Бальзаку.

Маркиза де Кастри
Клер-Клеманс-Анриэтт-Клодин, маркиза (потом герцогиня) де Кастри была дочерью Майе-де-ла-Тур Ландри и его жены, урожденной Фиц-Джемс, из дома Стюартов. Ее дядя, герцог Эдуард де Фиц-Джемс, состоял пэром Франции с 1814 года, а после Июльской революции, хотя и присягнул Людовику-Филиппу, продолжал оставаться сторонником Бурбонов и руководил партией роялистов. Двадцати лет, в 1816 году, маркиза вышла замуж за маркиза де Кастри, но брак ее оказался несчастливым, и она нашла утешение в Викторе Меттернихе, сыне знаменитого дипломата. Связь эта кончилась вдвойне трагически: однажды на охоте маркиза, зацепившись амазонкой за дерево, упала с лошади на спину и перебила себе позвоночник, а Виктор Меттерних вскоре после этого события умер от туберкулеза, оставив ей сына Роже, получившего впоследствии от австрийского императора титул барона Альденбурга.
На миниатюре того времени маркиза изображена с прической тридцатых годов в виде сложного сооружения из локонов, хорошенькая, улыбающаяся, несколько конфетная. «В двадцать лет, во всем великолепии своей свежести и красоты, она появлялась в салонах, в алом платье, спадавшем с плеч, достойных кисти Тициана [172]172
Тициан (1477–1576). Итальянский живописец, глава венецианской школы.
[Закрыть], и буквально затмевала собою блеск свечей». В таких витиеватых выражениях Филарет Шаль [173]173
Шаль Виктор Эфемион Филарет (1793–1873). Французский писатель, критик и филолог, человек широко образованный. В 1830 совместно с Бальзаком и Шарлем Рабу издал «Contes bruns». Ко второму изданию «Шагреневой кожи» написал предисловие, в котором излагал философские идеи, легшие в основу этого произведения. Потом разошелся с Бальзаком и выступал в печати против него, отзываясь о нем иронически и свысока. Бальзак тоже не остался в долгу и говорил о нем, что у него глаза, как у сороки, и что с чужой литературной собственностью он обходится, как эта птица.
[Закрыть]изображает эту красавицу, и тут же называет ее «элегантным полутрупом», то есть тем, что представляла собой маркиза к моменту знакомства с Бальзаком. Тогда она уже удалилась от света и по болезни, и отчасти из-за скандального прошлого.
Блеск титулов и гербов салона маркизы снова вызывает в Бальзаке приступы крайнего роялизма, – может быть, только ради угодничества перед маркизой, которое выражается в том, что он начинает печататься в альманахе «Изумруд» в декабре 1831 года, где опубликован отрывок «Отъезд» – отъезд Карла X в Шербург. Описание сделано в стиле Шатобриана, с восхвалением королевской власти.
Осенью этого года Бальзак на короткое время покидал Париж и жил в Саше. Там он блистал в местном обществе, волочился и даже подумывал о женитьбе на баронессе Каролине Дербук.
В декабре он возвращается в Париж; денег опять нет, и, также внезапно, как роялизмом, он снова заболевает приступами коммерческой болезни. Возникает очередной проект: издавать дешевую серию романов по 8 томов в месяц за 124 франка в год, крупным тиражом. Об этом проекте Бальзак рассказывает Жирардену, но тот его не одобряет. Тогда Бальзак едет в Ангулем и пытается склонить к своему предприятию своих друзей, супругов Каро, но и это ему не удается; он снова возвращается в Париж.
Литературная работа Бальзака в этом году направлена по линии новелл. Статьи в журналах становятся реже, только в «Карикатуре» и в начале 1832 года в новом журнале «Артист» печатается «Полковник Шабер». Интрига с маркизой де Кастри увлекает Бальзака. Он часто бывает у нее. Одно из этих свиданий он описывает так: «Он увидел свою воздушную сильфиду в коричневом кашемировом пеньюаре, который изысканно облекал ее своими пышными складками; она томно лежала на диване в темноте будуара. Госпожа де Ланже даже не встала ему навстречу, она приподняла только голову; ее небрежную прическу поддерживал вуаль. В дрожащем полусвете единственной свечи, поставленной вдали от нее, она дала ему знак сесть рукой, которая показалась де Монриво белой, как мрамор, и промолвила голосом столь же мягким, как и освещение: «Если бы это были не вы, господин маркиз… я бы не приняла вас».
Прообразом герцогини де Ланже, как известно, послужила маркиза. Маркиза принимала его так не только ради одного кокетства, но и потому, что действительно в то время долго не могла сидеть и быстро утомлялась. Впоследствии Бальзак беспощадно разоблачает холодное кокетство герцогини де Ланже-Кастри, поняв, что она смотрела «на страсть этого действительно большого человека, как на забаву для себя, как на заполнение своей незаполненной жизни». Но тогда Бальзак был искренно увлечен маркизой.
Бальзак находит время показываться в свете, где блистает своими разговорами или, вернее сказать, монологами. «Какой ум устоял бы перед обаянием его слов? Никто, кроме Бальзака, – вспоминает Теофиль Готье, – не обладал таким даром трогать, возбуждать и опьянять самые холодные головы, самые спокойные умы. У него было безудержное, бурное, увлекательное красноречие, которое захватывало кого угодно.
Бальзак не был тем, что называют «интересным собеседником» (causeur) – остроумно отвечающим, бросающим в споре меткое и решительное слово, перебрасывающимся в разговоре с одного предмета на другой, с легкостью касающимся всего и не заходящим дальше полуулыбки, – у него было неотразимое воодушевление и красноречие, и, так как каждый замолкал, чтобы его слушать, то с ним, ко всеобщему удовлетворению, беседа быстро переходила в монолог.
Точка отправления скоро забывалась, и он переходил от анекдота к философскому рассуждению, от наблюдения нравов к описанию местности; по мере того, как он говорил, краски на его лице оживлялись, глаза начинали сиять нестерпимым блеском, голос принимал различные оттенки, и иногда он принимался хохотать до упаду над смешными вещами, которые он видел, еще не описав их. Этим своеобразным трубным звуком он возвещал о появлении своих карикатур и шуток, и вскоре все присутствующие начинали разделять его веселье.
Несмотря на то, что это была эпоха мечтателей, растрепанных, как плакучая ива, слезливых юношей и разочарованных байронистов, – Бальзак обладал той мощной и грубоватой жизнерадостностью, которая, как говорят, была у Рабле и которую Мольер проявлял только в своих произведениях. Широкая улыбка, расцветавшая на его чувственных губах, была улыбкой добродушного бога, которого забавляет представление человеческих марионеток и который ничем не печалится, потому что понимает все и видит все вещи сразу с обеих сторон. Ни заботы, вызывавшиеся часто затруднительным положением, ни денежные неприятности, ни усталость от чрезмерной работы, ни монашеское уединение для трудов, ни отречение от всех радостей жизни, ни даже болезнь не могли победить этой геркулесовской жизнерадостности, – одной из самых замечательных черт Бальзака.
Кроме того, у Бальзака были все данные большого актера: он обладал полным, звучным, металлическим голосом богатого и мощного тембра, которым он умел владеть, делая его, когда нужно было, очень нежным, и читал он чудесно – талант, которого недостает большинству актеров.
Все, что он рассказывал, он играл, – с интонациями, с гримасами и с жестами, непревзойденными никем из известных мне актеров… Автор «Озорных сказок» был слишком пропитан Рабле и слишком пантагрюэлист, чтобы не посмеяться вволю; он знал хорошие анекдоты и сам придумывал их: его жирные вольности, изукрашенные крепкими словечками, шокировали бы потрясенного обывателя; но его улыбающиеся и болтливые губы были запечатаны, как гробница, когда заходил разговор о серьезном чувстве…».
Именно таким его можно было видеть в квартире Жорж Санд и Жюля Сандо [174]174
Сандо Жюль (1811–1883). Французский писатель, хороший стилист. Свои романы часто переделывал в пьесы.
[Закрыть], «любовников, живших на верхнем этаже на набережной Сен-Мишель, гордых и счастливых, с которыми пытается поссорить Бальзака Латуш – «самый злой из наших современников, бывший мой приятель, один из самых обворожительных, но самых скверных людей», как писал о нем Бальзак спустя год.
Одевается Бальзак шикарно – всевозможные жилеты и панталоны самых невероятных цветов; у него уже есть кабриолет и тильбюри и две лошади, Смоглер и Бритон, за которых он заплатил так дорого, что постоянно трясется над ними. Прислуга его многочисленна: кухарка Роза и два лакея, Паради и Леклерк.
Таким образом зависть к бухгалтеру газеты «Фигаро», который ездил на собственных лошадях и имел две прислуги; в то время как Бальзак ходил пешком, была изгнана навсегда из сердца знаменитого писателя. На лакеях были синие ливреи с галунами и пуговицами, на которых был уже изображен герб Бальзаков д'Антрэг, – Бальзак к этому времени прибавил к своей фамилии частицу «де».
По поводу этого вспоминаются слова Данте: «Достоинство происхождения можно сравнить с плащом, который изо дня в день укорачивается ножницами времени, если тот, кто носит этот плащ, ничего к нему не прибавляет от самого себя» («Рай», песня XVI). Можно сказать с уверенностью, что Бальзак накинул на себя плащ именитого дворянина, уже обрезанный временем выше колен.
Квартира Бальзака на улице Кассини становится настоящей бонбоньеркой. Жорж Санд вспоминает, что там «стены были обтянуты шелком и украшены кружевами, и всюду ковры». Почти каждый вечер Бальзак посещает театр. У него ложа у Итальянцев и в Опере, так называемая «инфернальная ложа», где собираются львы высшего света и Бульвара. В этой ложе все старались во что бы то ни стало быть оригинальными. Посетители этой ложи придумывают специальную манеру аплодировать и носят в петлице белую камелию, но ведут себя не особенно пристойно: хлопают дверями и громко разговаривают во время действия. О них даже распространили слух, что ими заказаны у инженера Шевалье лорнеты, увеличивающие в 32 раза и позволяющие видеть балерин насквозь.
В антрактах, а также и во время действия, все собираются в фойе, где мужчины встречаются с куртизанками, которые сравнительно недавно стали показываться в свете. После спектакля едут ужинать в ресторан. Бальзак веселится без удержу и за такое поведение получает письменный выговор от госпожи Деланнуа, своей благодетельницы, которой он постоянно был должен какую-нибудь порядочную сумму.
Эти увеселения воистину напоминали пир во время чумы, ибо в ту трагическую весну 1832 года в Париже царил террор.
Уже давно сообщали о приближении холеры. Она шла из Азии и России, и шла медленно – в ту эпоху плохой транспорт затруднял распространение эпидемий. Генрих Гейне [175]175
Гейне Генрих (1797–1856). Немецкий поэт и публицист. Впервые приехал в Париж в июне 1831 г., и с декабря этого года по сентябрь следующего регулярно посылал корреспонденции о Франции в «Аугсбургскую всеобщую газету». С Бальзаком встречался и был в очень хороших отношениях.
[Закрыть], находившийся тогда в Париже, был свидетелем этого бедствия и описал его не как протоколист, а как художник, со всеми свойственными ему приемами мастера.
«… При огромной нужде, которая здесь царит, при колоссальной нечистоплотности, которую можно найти не у одних только беднейших классов, при чувствительности этого народа вообще, при его безграничном легкомыслии, при полном отсутствии средств сообщения и мер предосторожности, холера должна была распространиться здесь гораздо скорее и шире, чем где бы то ни было.
Ее появление стало официально известным 29 марта, и так как это был день масленицы и погода была солнечная и мягкая, то парижане весело высыпали на бульвары, и там можно было увидеть даже маски, которые в пестром и карикатурном виде высмеивали страх перед холерой и самую болезнь.
В тот вечер танцульки были полны народа; задорный смех заглушал самую громкую музыку, парижане воспламеняли себя канканом, танцем весьма недвусмысленным, и поглощали при этом мороженое и всякие холодные напитки; как вдруг самый веселый из арлекинов почувствовал в ногах чрезмерный холод, снял маску и перед пораженными взорами всех предстало лиловое, как фиалка, лицо. Вскоре поняли, что это не шутка, смех замолк, и в нескольких, битком набитых, каретах публика отправилась из танцульки в Отель-дье, центральную больницу, где все умерли на месте, как были, в своих маскарадных костюмах. Так как в первом смятении убоялись заразы и старожилы Отель-дье подняли отчаянный вопль, то этих мертвецов, как говорят, так поспешно похоронили, что даже не успели снять с них пестрой шутовской одежды, и они лежат в могиле такие же веселые, как и жили…
– …Скоро нас всех, одного за другим, зашьют в мешок» – со вздохом говорил мне каждое утро мой слуга, сообщая о числе умерших или о кончине какого-нибудь знакомого. И этот мешок не был словесным образом: скоро не хватило гробов, и большую часть покойников хоронили в мешках.
Когда я на прошлой неделе проходил перед одним большим магазином и увидел в громадном зале веселый народ, прыгающих, бодреньких французиков, миленьких болтливых француженок, которые, смеясь и шутя, делали закупки, то я вспомнил, что здесь во время холеры, высокой горой наложенные друг на друга, стояли сотни белых мешков с трупами, и здесь были слышны немногие, но зато роковые голоса – сторожей, которые с жутким равнодушием по счету сдавали свои мешки гробовщикам, а эти, грузя мешки на повозки, повторяли себе под нос число или же громко ругались, что им недоложили одного мешка, причем нередко возникала драка.
Я помню, как два маленьких мальчика с опечаленными лицами стояли возле меня, и один из них спросил, не могу ли я ему сказать, в котором мешке его отец?
…Внезапно распространился слух: все эти люди, которые так поспешно были похоронены, умерли не от болезни, а от яда. Яд, дескать, прибавляли ко всем продуктам, на овощных рынках, у пекарей, у мясников, у винных торговцев. Чем нелепее были эти россказни, тем с большей жадностью набрасывался на них народ, и даже скептики вынуждены были поверить, когда появилось сообщение полицейской префектуры.
Полиция рассчитывала отвратить народный гнев по крайней мере от правительства: достаточно того, что благодаря ее злополучному сообщению, в котором она ясно говорила, что напала на след отравителей, роковой слух официально подтвердился, и весь Париж охватило ужасающее смятение. Казалось, наступил конец света. В особенности на углах улиц, где стоят красные винные будки, люди собирались группами и совещались, и именно там обыскивали подозрительных людей, и горе им, если находили у них в карманах что-нибудь недозволенное. Как дикие звери, как сумасшедшие нападали на них люди.
На улице Вожирар, где убили двоих, имевших при себе белый порошок, я видел одного из этих несчастных; он еще дышал, а старухи скинули с ног деревянные башмаки и били его до тех пор по голове, пока он не умер…
…Куда ни глянешь на улицу, всюду видишь похоронное шествие или, что еще грустнее, гроба, за которыми никто не следует. Так как катафалков не хватало, то пришлось пустить в ход всякие другие повозки; покрытые черным сукном, они выглядели довольно странно. Под конец не хватило и их, и я видел гроба на извозчичьих каретах; их клали посредине, и оба конца торчали из боковых открытых дверок. Было ужасно смотреть, как большие мебельные фуры, предназначение для переезда с квартиры на квартиру, теперь приценялись в качестве омнибусов для покойников, – на них грузили, подбирая на разных улицах, гроба и дюжинами отвозили их на кладбище…».
Несмотря на такие ужасы, Бальзака не оставляет веселое расположение духа. К де Кастри он ходит чуть ли не каждый день. Чтобы понравиться своей возлюбленной, он усиленно подчеркивает свои легитимистские убеждения. Выходит еще один роялистский альманах «Сапфир», и в него Бальзак дает «Отаз, сцену из французской истории». В мае он печатает в «Реноватере» «Жизнь одной женщины», то есть герцогини Ангулемской, и ряд статей о положении партии роялистов – настоящее кредо легитимиста, где утверждает, что нужно принять две основных догмы: бога и короля.
Бальзак считает, что легитимисты не должны пользоваться восстаниями и гражданскими войнами, их орудие – пресса и трибуна. Роялистское рвение Бальзака поддерживают его новые друзья, маркиза де Кастри и ее дядя, герцог де Фиц-Джемс. Но, с другой стороны, мадам де Берни, больше из ревности, чем по убеждениям, и мадам Каро недовольны Бальзаком и шлют ему осуждающие письма.
Бальзак часто отлучается из Парижа и посещает Саше. «Саше, – говорит он, – остатки замка на Эндре, в одной из самых прелестных долин Туреня. Владелец его, человек пятидесяти пяти лет (господин де Маргонь), когда-то нянчил меня на своих коленях. У него есть жена, несносная ханжа, горбатая, неумная. Я езжу туда для него, и там я свободен. Меня принимают как ребенка; там я ничего собой не представляю и счастлив там жить как монах в монастыре.
Я всегда езжу туда, чтобы обдумать какое-нибудь серьезное произведение. Небо там так ясно, дубы так прекрасны, там такая огромная тишина! В одной миле оттуда находится прекрасный замок Азе, построенный Самблансе [176]176
Самблансе (1105–1527). Казначей французского короля Франциска I, был несправедливо обвинен в воровстве и повешен.
[Закрыть], одно из самых чудесных произведений нашей архитектуры. Дальше – Юссе, столь известный по роману «Маленький Жэан из Сантре». Саше расположен в шести милях от Тура».
В Саше летом 1832 года Бальзак усиленно работает над романом «Луи Ламбер», полагая, что пишет величайшее свое произведение. На самом деле это была одна из тех неудачных вещей, к которым относится большинство его так называемых философских произведений. «Луи Ламбер» ценен только в той части, где Бальзак очень точно и подробно описывает быт Вандомского училища.
Французская критика встретила эту книгу насмешками, и успех она имела только у глубокомысленных немцев. Впоследствии и сам Бальзак признал этот роман «самым жалким из недоносков», но писал он его мучительно и даже занемог от работы; у него, – по его словам, – открылись желудочные боли до судорог.
Во время отъездов из Парижа дом на улице Кассини ведет мать, и расходы там огромны. Мать пишет ему только о деньгах, и это ужасно его раздражает. Ему надоедает сидеть в Саше, и он собирается ехать в Экс, где находится маркиза. Но пока что он отправляется в Ангулем. Редакции и издатели денег не платят, и он просит мать сделать крупный заем. Деньги дает опять госпожа Деланнуа. Бальзак снова весел и всех веселит в Ангулеме.
К этому времени, невидимому, относится следующий рассказ. Бальзак одевается в длинную, широкую черную сутану, сжимает свою мощную шею воротничком из тонкого белого полотна, надевает на голову черную бархатную скуфью с тремя рогами. В этом костюме он играет на бильярде. Вдруг открывается дверь и входит гость. Увидя этот персонаж XVI века, с румяным, улыбающимся лицом, пришедший останавливается на пороге, потрясенный, и уходит, с шумом захлопнув дверь. Во дворе порохового завода он встречает господина Каро.
– У меня, – говорит он, – была сейчас странная галлюцинация: войдя к вам, я увидел Рабле, поглядевшего на меня с дьявольским смехом.
– Хотите посмотреть на него поближе? – спрашивает смеясь, Каро.
– Спасибо, идемте к вам в контору, – я ни за что на свете не войду к вам».
В Саше Бальзак пишет «Покинутую женщину», «Гренадьер», снова принимается за «Озорные сказки» и опять завязывает сношения с журналами «Ревю де Пари» и «Ревю де дэ монд», которые делают ему авансы, но только, увы, не денежные.
В августе 1832 года он отправляется, наконец, в Экс, в обыкновенном дилижансе. Маркиза сняла для него хорошенькую комнатку. Там тихо, кругом зелень. Бальзак набрасывается на работу и посещает герцогиню только вечером. О своей жизни в Эксе он пишет в полушутливом тоне Каро, дом которых в Ангулеме так недавно покинул: «…меня заставляют лазить по горам в Эксе, в Савойе, гоняться кое за кем, кто, быть может, смеется надо мной: за одной из тех аристократок, от которых вы, без сомнения, в ужасе, – этакая ангельская красота, которой приписывают прекрасную душу, настоящая герцогиня, очень недоступная, очень любящая, тонкая, остроумная, кокетливая, – ничего подобного я еще не встречал. Этакий ускользающий феномен. И она говорит, что любит меня, хочет спрятать меня в глубине дворца в Венеции и хочет, чтобы я писал для нее одной.
Одна из тех женщин, которых нужно непременно обожать на коленях, когда они этого хотят, и победить которых доставляет такое наслаждение, – женщина мечтаний, ревнивая ко всему на свете.
Ах, лучше было бы сидеть в Ангулеме, на пороховом заводе, очень благоразумно, очень спокойно, слушать, как вертятся мельницы, наедаться трюфелями, учиться у вас, как делать шар в лузу, и смеяться, и разговаривать… чем терять и время, и жизнь!».
Любовь к маркизе все больше и больше разгорается, а маркиза продолжает кокетничать. Бальзак очень заботится о своей наружности и просит мать присылать ему всякие духи и помады. Герцогиня подает ему надежды, они делают совместные длительные прогулки, и едва ли он много работает, хотя только и пишет матери, что о своих неустанных трудах. Он собирается ехать с маркизой и ее дядей в Италию, и действительно едет.
В начале октября они отправляются в Женеву. Там-то и происходит драма: маркиза вдруг делается холодной, у нее такой вид, как будто между ними никогда ничего не было. Бальзак отказывается ехать в Италию и возвращается не в Париж, а к мадам де Берни.
«Я ненавижу госпожу де Кастри, – писал впоследствии Бальзак, – потому что она разбила мою жизнь и не дала мне другой, хоть сколько-нибудь похожей на прежнюю, и не дала того, что обещала. Здесь нет ни тени оскорбленного самолюбия, а только отвращение и презрение». Но отвращение и презрение могли прийти только потом, а в тот день, когда он покинул Женеву, им могло владеть либо отчаяние из-за разбитой жизни, либо жажда мести за оскорбленное самолюбие. Отчаяния Бальзак никогда и ни в каких случаях жизни не испытывал, но самолюбив был до беспредельности, и признанию его не следует верить – художник Буланже в своем портрете не преувеличил гордости этого человека.
Уехав сейчас же после женевской катастрофы к мадам де Берни, Бальзак, видимо, искал покоя, но этот покой был чисто внешнего порядка – в этом покое таились новые бури и трагедии. «Я никогда не был счастлив, – говорит Бальзак, – ибо разве это счастье – видеть, как невыразимо страдает мадам де Берни от разницы наших возрастов и все время старается ее побороть?..»
В мадам де Берни он встретил всепрощающее чувство состарившейся любовницы, к плечу которой склонил голову молодой любовник, утомленный страстью и мечтающий о молодой, красивой женщине.