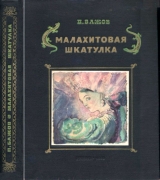
Текст книги "Малахитовая шкатулка (Уральские сказы. Илл. А.Н. Якобсон)"
Автор книги: Павел Бажов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
– Показывай, какое зеркало нашёл!
Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила своё:
– Пойду и пойду!
Тут ещё баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брага или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:
– Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что!
Делать нечего, стали их спускать. Начальство всё в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блёндочки ей светит. Довёл-таки до места. Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:
– Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!
Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня своё:
– Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!
Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась. Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.
Заграничная барыня жива осталась, только с той поры всё дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут и никак их ничему не научишь.
Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, – самый наконешничек носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали – не задавайся, не мыкай до времени!
А зеркала в горе не стало: всё осыпалось. Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а всё-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно – у кого.


ЖИВИНКА В ДЕЛЕ
Это ещё мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, всё-таки после крепости было.
Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.
На деле руки у него в полной исправности были, Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнёшь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, – как бы он в азарт не вошёл. Хорошо, что он на эти шутки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силён, тот драчлив не живёт.
По работе Тимоха вовсе ёмкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймёт и не хуже тебя сделает.
По нашим местам ремесло, известно, разное.
Кто руду добывает, кто её до дела доводит. Золото моют, платинёшку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять весёлые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там, непременно, либо покос, либо пашня. Одним словом, пёстренькое дело, и ко всякому сноровка требуется да ещё и своя живинка полагается.
Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.
Он, этот Тимоха, – и то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, – придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да ещё похваляется:
– В каждом до точки дойду.
Семейные и свои дружки, ровня, стали отговаривать:
– Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.
Тимоха на своём стоит, спорит да по-своему считает:
– На лесовала – две зимы, на сплавщика – две весны, на старателя – два лета, на рудобоя – год, на фабричное дело – годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганчиком пофукивай, либо шильцем колупайся.
Старики, понятно, смеются:
– Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.
Тимохе неймется:
– На всякое, – кричит, – дерево влезу и за вершинку подержусь.
Старики ещё хотели его урезонить. – Вершинка, дескать, мера не надежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают – одна ниже, другая выше.
Только видят – не понимает парень. Отступились. Твоё дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.
Вот и стал Тимоха ремёсла здешние своей рукой пробовать.
Парень ядрёный, к работе усерден – кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить – милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому – парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.
Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.
Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдёт до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:
– Ну, как, Тимофей Иванович, всё ещё в слесарях при механической ходишь, али в шорники на пожарную подался?
Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:
– Придёт срок – ни одно ремесло наших рук не минует.
В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:
– Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достираешься. Да какое это дело! Чему тут учиться?
Это она, конечно, без понятия говорила. По нонешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудрёное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:
– Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не даёт, а всё у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелого самая малость.
Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадёжил:
– Недолго, поди-ко, замазанным ходить буду.
Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.
По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефёд. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался – нефёдовский уголь. В сараях этот уголёк отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.
К этому дедушке Нефёду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит:
– Принять в выученики могу, без утайки всё показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдёшь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.
Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:
– Даю в том крепкое слово.
На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.
Дедушка Нефёд – он, видишь, из таких был… обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор:
– Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?
Тимоха отвечает: топор направлен, и рука привычная.
– Не в одном, – отвечает, – топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.
Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать. Дедушка Нефёд все объясняет по совести, да и то видит – правда в Нефёдовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка всё же останется: может, ещё бы лучше по другой точечке стукнуть. Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.
Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна – один наклон, с сухого – другой. Раньше рублена – так, позже – иначе. Потолще плахи – продухи такие, пожиже – другие, жердовому расколу – особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землёй тоже.
Дедушка Нефёд всё это объясняет по совести, – да и то вспоминает, у кого чему научился.
– Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они – охотники-то – на это дошлые. А польза сказалась. Как учую – кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно.
– Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться да и говорит: «С этого боку жарче горит».
– Как, спрашиваю, узнала?
– А вот обойди, – говорит, – кругом, – сам почуешь.
Обошёл я, чую – верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать. – Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит:
– По этим вот ходочкам в полных потёмочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огнёвкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел, – либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном.
Тимохе всё это любопытно. Видит – дело не простое, попотеть придётся, а про живинку всё-таки не думает.
Уголь у них с дедушкой Нефёдом, конечно, первосортный выходил, а всё же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придётся.
– А почему так? – спрашивает дедушка Нефёд, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?
Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефёдова бывал, а всё-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается:
– Теперь, брат, никуда не уйдёшь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.
Тимоха и сам дивился – почему раньше такого с ним никогда не случалось.
– А потому, – объясняет дедушка Нефёд, – что ты книзу глядел, – на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел – как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!
По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да ещё и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и всё про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремёсла одолеть, да в углежогах застрял.
– Никак, говорит, не могу в своём деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.
А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.
Как дедушко Нефёд умер, так малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.
Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут. Тоже которые живинку, – всяк на своём деле, – ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки наростить выше облака.


ВЕСЕЛУХИН ЛОЖОК
У нас за прудом одна логотинка с давних годов на славу.
Веселое такое местечко. Ложок широконький. Весной тут маленько мокреть держится, зато трава кудреватее растет и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы. Поглядеть любо.
И приставать с пруда к той логотинке сподручно: берег не крутой и не пологий, а в самый, сказать, раз – будто нароком улажено, а дно – песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет. Однем словом, все, как придумано. Можно сказать, само это место к себе тянет: вот-де хорошо тут, на бережке, посидеть, трубочку-другую выкурить, костерок запалить да на свой завод сдаля поглядеть – не лучше ли житьишко наше покажется?
К этому ложочку здешний народ спокон век приучен. Еще при Мосоловых мода завелась.
Они, эти братья Мосоловы, при коих наш завод строеньем зачинался, из плотницкого званья вышли. По нонешнему сказать, вроде подрядчиков, видно, были, да сильно разбогатели и давай свой завод ставить. На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с ватерпасом да отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят:
– Что-то ноне у меня голову обносить стало. Годы, видно, не те пошли.
Про то, небось, не поминали, что каждый брюхо нарастил – еле в двери протолкнуться. Ну, все-таки Мосоловы до полной барской статьи не дошли, попросту жили и от народу шибко не отворачивались. Летом, под большой праздник, а то и просто под воскресный день нет-нет и объявят по народу:
– Эй, кому досуг да охота, приезжай утре на ложок, за прудом: попить, погулять, себя потешить! За полный хозяйский счет!
И верно, сказывают, в угощенье не скалдырничали. Вина, пирогов и другой всякой закуски без прижиму ставили. Пей, ешь, сколь нутро вытерпеть может.
Известно, подрядчичья повадка: год на работе мотают, день вином угощают да словами улещают:
– Уж мы вам, все едино, как отцы детям, ничего не жалеем. Вы обратно для нас постарайтесь!
А чего постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны!
От этих мосоловских гулянок привычка к веселому ложку и зародилась.
Хозяйское угощенье, понятно, не в частом быванье, а за свои, за родные, хоть каждый летний праздник езди. Запрету нет. Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь, – чуть не все заводские лодчонки и батишки к ложку правятся. С винишком, понятно, с пивом. Ну и закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто пирог с молитвой, а то и луковку побольше да погорчее. Однем словом, всяк по своей силе-возможности.
Ну, выпьют, зашумят. По-хорошему, конечно: песни поют, пляшут, игры разные затеют. Одно слово, весело людям. Случалось, понятно, и разаркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведут, да такую, что охти мне. На другой день всякому стыдно, а себя завинить все-таки охотников нет. Вот и придумали отговорку:
– Место там такое. Шибко драчливое.
К этому живо добавляли:
– Веселуха там, сказывают, живет. Это она все и подстраивает. Сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнет.
Нашлись и такие, кто эту самую Веселуху своими глазами видел, по стакану из ее рук принимал и сразу после того в драку кидался. Известно, ежели человек выпивши, ему всякое показаться может. И столь, знаешь, явственно, что заневолю поверишь, как он сказывать станет:
– Стоим это мы с Матвеичем на берегу, у большой-то сосны, разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское. И видим – идет не то девка, не то молодуха. Сарафан на ней препестрый, цветощатый. На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Однем словом, приметная. Мимо такая пройдёт – на годы, небось, её запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан гранёного хрусталя, в другой – рифчатая бутылка зелёного стекла, цельный штоф. Ну, вот… Подходит эта молодуха к нам, наливает полнёхонек стакан, подаёт Матвеичу и говорит:
– Тряхни-ко, дедушко, для веселья!
У Матвеича, конечно, нет такой привычки, чтоб он от вина отказывался. Принял стакан, поглядел к свету, полюбовался, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себе на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит:
– Видать, от желанья поднесла. Легонько прокатилось, душу обогрело.
А бабёнка знай посмеивается. Наливает опять стакан и подаёт мне:
– Не отстанешь, поди, от старика-то?
– Зачем, говорю, отставать? Довольно смешной это разговор. Таких-то, как Матвеич, на одну руку по три штуки – и то уберу.
Матвеич, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет: «Стар, да петух, а и молод, да протух». Ну и другое, что в покор молодым говорится:
– Сопли, дескать, подтягивать не навыкли, а тоже с нами, стариками, ровняться придумали.
Слово за слово – разодрались ведь мы. Да ещё как разодрались! В долги уж на мировую полштофа роспили, и все дивовались – как это промеж нас такая оплошка случилась, и куда та бабёнка сгинула, коя нам по стакану наливала.
Только и другое говорили.
В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну и расцветка тоже для тех, кои ножи в синь разделывают, дорогого стоит. Так вот эти рисовщики про Веселуху не то говорили, а тоже будто въявь её видели.
Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает – вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит:
– А вот это подойдёт?
Оглянулся парень, а у него в головах на пенечке Веселуха сидит и подаёт ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот с той поры и повелось: как новый хороший узор появится, так Веселуху и помянут:
– Это беспременно она показала. Без её рук не обошлось. Самому бы ни в жизнь такое не придумать!
Да вот ещё какая заметка была. Самые что ни на есть заводские питухи дивовались:
– Ровно мы с кумом оба на вино крепкие. Это хоть кого спроси. А тут конфуз вышел: охмелели, как несмыслёныши какие, еле домой доползли. Вспомнить стыдно. И ведь выпили самую малость. Отчего бы такое! Не иначе Веселуха над нами пошутила. Вишь, лукавка! Кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без этого пьяными сделала.
На деле, может, оно и проще было. После заводской-то пыли-копоти да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на Веселуху сваливают. Заводские девчонки да бабёнки тоже по-разному Веселуху понимали. Кто слёзы лил да причитал:
– Обманула меня Веселуха! Обманула! На всю жизнь загубила!
Кто опять же хвалился:
– Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне парня тогда Веселуха подвела. С таким и в бедном житье не скучно.
Так вот смешница в народе и пошла. Кто ругает Веселуху: она людей пьянит да мутит; кто хвалит: самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом деле, – и разговору нет. Всяк про неё размазывает, будто сам её видел. Такая и сякая, молодая да весёлая. и про то помянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчонки, да и бабёнки, кои помоложе, сами норовят попестрее снарядиться, коли за пруд собираются. И место это так и прозвали – Веселухин ложок.
Ну, который крепко на то место осердится, тот ругался, конечно:
– Веселухино болото! Чтоб ему провалиться!
От Мосоловых наш завод Лугинину перешёл. Этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то своё заведение строить, да незадачливо вышло. Раз построил – сгорело, другой раз строянку развёл – опять сгорело. Третий раз самую надёжную свою стражу к строянке приставил, а до дела не довели. Построить-то, точно, построили, да только как последний гвоздь забили, ночью все и сгорело и барские верные псы изжарились. Какая в том причина, настояще сказать не умеют, а только на Веселуху показывали. Да то ещё старики говорили: Лугинин этот был какой-то особой барской веры и от народу скрытничал. Ну, а барская вера – это сдавна примечено – завсегда девчонкам да молодухам, которые пригожее, горе-горькое. Веселухе быдто это и не полюбилось, она и не допустила, чтоб новый барин в её ложке пакость разводил.
Потом, как завод за казну перешёл да придумала чья-то Дурова голова немцев к нам понавезти, опять с Веселухиным ложком поворот вышел.
Понаехали, значит, немцы. Зовутся мастера, а по делу одно мастерство видно – брюхо набивать да пивом наливаться. Живо раздобрели на казённых харчах, от безделья да сытости стали смышлять для себя какую по мыслям потеху. Заприметили – народ летом по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели. Место вроде поглянулось, только постройки никакой нет. Разузнали, что зовут это место Веселухин ложок. И про то им сказали, что строенье тут заводилось три раза, да Веселуха сожгла. Немцы, понятно, спрашивают:
– Кто есть Виселук?
Им в шутку и говорят:
– Про то лучше всех знает Панкрат, Веселухин брат.
Этот Панкрат мастером при заводе был, по украшенному цеху. По рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый. Не один узор да расцветка Панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого весёлого. Наперебой его на свадьбы дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник, и плясать без устатку мог. Недаром его Веселухиным братом прозвали.
Вот немцы и спрашивают этого мастера:
– Твой есть сестра Виселук?
Панкрат, своим обычаем, и говорит:
– Сестра не сестра, а маленько родня, потому – обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого – вовсе тошнит. Нам подавай песни да пляски, смех да веселье, и протчее такое рукоделье.
Немцы, ясное дело, шутки не поняли, спрашивают, какая Веселуха собой?
Панкрат тоже не стал голоса спускать, шуткой говорит:
– Бабёнка приметная: рот нараспашку, зубы наружу, язык на плече.
В избу зайдёт – скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. А коли ещё хмельного хлебнёт, тогда выше всех станет, только ногами жидка.
Немцы даже испугались:
– Какой ушасный женьшин! Такой песпоряток делаит. Найти такой ната! Найти!
– Найти, – отвечает Панкрат, – мудрено: зимой из-под снега не выгребешь, летом – в траве не найдёшь.
Немцы все-таки добиваются: скажи, в каком месте искать и чем она занимается. Панкрат и говорит:
– Живёт, сказывают, в ложке за прудом, а под которым кустом, это каждому глядеть самому надо, да не просто так, а на весёлый глаз… В ком весёлости мало, можно из бутылки добавить.
Это немцам по нраву пришлось, заухмылялись:
– О, из бутылка можно! Это мы умеем.
– А ремесло, – говорит Панкрат, – у Веселухи такое. С весны до осени весь народ радует сплошь, а дальше по выбору, только тех, у кого брюхо в подборе, дых легкий, ноги дюжие, волос мягкий, глаз с крючочком да ухо с прихваткой.
Немцы про дых да брюхо мимо ушей пропустили, потому каждый успел брюхо нарастить и задыхался, как запалённая лошадь. Про мягкий волос не по губе пришлось, потому у всех на подбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато ногами похвалились. Хлопают себя по ляжкам, притоптывают:
– Это есть сильный нога. Как дуб. Крепко стоять могут.
Панкрат на это говорит:
– Не те ноги дюжие, которые неуклюжие. Дюжими у нас такие зовут, что сорок верст пройдут, вприсядку плясать пойдут да ещё мелкую дробь выколачивают.
Насчёт глаза да уха немцы заспорили:
– Такой бывайть не может.
Панкрат всё-таки на своём стоит:
– Может, в вашей стороне не бывает, а у нас случается.
Тогда немцы давай спрашивать, какой это глаз с крючочком и какое ухо с прихваткой.
– Глаз, – отвечает, – такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропе, в снеговом охлопке. А ухо – которое держит, что ему. полюбилось. Ну, там мало ли: как рожь звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит.
Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют. Спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибыток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им это втолковать, да видит – на порошинку не понимают, махнул рукой да и говорит прямо:
– Коли такое ваше разумение, никогда вам нашей Веселухи не повидать.
Немцы на это не согласны, своё твердят: все кусты, дескать, повыдергаем, все корни выворотим, а найдём. Без этого никак нельзя.
– Эта Виселук ошень фретный женьшин. Она пожар делаит.
Панкрат смекает – вовсе не туда дело пошло. От этих дубоносых всего жди. Могут и всамделе хорошее место с концом извести. Тогда он и говорит:
– Да ведь это вроде шутки. Так, разговор один про Веселуху-то.
Ну, немцы не верят: какой есть разговор, когда пожары были.
– Что ж, – отвечает Панкрат, – пожар всегда случиться может. Недоглядели за огнем – вот и сгорело. Последний вон раз вся барская стража пьянёхонька была.
Немцы прицепились к этому:
– Ты откуда это знаешь?
Панкрат объясняет: в народе так сказывали. Немцы своё:
– Скажи, кто говорил?
Панкрат подумал – ещё подведёшь кого ненароком, – и говорит:
– Не упомню.
Немцам это подозрительно стало. Долго они меж собой долдонили по-своему. Не то спорили, не то сговаривались. Потом и говорят:
– Скажи, мастер Панкрат, какие приметы этой женьшин Виселук?
Панкрат отвечает:
– Говорил, дескать, что это разговор только. Так сказывают – молодая бабочка, из себя пригожая, одета цветисто, в одной руке стакан граненого хрусталя, в другой бутылка.
Немцы вроде обрадовались, давай ещё спрашивать: какой волос у женщины, нет ли приметок каких на лице, в которой руке стакан, какая бутылка. Однем словом, все до тонкости. Панкрат рассказал, а немцы и загоготали:
– Ага! Попался! Теперь видим, что Виселук знаешь. Показывай её квартир, а то плохо будет.
Панкрат, конечно, осерчал и говорит:
– Коли вы такие чурки с глазами, так не о чем мне с вами разговаривать. Делайте со мной, что придумаете, а от меня слов не ждите.
Время тогда ещё крепостное было. У немцев в заводе была сила большая, потому как всё главное начальство из них же было. Вот и начали Панкрата мытарить. Чуть не каждый день спросы да расспросы, да всё с приправью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми и сболтни, что про Веселуху ещё такое сказывают, будто она узоры да расцветку иным показала. И про Панкрата упомянули – сам-де сказывал, что расцветку на ноже из Веселухина ложка принёс. Немцы давай и об этом доискиваться. По счастью ещё, что Панкратова расцветка им не поглянулась. Не видно, дескать, в котором месте синий цвет кончается, в котором голубой. Ну, всё-таки спрашивают:
– Сколько платиль Виселук за такой глюпый расцветка?
Панкрат на тех допросах отмалчивался, а тут за живое взяло:
– Эх вы, – говорит, – слепыши немецкие! Разве можно такое дело пятаком али рублём мерить? Столько и платил, сколько маялся. Только вам того не понять, и зря я с вами разговариваю.
Сказал это и опять замолчал. Сколько немцы ни бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белёхонек, глаза вприщур, а сам ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы кулаками по столу молотят, ноги оттопали, грозятся всяко, а он молчит.
Ну, всё-таки на том, видно, решили что Веселухи никакой нет, и той же зимой стали подвозить к ложку бревна и другой материал. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов да деревьев широко очистили, траву тоже подрезали и, чтоб она больше тут не росла, речным песком эту росчисть засыпали. Рабочих понагнали довольно и живёхонько построили большущий сарай на столбах. Пол настлали из толстеньких плах, а столы, скамейки и табуретки такие понаделали, что, не пообедавши, с места не сдвинешь. На случай, видно, чтоб не заскакали, ежели Веселуха заявится. В заводе тоже по этому делу старались: лодки готовили. Большие такие. Человек на сорок каждая. Ну, вот. Как всё поспело, немцы своей оравой и поплыли на лодках к Веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, не то в троицу, не то в семик. Нашего народу по этому случаю в ложке многонько. Песни, конечно, поют, пляшут. Девчонки, как им в обычае, хоровод завели. Однем словом, весна. Увидели, что немцы плывут, сбежались на берег поглядеть, что у них будет.
Подъехали немцы, скучились на берегу и давай истошным голосом какое-то своё слово кричать. По-нашему выходит похоже на «дритатай». Покричали-покричали это «дритатай» да и убрались в свой сарай. Что там делается, народу не видно, – потому сарай хоть с окошками, да они высоко. Видно, неохота было немцам своё веселье нашим показывать.
Наши всё-таки исхитрились, пристроились к этим окошечкам, сверху глядели и так сказывали. Сперва, дескать, немцы мужики пиво пили да трубки курили, а бабы да девки кофием наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то. Известно, в немце ловкости, как в пятипудовой гире, а баба немецкая вроде перекислой квашни, вот-вот тесто поползет. Ну и толкутся друг против дружки парами, аж половицы говорят. Мужики стараются один другого перетопнуть, чтоб, значит, стукнуть ногой покрепче. У баб своя забота, как бы от поту хоть маленько ухраниться. Все, конечно, гологруды, голоруки, а комар тоже своё дело знает. По весенней поре набилось этого гнуса полнёхонек сарай, и давай этот комар немок донимать. Наши от гнуса куревом спасаются, да на воле-то его, бывает, и ветерком относит. Ну, а тут комару раздолье вышло. Тоже и одежда наша куда способнее. Весной, небось, никто голошеим да голоруким в лес не пойдёт, а тут на-ко, приехали наполовину нагишом. Туго немцам пришлось, только они всё-таки крепятся – желают, видно, доказать, что комар им – тьфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то что человека, животину одолеет. Невтерпёж и немцам пришлось. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Стали вычерпывать, а не убывает. Что такое? Почему? Оказалось, все донья решетом сделаны. Какой-то добрый человек потрудился – по всем лодкам напарьей дыр понавертел. Вот те и «дритатай».
Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, конечно, кто чем мог, да разве от весеннего гнуса ухранишься! А на дороге-то ещё болотина приходится. Ну, молодяжник наш тоже маленько позабавился – добавил иным немцам шишек на башках.
Долго с той поры немцы в сарай не показывались. Потом насмелились всё-таки, на лошадях приехали, и телеги своей немецкой работы. Тяжёлые такие, в наших краях их долгушами прозвали.
Время как раз серёдка лета, когда лошадиный овод полную силу имеет. На ходу да по дорогам лошади ещё так-сяк терпят, а стоять в лесу в такую пору не могут. Самые смиренные лошаденки и те дичают, бьются на привязи, оглобли ломают, повода рвут, себя калечат. Пришлось лошадей распрягать, путать да куревом спасать. Ну, немцам, которые на барском положении приехали, до этого дела нет, – понадеялись на своих кучеров, а те тоже к этому не привычны. В лес едут на целый день, а ни тут, ни боталов не захватили. Пришлось припутывать чем попало и пустить вглухую, без звону, значит. Занялись костром, а тоже сноровки к этому не имеют.
Остальные немцы опять покричали своё «дритатай» и убрались в сарай. Там всё по порядку пошло. Напились да толкошиться стали, плясать то есть по-своему, а до лошадей да кучеров им дела нет.
Лошади бьются, понятно. Путы поизорвали. Иные с боков обгорели, потому как эти немецкие кучера вместо курева жаровые костры запалили. Тут еще опять добрый человек нашелся: по-медвежьи рявкнул. Лошади, известно, вовсе перепугались да по лесу. Поищи их вглухую-то, без боталов. Пришлось не то что кучерам, а и всем немцам из «дритатая» по лесу бродить, да толку мало. Половину лошадей так найти и не могли. Они, оказалось, домой с перепугу убежали. А немцы, видно, про запас от комаров много лишней одежи понабрали. Им и довелось либо эту одежу на себе тащить, либо в свои долгуши, заместо лошадей, запрягаться. На своём, значит, хребте испытали, сколь эта долгуша немецкой выдумки легка на ходу. Ну, а как по лесу за лошадями бегали, наш молодяжник тоже этого случая не пропустил. Не одному немцу по хорошему фонарю поставили: светлее, дескать, с ним будет.








