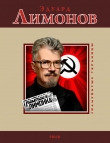Текст книги "Воспоминания (1859-1917) (Том 2)"
Автор книги: Павел Милюков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
9. МОИ ПОСЛЕДНИЕ ПОЕЗДКИ НА БАЛКАНЫ
На Балканах появился мой старый друг, Чарльз Крейн, всегдашний поклонник старых культур и сторонник освобождающихся народностей. Говорили потом, что он оказал материальную помощь албанцам; мне он, конечно, об этом не сообщал. Но он написал мне, прося приехать и принять участие в его поездке по Балканам. Я, разумеется, с удовольствием согласился. Роспуск Третьей Думы 8 июня и созыв Четвертой на 15 ноября давали мне полную возможность посвятить промежуток посещению Балкан, а то, что я знал уже о готовившихся событиях, делало эту поездку необоходимой.
Особенно спешить было некуда. Я решил из Белграда прокатиться вниз по Дунаю, через знаменитые Железные Ворота до Турну-Магурели и оттуда живописными горными ущельями р. Искера проехать в Софию, где уже ждал меня Крейн. Я застал его в сношениях с болгарскими художниками; правда, попытка моя обратить его внимание на картины Митова из болгарского быта не удалась; зато он приобрел фигуру во весь рост "царя болгар", в великолепном византийском одеянии, – она потом висела в его нью-йоркской квартире. Его очень интересовали также старинные славянские святыни. Он знал Афонскую Святую гору, и картина Пантелеймоновского монастыря, сделанная по его заказу чешским историческим художником Мухой, также красовалась на видном месте в его квартире.
Здесь целью нашей первой поездки был намечен Рыльский монастырь, и мы двинулись туда на лошадях, через горное плато Самокова. В монастыре я не нашел ничего особенно замечательного, – может быть, потому, что и не искал. Голова была занята мыслями о политике. Гостил в монастыре – подобно нам, в ожидании новостей – известный журналист Диллон, корреспондент "Таймса", знакомый мне еще с 1905 г. Он, сильно постарел с тех пор, но сохранил живой темперамент, холодный ум, склонный изображать людей и вещи в черном свете, и страсть к сенсационным разоблачениям, хотя бы и не вполне достоверным.
На меня он смотрел, как на опасного конкурента, и тщательно скрывал от меня свои сношения с местными информаторами, приносившими ему платные новости. Все же, между нами постоянно возникали споры; Крейн слушал молча, вставляя ядовитые шутки, которые очень ему удавались. Так мы скоротали несколько дней на монашеском режиме – и вернулись в Софию без сенсаций. Вторая наша поездка имела целью посещение Шипкинского перевала, – память героических боев войны 1878 года.
По мере подъема наверх вспоминался смелый переход генерала Гурко, трудное отступление и тяжелое зимнее сидение ("На Шипке все спокойно!"). Крейна больше занимала православная русская церковь – памятник на вершине перевала. Духовенство встретило нас очень ласково. При церкви жило несколько русских инвалидов-пенсионеров времени войны. Мы поднялись и спустились в порядке русского наступления, с севера на юг, выехав в "долину роз" (Казанлык). Кроме названия, эта долина ничего поэтического собой не представляет: это просто – обширная плантация, засаженная кустами роз, из которых выжимают розовую эссенцию – дорогой товар. На память я получил маленький флакон. У Старой Загоры мы выбрались на линию железнодорожных сообщений. Стоял уже октябрь; в России начинались выборы в Четвертую Думу; Сазонов возвращался из своей заграничной поездки. Болгария начала военные действия против Турции; болгарские войска заняли станцию Мустафа-паша на р. Марице (23 октября) и быстро двигались к Адрианополю. Мне пора было возвращаться, но мы с Крейном все же решили проехать на юг, следом за болгарскими войсками. Мы остановились в Мустафе-паша; дальше ехать было нельзя. В ожидании обратного поезда мы прошли прогуляться по городу, и тут случился со мной маленький эпизод, который крепко мне запомнился.
Был базарный день, солнце ярко освещало крестьянскую толпу и женщин в цветных местных костюмах. Крейн залюбовался на картину в восточном стиле, а я, с своим кодаком в руке, спустился вниз к берегу Марицы, через которую шел, на большой высоте, железнодорожный мост по направлению к Кара-Игачу, предместью Адрианополя. Под мостом открывалась красивая перспектива противоположного берега, и я расположился ее сфотографировать. Но я совсем забыл, что мы – в самой зоне войны, – и дело пахло расстрелом. Сзади подошли жандармы, схватили меня, отняли аппарат и повели в полицию. Крейн спешил мне навстречу. На базаре мы остановились; нас окружила толпа; полицейские начали допрос. Конечно, мои первые объяснения их не удовлетворили, а мой болгарский язык только показал, что я – не болгарин. Положение становилось неприятным; они требовали документов, а я вломился в амбицию – и еще больше сгустил подозрение. Крейн смотрел на меня жалостно, но он был без языка. Я, наконец, вынул паспорт; полицейский стал его читать... и вдруг положение изменилось. "Господин Милуков? Приятель на Болгария!?" Жандарм отступил на шаг, сделал под козырек, отдал паспорт и аппарат, – и извинился.
Меня почти пробрали слезы от умиления. Вот тут, на маленькой проезжей станции, меня знают, как друга, и мне верят без разговоров! Это было неожиданно – и трогательно... Это меня вознаграждало за годы работы на пользу болгарского народа. Крейн был удивлен и тронут не меньше меня. Под этим настроением мы двинулись в обратный путь.
Мне надо было спешить вернуться к выборам и к открытию Четвертой Думы. Поэтому остановка в Софии была очень непродолжительна. Но к этим немногим дням я должен отнести свою первую встречу с царем Фердинандом. Инициатива встречи, конечно, принадлежала ему; но он решил устроить свидание конспиративно. Мне сообщили, что мы встретимся в его зоологическом саду, где он хранил свои орнитологические коллекции. В определенный час я был на указанном месте; ко мне навстречу шел по определенной дорожке в штатском костюме Фердинанд. Из нашего разговора у меня ничего не сохранилось в памяти: очевидно, беседа носила преимущественно комплиментарный характер, и своих карт мой собеседник не открывал. А открыть было что! Не от него, конечно, я знал, что переговоры с Сербией и Грецией продолжаются при более сговорчивом преемнике Малинова, Гешове, – с Венизелосом и с Миловановичем. Но условия соглашения все еще не были выработаны. Общественные настроения на Балканах еще колебались между "войной за освобождение" и "войной за завоевание". Сторонники окончания войны в "освободительной" стадии считали, что задача была осуществлена победами при Люле-Бургас (31 октября 1912г.), в Салониках (27 октября) и в Битоле (Монастир, 18 октября). Напротив, сторонники продолжения войны стремились довести ее до полной победы над Турцией, что впоследствии определялось датами взятия Адрианополя болгарами (13 марта 1913 г.), Янины греками (24 февраля), Дураццо и Скутари сербами и черногорцами (9 апреля). Было, конечно, ясно, что Фердинанд на стороне продолжения войны и что в этом поощряют его австрийцы. Болгарские войска осаждали Адрианополь и двигались к Константинополю. Но перспективы были еще неясны.
Крейну хотелось перед расставаньем взглянуть на красоты горного пейзажа на Дунае, недалеко от сербской границы. Вследствие эрозии песчаников скалы там принимали необыкновенно причудливые формы. Побывав там, мы расстались с Крейном на Дунае же, у Никополя. Я спустился оттуда вниз по реке до Джурджева, чтобы вернуться через Бухарест, где я никогда еще не бывал. Мне хотелось посмотреть на последний след управления Киселева Дунайскими княжествами при Николае I: на русских извозчиков в черных бархатных кафтанах с шапочками, окаймленными павлиньим пером. Один из них прокатил меня по "Киселевскому проспекту"; затем я сел в поезд до Ясс, где меня интересовали результаты археологических раскопок так называемой Трипольской культуры. Молодой университетский профессор принял меня очень любезно; я снял фотографии с хранившихся в университетском кабинете предметов окрашенной керамики, родственной Киевской, – и через Тирасполь вернулся домой.
Октябрь был переломным месяцем в истории балканской борьбы. В зимние месяцы она вступала в новую – опасную – фазу. Бесспорное становилось спорным. Беспокойство Европы росло по мере того, как ее предвидения оказывались опрокинутыми. Побеждала не Турция, а славяне, и их окончательное освобождение от турецкого ига становилось таким же бесспорным фактом, как и давно ожидавшееся разложение Турции. И весь вопрос переносился на интернациональную почву.
Напомню главные факты этого момента перелома. Болгары, как сказано, осаждали Адрианополь и почти дошли до Константинополя, остановившись лишь у сильно укрепленной линии Чаталджи. Черногорцы вышли на Адриатику и осаждали Скутари. Сербы, вместе с ними, занимали адриатические порты и собирались делить с греками албанские земли. Греки заняли Халкидонский полуостров, южную часть Македонии и острова. Салоники становились спорным пунктом между сербами, болгарами и греками, – и тут вырисовывался основной предмет разногласия между союзниками, так как одновременно сербы оккупировали всю Македонию – и все менее были склонны ее уступать. Связанные борьбой у Адрианополя, болгары опоздали на несколько часов или дней (26-27 октября) занять Салоники, где их опередили сербы.
В ноябре раздались предостерегающие голоса Австрии и Германии.
Австрия протестовала против занятия славянами портов на Адриатическом море (Сан-Джовани ди Медуа и Алессио). Ограждая свои интересы в Албании, она спешила провозгласить ее независимость (16 ноября). Вслед за этим послышался, из уст канцлера Бетмана-Гольвега, первый окрик Германии. Если воюющим сторонам не удастся сговориться, предостерегал он, и если между ними возникнет открытое столкновение, и при этом, вследствие нападения третьей стороны, будет грозить опасность самому существованию Австро-Венгрии, то тогда Германии "пришлось бы, соответственно союзным обязательствам, решительно стать на ее сторону".
Естественно, что противоположный лагерь тоже обеспокоился. Пуанкарэ и Грэй спешили предупредить об опасности "непоправимой инициативы" какого-нибудь отдельного государства. Разумелась тут, конечно, та же Австрия. Она спешно вооружалась и готовилась к мобилизации. В ноябре 1912 г. положение достигло такой степени напряжения, что даже сам Вильгельм счел нужным одернуть своего "блестящего секунданта" (11 ноября): "Германия должна рисковать своим существованием, – писал он, – из-за того, что Австрия не хочет видеть сербов в Албании или в Дураццо! Очевидно, это не есть основание для Германии вести разрушительную войну... Поставить германскую армию и народ в зависимость от капризов другого государства значило бы – выйти за пределы договорных обязательств. Casus foederis (Вступление в действие союзных обязательств.) наступает, если Австрия подвергнется нападению России – при условии, что русское нападение не будет провоцировано Австрией, что на практике может случиться по поводу Сербии. Австрия обязана избежать этого". Повторенные в 1914 году, эти благоразумные предостережения могли бы предупредить мировую войну из-за Балкан. Но, увы, это был уже последний отголосок настроений Балтийского Порта; скоро должно было возобладать обратное настроение.
Мы увидим, как реагировала на это ноябрьское напряжение Россия. Но я не хочу прерывать рассказа о дальнейших балканских осложнениях конца 1912 и начала 1913 гг. Здесь напряженное настроение поздней осени разрешилось на время приостановкой военных действий. 22 октября Турция обратилась к державам с просьбой о вмешательстве. Через месяц, 20 ноября, подписано было перемирие Турции с Болгарией, Сербией и Черногорией (Греция отказалась к нему присоединиться). По приглашению Англии, представители балканских держав съехались в Лондон для переговоров (2 декабря), а через день начались там же совещания послов, составившие своего рода контрольную инстанцию. Туда же перенесены были и все разногласия, не замедлившие открыться и обостриться – к удовольствию и при содействии австрийской дипломатии. По мере того, как возрастала требовательность союзников, росла и неуступчивость Турции. Болгария потребовала осажденного Адрианополя. Турция отказалась (6 января 1913 г.). Тогда союзники "суспендировали" работы конференции. В Константинополе экстренное "великое собрание" собиралось ответить в уступчивом духе, когда члены комитета "Единения и Прогресса" ворвались в собрание, убили главнокомандующего Назима-пашу и добились отставки кабинета. Союзные делегаты в Лондоне ответили на это "перерывом" переговоров (16 января); по окончании срока перемирия (21 января) военные действия возобновились.
Турция возобновила просьбу о посредничестве держав (16 февраля), но союзники в ответ (1 марта) еще повысили свои требования. 13 марта Адрианополь был взят штурмом. Помню, как сейчас, глупую физиономию думского шута, Павла Крупенского, вскочившего на кафедру, размахивавшего руками и оравшего во все горло "ура" болгарам. "Славянские" манифестации правых вышли на улицу.
Николай Черногорский отказался (19 марта) подчиниться требованию держав – прекратить осаду Скутари, хотя Россия уже соглашалась на оставление Скутари в пределах Албании. А 25 марта Бетман-Гольвег откликнулся на эти проявления славянской самостоятельности речью, в которой послышался первый отклик нового настроения Вильгельма. Имперский канцлер заговорил о "возрождении и обострении расовых инстинктов", о необходимости борьбы "германства" против "славянства", о нарушенном в пользу славянства равновесии в Европе; этим он мотивировал необходимость дальнейших вооружений и заявил – уже более определенно, – что помощь, которую Германия обязана оказывать Австрии, "не ограничивается пределами дипломатического посредничества". В том же марте 1913 г. в рейхстаг была внесена новая Wehrvorlage (Законопроект об армии.), требовавшая миллиард марок на новые вооружения.
Идея борьбы "германства" против "славянства", конечно, далеко не была новой. Она составляла неотъемлемую часть кодекса официального пангерманизма. Но победы славян на Балканах сообщили этому тезису новое реальное содержание. И император Вильгельм, давний сторонник пангерманизма, очень чувствительно и нервно реагировал на это новое применение старого принципа. Для этого ему не нужно было меняться. Он просто ввел борьбу против "славизма", олицетворявшего, в глазах теоретиков, восточную часть Центральной Европы, в общую программу своей "мировой политики". Мы даже узнаем от него, кто был посредником при усвоении этой не новой, но обновленной идеи. "В особенности приобрел мое доверие, – признает он, балтийский профессор Шиман, автор работ по русской истории и издатель ежегодных сборников по "большой политике". В глазах императора, это "проницательный политик, блестящий историк и литератор, борец за германизм против славянского нахальства", с которым он "постоянно совещался в политических вопросах" и которому "обязан многими разъяснениями, особенно относительно Востока".
Еще не отдавая себе отчета о наступлении этой новой фазы в настроении Вильгельма и о соответственном повышении тона австро-венгерской политики, а также и о степени глубины разногласий между союзниками, я чувствовал, прежде всего, потребность отдать себе отчет на месте в итоге одержанных балканцами побед. В моем распоряжении были только пасхальные каникулы Думы (6-23 апреля 1913 г.), и я ими воспользовался, чтобы посетить, по крайней мере, главные центры борьбы. Прежде всего я направился в Софию. Военные действия между болгарами и турками были прекращены 25 марта, и условия перемирия опубликованы 5 апреля (продолжено до 21 апреля). Граница между Болгарией и остатком турецкой территории, на которую согласилась и Европа, проходила по линии Мидия – Энос. Но стремления военной партии шли дальше. Полушутя, полусерьезно в столице передавали слухи, что Фердинанд уже велел приготовить себе белого коня для торжественного въезда в Константинополь. Правда, к этому прибавляли, что, заняв турецкую столицу, Фердинанд передаст ключи от Константинополя русскому царю. Но, с другой стороны, австрийцы уже намекали премьеру Даневу, что болгары могут сделаться "gute Huter der Dardanellen" – хорошими охранителями проливов. Как бы то ни было, я стал свидетелем этих воинственных настроений. Царь Фердинанд снова пожелал меня видеть – и на этот раз в совершенно иной обстановке: во дворце, в порядке торжественной аудиенции.
Он начал беседу фразой: "Я знаю, что ваш царь меня ненавидит. Но почему?" Это было недалеко от истины, но я собирался возражать – и успел сказать, что, очевидно, у царя нет предвзятого мнения, и что, если и были недоразумения, то они смягчаются и имеются уже доказательства примирительного отношения. Я, однако, увидел, что вопрос был, так сказать, риторический и что Фердинанд и не слушал ответа. У него была наготове речь, хорошо построенная и заранее обдуманная, и он к ней приступил, слушая скорее самого себя. Речь лилась каскадами, переполненная блестками, антитезами, неожиданными saillies (Остроты), – в духе французского красноречия, на блестящем французском языке. Я вспомнил, как кто-то мне говорил, что если Фердинанд хочет кого-нибудь очаровать, то он это умеет сделать. "Да, я знаю, меня подозревают, считают иностранцем. Но я люблю этот народ – хороший, честный народ. Я хочу слиться с ним. А народ помнит и любит Россию. Я воспитываю сына в православии и в знании русского языка. Я хочу вам показать его".
Тут он распорядился привести Бориса. Мальчик был введен в сопровождении воспитателя, русского священника. Я поздоровался, сказал несколько слов по-русски. Смущенный Борис молчал; за него спешил ответить воспитатель. Тогда Фердинанд обратился к Борису: "Вот твой учитель. Помни: ты должен следовать его советам". Сцена кончилась, мальчика увели, Фердинанд продолжал: "Меня обвиняют в личном характере режима. Но я конституционный государь, управляет ответственное министерство, как раз состоящее теперь из демократов и друзей России. Правда, страна – молодая, партии – искусственные, я должен менять их у власти. Но они представляют народ. И теперь, как раз, я делаю народное дело. Я заканчиваю объединение Болгарии. Это – задача национальная, но, в то же время, это и задача наша общая, славянская. И вы должны мне помочь в этом. Убедите царя уступить мне Родосто" (город на Мраморном море, на полдороге между Константинополем и Галлиполи). Я несколько опешил. Очевидно, Фердинанд представлял себе роль "лидера оппозиции" в Государственной Думе чем-то вроде соответственного поста в болгарском народном собрании – кандидатом в будущие премьеры!
Полемизировать на эту тему, однако, не пришлось. Речь была закончена; Фердинанд подал знак; я поблагодарил за доверие – и откланялся. Но оказалось, что его просьба ко мне серьезнее, чем я думал. Поздно вечером того же дня (рано утром я уезжал) ко мне явился в гостиницу близкий к Фердинанду министр Христов с секретным поручением, подтверждавшим просьбу о Родосто, и передал мне, на память, портрет Фердинанда в большой раме, с его подписью... Требование Родосто было уже включено формально в общее требование союзников, от Турции (1 марта 1913 г.) и составило предмет специальной просьбы Фердинанда к царю, – что, конечно, не понравилось в Петербурге. Понятно, что я никаких шагов в этом направлении не предпринимал.
Моей следующей целью были Салоники, где еще стоял болгарский гарнизон и где у меня были друзья в болгарской колонии, через которых я рассчитывал узнать о положении в Македонии, оккупированной сербами. Разногласия по поводу толкования договора о разделе уже существовали тогда в правящих кругах; но мне они оставались неизвестны. И я не удивился, что наследник сербского престола, молодой Александр, остановившийся в Салониках в вагоне своего специального поезда, захотел со мной повидаться. Беседа с ним произвела на меня самое лучшее впечатление. Воспитанник русской военной школы, он отлично говорил по-русски и был со мной отменно любезен. Зная, что я хорошо знаю Македонию, он подробно меня расспрашивал о ней, а я охотно отвечал – и особенно хвалил красоты природы этой страны.
Деликатные стороны вопроса не были затронуты, и я не знал, что Александр считается главным сторонником аннексии всей Македонии. Я не знал, конечно, и того, что 24 марта сербский посланник в Бухаресте передал румынское предложение заключить союз против болгар, а 19 апреля греческий посланник сделал такое же предложение. Я не знал, наконец, и того, что принц Николай Греческий, в качестве военного губернатора Салоник, был участником переговоров на эти темы, ведшихся в "специальных" поездах. Не помню уже, в специальном или обычном поезде я получил возможность проехаться по Македонии вплоть до Ускюба. Болгарское имя города "Скопье" уже начало уступать место сербскому "Скоплье", и местная болгарская колония, как я мог убедиться, уже начинала чувствовать себя в этом городе далеко не уютно. Но к этому вопросу я еще вернусь. Сербы продолжали и тут проявлять ко мне особое внимание. Я был приглашен на собрание, чествовавшее воеводу Путника в момент его поездки для "инспектирования" Македонии, и Александр, посетивший это собрание, распорядился специально подвести меня к нему для личной встречи. Конечно, тут в толпе, стоя, никакой серьезный разговор был невозможен. Это был простой знак внимания.
На возвратном пути, в Вене, я имел еще возможность поговорить с человеком другого типа, министром иностранных дел Миловановичем, одним из сторонников и идеологов сербо-болгарского сближения еще с 1904 года. Мы остановились в одном и том же отеле, и беседа была очень интимного свойства. Нигде еще я не мог заметить признаков охлаждения между союзниками. Еще 21 марта царь Фердинанд по телеграфу благодарил короля Петра за братскую помощь при взятии Адрианополя.
В конце апреля снова наступает перерыв в моих личных сношениях с балканскими странами – до 13 августа того же 1913 г. (везде старый стиль). И за эти неполные четыре месяца – сколько новых и серьезных перемен в положении! Намечавшиеся разногласия между союзниками, наконец, выходят наружу и ведут за собой трагические последствия. И снова, чтобы сохранить связность рассказа, я исключу из него все то, что связано с ролью России на Балканах. К опущенному здесь я вернусь в дальнейшем.
Совершенно неожиданно, мне пришлось в августе – сентябре того же 1913 года вновь явиться на Балканах не в роли политика и наблюдателя, а в роли... судьи. Весь мир, после того как был поражен славянской "славой", заговорил о балканских "зверствах". Вчерашние союзники вступили в борьбу между собою из-за раздела приобретенных земель, и в этой борьбе, уже не дипломатической, а вооруженной, проявили черты, свойственные, правда, не одним только примитивным народностям. Юридически ответственною за обращение к оружию оказалась Болгария – и она же явилась первой жертвой. Она первая и обратилась к державам и к общественному мнению с жалобой на испытанные ею "зверства". Формально, главные факты болгарской ответственности за поднятый ею меч сложились следующим образом. По тайным приказам болгарским войскам 15 и 17 июня, они начали наступательные действия. Ответственными лицами за это являлись царь Фердинанд, приближенный к нему генерал Савов и их окружение. Министерство Данева настояло на немедленном прекращении военных действий, но роковой шаг был уже сделан. Болгарские войска были утомлены предшествовавшей борьбой с турками и неудачно размещены для импровизированной войны в Македонии. Сербы, напротив, приготовились к борьбе заблаговременно.
В три дня болгарское наступление было отражено. Греки выставили против болгар вчетверо большую силу. Румынские войска перешли Дунай и двинулись по направлению к незащищенной Софии. Турецкие войска также перешли в наступление и отобрали у болгар все, ими завоеванное, включая и Адрианополь (9 июля). Болгария, уже не ставя никаких условий, обращалась к посредничеству России, Австрии или Румынии. Но наступление со всех сторон продолжалось. Наконец, румынский король Карл (Гогенцоллерн) принял на себя посредничество, и 18 июля было заключено в Бухаресте пятидневное перемирие. Болгарии были предложены крайне тяжелые условия мира. Но возражать она уже не могла, и 24 июля она принуждена была принять эти условия.
По Бухарестскому миру, Адрианополь и Восточная Фракия остались за Турцией, и граница, вместо Родосто или Энос – Мидия прошла (по договору с Турцией 9 сентября) по берегу Марицы (до Демотики). Западная Фракия со всеми портами Эгейского моря, на которые претендовала Болгария, включая Салоники, перешла к Греции. Вся Македония до водораздела между р. Вардаром и Струмой (за исключением Струмицы) была присвоена Сербией. Румыния продвинула свою границу в Добрудже – южнее, заняв Туртукай и Балчик. Как известно, Австрия попробовала было воспользоваться этим моментом для нанесения "окончательного" удара Сербии – и обратилась за помощью к своим союзникам. Только отказ Италии и Германии ее остановил.
Здесь перечислены только грубые, голые факты. Но что, собственно, случилось? Почему Болгария так быстро перешла из роли зачинщицы в роль жертвы всех других балканских амбиций? Не совсем случайное обстоятельство поставило меня в положение исследователя и дало возможность дать точные ответы на эти вопросы.
В июле 1913 г. отделение Воспитания и Пропаганды Carnegie Endowment for International Peace решило организовать "международную следственную комиссию" для изучения на месте происхождения и способа ведения обеих балканских войн – с целью послужить "замене насилия примирением (conciliation) и справедливостью в урегулировании международных разногласий". Задача эта была поручена сенатору барону Д'Эстурнель де-Констан, председателю французского отделения института Карнеги, участнику обеих Гаагских конференций 1899 и 1907 гг. и известному пацифисту. Д'Эстурнель лично не принял участия в поездке на Балканы, а передоверил председательство, роль казначея и докладчика лионскому депутату Жюстену Годару.
Международный состав комиссии был обеспечен согласием участвовать в ней профессоров Пашковского и Шюкинга от Германии, проф. Редлиха от Австрии, проф. Даттона от Соед. Штатов, журналиста Брейльсфорда от Англии и пишущего эти строки от России; конечно, не в качестве официальных представителей этих государств, а лиц, способных обращаться к общественному мнению. Злоключения, этой комиссии начались раньше ее прибытия на место. Германские профессора уклонились под очевидным давлением свыше; Пашковскому было прямо запрещено участвовать, Шюкинг доехал до Белграда, но вернулся, поверив сообщению, будто комиссия распалась. Австрийский проф. Редлих ограничился "советами", которых никто из нас не слыхал. Доехали до Белграда четверо: старик Даттон, почтенный педагог, профессор Колумбийского университета; Годар, заместитель председателя, живой, энергичный и убежденный; и мы двое, Брейльсфорд и я, единственные действительные работники комиссии, знакомые с стремлениями и языками балканских народностей.
Но на нас обоих и обрушились дальнейшие гонения. В Белграде Пашич отказался принять комиссию, в которой участвует такой ennemi declare (Явный враг.) Сербии, как Милюков. Посовещавшись, комиссия решила, что она составляет одно целое и может работать только вместе. Тогда нам предложили покинуть Белград, что мы и сделали, выехав с ранним утренним поездом в Салоники. Перед отъездом, вечером, я сделался предметом специально устроенной демонстрации. Несколько сербских друзей пришли ко мне в гостиницу "Россия" проститься. Мы сидели внизу в ресторане; кругом, за отдельными столиками разместились демонстранты – большей частью патриотическая молодежь. По данному знаку, раздались по адресу "врага" Сербии грубые выкрики и резкие речи. К моему большому удовольствию, мои друзья не выдержали.
Черногорец Венович, с которым мы познакомились еще в Петербурге, вскочил на стул и произнес горячую речь, доказывая мою испытанную дружбу к Сербии той позицией протеста, которую я занял по поводу аннексии Боснии и Герцеговины. За ним встал профессор Люба Иованович и стал объяснять молодежи мою позицию политического радикализма. Последовала пауза, которой друзья воспользовались, чтобы шепнуть мне, что больше оставаться небезопасно, – и отвели меня в мой номер. Я испытывал горечь незаслуженного оскорбления и невозможности объясниться с молодежью по существу. Рано утром мы все уехали в Салоники. Это было мое последнее посещение Белграда.
В Салониках, куда мы приехали 14 августа (1913 г.), нас оставили на несколько дней в покое. Это было, конечно, непоследовательно, и мне вспоминался приговор Крыловской басни: "щуку утопить в реке". Я понял здесь, почему Пашич поспешил объявить меня "врагом". Среди болгарской колонии Салоник я был своим человеком. Отсюда нити моих сношений простирались во все города Македонии. И отовсюду посыпались показания свидетелей о том, какими приемами сербы спешили превратить болгарскую Македонию в сербскую.
Общий смысл получившейся картины был мне, конечно, ясен и раньше. Но тут картина эта расцветилась большим количеством документов и свидетельских показаний, далеко выходивших за пределы нашей прямой задачи: исследования нарушений правил войны. Мои данные свидетельствовали о том, как самая война эта постепенно становилась неизбежной. Я изложил их во вступительной главе к отчету комиссии, и здесь остановлюсь лишь на главных чертах, делающих понятным все остальное.
Первоначальной целью войны было освобождение от турок, – и турецкое население первое пострадало от освободителей. Турецкие селения сжигались, мусульмане стали первыми объектами зверств, уцелевшие бежали; члены комиссии видели целые тысячи их, скопившиеся около самых Салоник, без приюта и крова, под открытым небом, без пищи и без определенных надежд на переселение. Но затем начались столкновения между самими христианами. Так как главной территорией этих столкновений была Македония, то объектом зверств здесь сделалось коренное болгарское население, а виновниками сербы и греки. Как только сброшен был верхний покров турецкой власти, под ним обнаружилась многолетняя борьба между христианскими национальностями, та самая, которую я наблюдал еще в конце XIX столетия. Разница теперь была та, что на помощь сербскому и греческому меньшинствам явились оккупировавшие Македонию войска.
И здесь был момент первоначального общего энтузиазма освободителей. Болгарские революционеры – "комитаджи" спустились с гор в свои деревни и призывали население встретить освободителей "с победными венками" и "усеять цветами путь их славы". Увы, этот момент быстро прошел, и "комитаджи", члены тайной болгарской "внутренней организации", первые подверглись преследованиям. Чуть не в каждой болгарской деревне был какой-нибудь "сербоман" или "грекоман", которому внутренние болгарские отношения были гораздо известнее, нежели прежнему турецкому начальству. Они и явились многочисленными патриотами-доносчиками. Дальше борьба становилась труднее: она направлялась против сельского учителя и священника, – всегда подозревавшихся в сношениях с тайной организацией. Болгарские школы закрывались и служили помещениями для оккупационных войск; священникам и епископам запрещалось служить по-болгарски и, вообще, сноситься с паствой.