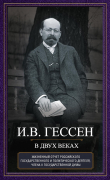Текст книги "Воспоминания (1859-1917) (Том 2)"
Автор книги: Павел Милюков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Вернувшись в министерство, я мог сказать Альберу Тома об этом результате: "Я слишком победил" (j'ai trop vaincu). Тома промолчал, а Терещенко был с этим несогласен. Бьюкенен доносил своему правительству:
"Терещенко сказал мне, что не разделяет взглядов Милюкова, что результат недавнего конфликта между Советом и правительством является крупной победой последнего. Конечно, с чисто моральной стороны это была победа... Но правительству, может быть, придется принять в свою среду одного или двух социалистов". В другом месте Бьюкенен писал: "Львов, Керенский и Терещенко пришли к убеждению, что, так как Совет – слишком могущественный фактор, чтобы его уничтожить или с ним не считаться, то единственное средство положить конец двоевластию это – образовать коалицию".
Это решение (потому что это уже было решение) ставило на очередь совершенно новый вопрос, несравненно более крупный, нежели споры об отдельных выражениях ноты или об адресе, по которому должны быть направлены заявления 28 марта. Из области дипломатической спор переходил в область внутренней политики. Я мог не заметить связи этого перехода с судьбой моей собственной персоны, но я должен был занять позицию по отношению к вопросу о судьбе всего министерства, и эта позиция была отрицательная. После "чрезмерной победы" мне предстояла новая, уже совершенно непосильная борьба.
Прибавлю, что постановка на очередь кабинетного вопроса совпала с постановкой другого – о распоряжении военной силой государства. С своей точки зрения, исполнительный комитет мог быть прав, когда, в ответ на вооруженные выступления 20-21 апреля, ответил распоряжением "не выходить с оружием в руках без вызова исполнительного комитета в эти тревожные дни". Но он, несомненно, вторгался в права правительства, когда в следующей же фразе прибавил: "Только исполнительному комитету принадлежит право располагать вами". 21 апреля ген. Корнилов, в качестве главнокомандующего Петроградским округом, распорядился вызвать несколько частей гарнизона, но после заявления исполнительного комитета, что вызов войск может осложнить положение, отменил свое распоряжение и приказал войскам оставаться в казармах. Это могло быть уместно, как мера целесообразности "в тревожные дни", но превращалось в конфликт после воззвания исполнительного комитета Совета. Ген. Корнилову оставалось подать в отставку, и хотя Временное правительство в свою очередь "разъяснило" 26 апреля, что "власть главнокомандующего остается в полной силе и право распоряжения войсками может быть осуществляемо только им", через несколько дней Корнилов отставку получил и отправился в действующую армию. Так обрисовался конфликт, обещавший стать не менее грозным, чем смена министерства.
Постановка на очередь вопроса о министерском кризисе выпала на долю кн. Львова и была сделана им в том же заседании 21 апреля с исполнительным комитетом, о котором говорилось выше. Насколько помню, меня она застигла врасплох, так как переговоры за моей спиной оставались мне неизвестны. К тому же кн. Львов внес свое предложение, по своему обычаю, в нерешительной и факультативной форме. Он не собирался, конечно, подобно Керенскому, использовать кризис для себя лично, и спорить с ним можно было только на принципиальной почве, – что мне и пришлось сделать в ближайшие же дни.
В заседании 21 апреля кн. Львов прямо начал с заявления: "Острое положение, создавшееся на почве ноты 18 апреля, есть только частный случай. За последнее время правительство вообще взято под подозрение. Оно не только не находит в демократии поддержки, но встречает там попытки подрыва его авторитета. При таком положении, правительство не считает себя вправе нести ответственность. Мы (я исключаю себя из этих "мы". – П. М.) решили позвать вас и объясниться. Мы должны знать, годимся ли мы для нашего ответственного поста в данное время. Если нет, то мы для блага родины готовы сложить свои полномочия, уступив место другим". Кн. Львов обращался здесь не к тому учреждению, которое дало нам полномочия. Исполнительный комитет был партийной организацией и не представлял "воли народа", перед которой "мы" должны были склониться. Правда, еще меньше представлял ее временный комитет Государственной Думы; но мы на него и не ссылались, если не считать Родзянку. Если уже ставить кабинетный вопрос "в данное время", надо было обратиться к мнению страны; но как она могла выразить свое мнение? По сообщению В. Д. Набокова, Гучков первый заговорил об уходе правительства, и ему же принадлежала мысль – сделать это в форме отчета перед страной, своего рода "политического завещания".
Всё поведение Гучкова, действительно, объясняется этим ранним желанием поскорее уйти от власти. Но у других министров та же идея мотивировалась иначе. В частности, Кокошкин, которому было поручено написать проект воззвания к населению, хотел в нем формулировать определенное обвинение против тех, кто мешал власти выполнить ее обязательства. Первоначальный текст его "завещания" принял форму обвинительного акта против Совета – и именно против Керенского. Керенский потом отрицал это; но он не видел первоначального черновика, доложенного нам, кадетам. А затем этот проект подвергся двойной переработке, причем резкие места постепенно исчезли, и "обвинение" превратилось в "извинение". Для кн. Львова этот последний текст, просмотренный с.-р.'ами, был приемлем; но кн. Львов лично не собирался уходить, а готовился остаться шефом "коалиции". Намерения Керенского мы уже видели. Переход к коалиции с социалистами должен был вернуть правительству доверие "революционной демократии" и создать повод для изменения его состава. В этом последнем смысле и было формулировано практическое предложение кн. Львова: "возобновить усилия, направленные к расширению состава правительства".
Я решительно протестовал и против опубликования обвинительно-извинительного акта и против введения социалистов в состав министерства. Я доказывал, что, признавая свои провалы, правительство дискредитирует само себя, а введение социалистов ослабит авторитет власти. Но то и другое было совершенно бесполезно.
В духе кн. Львова само воззвание, с одной стороны, признавало, что правительство опирается не "на насилие и принуждение, а на добровольное повиновение свободных граждан", а с другой стороны, выводило "неодолимость" трудностей своей задачи именно из того, что оно отказалось "от старых насильственных приемов управления и от внешних искусственных средств поднятия престижа власти".
Это было очень идеально, но чересчур уже по-толстовски. Воззвание признавало, что "по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения" развиваются в стране "насильственные акты и частные стремления", грозящие "привести страну к распаду внутри и к поражению на фронте". Но оно не указывало никаких мер для предупреждения этого, кроме того, что путь "междоусобной войны и анархии, несущей гибель свободе" – "хорошо известный истории путь от свободы к возврату деспотизма – не должен быть путем русского народа"...
В заседании 21 апреля я узнал, что моя личная судьба уже окончательно решена.
В. Чернов, опасный соперник Керенского по партии и роковой кандидат на пост министра земледелия, заявил, "со свойственными ему пошлыми ужимками, сладенькой улыбкой и кривляньями" (выражения Набокова), что "и он, и его друзья безгранично уважают П. Н. Милюкова, считают его участие во Временном правительстве необходимым, но что, по их мнению, он бы лучше мог развернуть свои таланты на любом другом посту, хотя бы в качестве министра народного просвещения".
26 апреля воззвание правительства к "живым силам" было опубликовано, и кн. Львов официально уведомил о нем председателей Совета и Государственной Думы (Чхеидзе и Родзянко). Керенский, с своей стороны, форсировал положение, напечатав заявление в ЦК партии с.-р., в Совет и во временный комитет Государственной Думы о своей отставке. Он при этом продиктовал правительству и новый способ составления кабинета. В первом "цензовом" кабинете он, по его словам, "на свой личный страх и риск должен был принять представительство демократии" (это было, как мы знаем, неверно); теперь "силы организованной трудовой демократии возросли", и ей, "быть может, нельзя более устраняться от ответственного участия в управлении государством", а потому отныне ее представители "могут брать на себя бремя власти лишь по непосредственному избранию и формальному уполномочию тех организаций, к которым они принадлежат".
Итак, правительство должно было состоять теперь из представителей партий и перед ними нести ответственность. Это, конечно, существенно меняло самый источник авторитета власти, обрекая ее впредь на подчинение борьбе воюющих между собою партийных течений. Для "революционной демократии" эта новая форма ответственности была неудобна уже потому, что из положения критикующих правительство они превращались в критикуемых, а разделяя власть с "буржуазным" правительством, попадали под удары своих более левых противников. И исполнительный комитет Совета 29 апреля, после долгих споров, отказался большинством 23 против 22 послать в правительство своих представителей.
В этот самый день кн. Львов пришел ко мне в министерство. Я уже знал, что речь пойдет о моем уходе.
Но он начал беседу с фразы: "запутались; помогите!" Это показалось мне таким проявлением лицемерия, что я вышел из себя, – что со мной редко бывает. В гневе я ему ответил, что он знает, на что он идет, и бесполезно искать помощи, когда дело идет о вопросе решенном. Перед ним выбор, который уже сделан. С одной стороны, это – возможность проводить твердую власть правительства. Но, в таком случае, надо расстаться с Керенским, пользуясь его отставкой, и быть готовым на сопротивление активным шагам Совета на захват власти. С другой стороны, это – согласие на коалицию, подчинение ее программе и, в результате, дальнейшее ослабление власти и распад государства. Я предупредил, во всяком случае, кн. Львова, что на перемену портфеля я не пойду и предоставляю решить мой личный вопрос в мое отсутствие. Мы условились с Шингаревым выехать в тот же день в ставку. Уезжая, я просил А. И. Гучкова, который тоже готовился выйти в отставку, отложить свой вопрос до решения принципиального вопроса о коалиции – и уйти одновременно со мной.
Однако, и тут Гучков повел свою линию. Едва мы успели приехать в ставку, как ген. Алексеев показал нам телеграмму А. И. о его отставке с известной его мотивировкой: "В виду условий, которые изменить он не в силах и которые грозят роковыми последствиями армии, и флоту, и свободе, и самому бытию России". Такое признание со столь высокого поста показалось нам чрезмерным. Ни ген. Алексеев, ни мы не были так пессимистичны – и не сказали бы, если бы были, в угоду личному самооправданию.
Отставка Гучкова заставила исполнительный комитет Совета пересмотреть свое решение. 1 мая вечером большинством 41 против 18 решено было, что социалисты войдут в коалиционное правительство – на определенной программе. Тут были введены и "аннексии и контрибуции", и спорные пункты по социальной и аграрной политике; но параграф об армии гласил об "укреплении боевой силы фронта", – очевидно, в виду обязательства Керенского перед союзниками одухотворить армию революционным энтузиазмом. Мы спешно вернулись из ставки, и с утра 2 мая началось, при нашем участии, обсуждение декларации Совета. Кроме наших возражений, тут были внесены сходные декларации партии Народной свободы и временного комитета Государственной Думы. Мы все вместе требовали, прежде всего, формального признания нового правительства единственным органом власти. Затем к. д. требовали признания за правительством права применения силы и распоряжения армией.
В социальных, национальных и конституционных вопросах партия к. д. требовала, чтобы правительство не предвосхищало решений Учредительного Собрания. В случае неудовлетворения ее требований партия сохраняла за собой, по принципу, введенному Керенским, право отозвать своих членов из правительства. Все это было опубликовано, более подробно, в заявлении партии 6 мая, – одновременно с декларацией правительства, которая делала по отношению к нам кое-какие, но совершенно неудовлетворительные, уступки. "Коалиция", таким образом, с самого начала была основана не на полном соглашении, а на гнилом компромиссе, который вводил борьбу Совета с правительством в самую среду нового кабинета.
Я по-прежнему продолжал возражать против самого принципа коалиции – и на этом принципиальном вопросе, а не только на вопросе о дальнейшем ведении внешней политики, обосновал свой уход. Характерная сцена последовала, когда, выходя из самого заседания, я обошел стол, пожимая руки остающимся коллегам.
Кн. Львов, когда я дошел до него, схватил мою руку и, удерживая ее в своей, как-то бессвязно лепетал: "Да как же, да что же? Нет, не уходите; да нет, вы к нам вернетесь". Я холодно бросил ему: "Вы были предупреждены" – и вышел из комнаты. На следующий день, по поручению ЦК партии, Винавер и Набоков приехали ко мне с настоянием – принять портфель министра народного просвещения и пойти на компромисс с кабинетом, – тем более, что предполагается организовать в нем особые совещания по вопросам обороны и внешней политики, куда я могу войти и продолжать оказывать свое влияние. Спор был долгий; я, наконец, оборвал его, заявив, что мое поведение диктует мне мой внутренний голос и я не могу поступить иначе. Свое "влияние", если какое-нибудь оставалось, я мог проявлять и извне, в качестве члена партии; оставаясь в составе правительства, я знал, что меня ожидает – особенно при начавшемся возвышении Керенского.
За день до моей отставки (и не зная о ней) уезжал из России Палеолог. Я решил, в первый и последний раз за мое пребывание в министерстве, дать ему прощальный обед по всей форме. До того времени раз только мои сочлены к. д. захотели меня приветствовать в помещении министерства. Но было условлено, что наши кадетские жены принесут с собой свое угощение, и прислуга была очень удивлена, наблюдая это домашнее торжество. На этот раз мне принесли на выбор два меню, и я с видом знатока выбрал одно из них. Прислуга была в башмаках, чулках и кафтанах, как полагалось по старой традиции. Произносились торжественные речи... Тома был тоже приглашен – и сказал мне свое a part (В сторону, отдельно.): "Ah, ces cochons les tovaristch!" (А, эти свиньи-товарищи.) Палеолог хвалил меня – тоже a part: я был для него министром, "как следует". Но общее настроение было похоронное...
4. ОТ ЕДИНСТВА ВЛАСТИ К КОАЛИЦИИ
Итак, мое намерение – сохранить за Временным правительством первого состава ту целость, с которой оно появилось на свете, не удалось. Я придавал этой сохранности большое принципиальное значение. Сторонники введения в него социалистов исходили из двоякого источника: слабости премьера кн. Львова и возвеличения Керенского. Кн. Львов искал в привлечении социалистов средство подкрепить правительство «живыми силами». Керенский осуществлял свой сговор с союзниками относительно ведения войны. Эта разница целей повела, как увидим, и к разнице взглядов на их осуществление. Практические соображения оказались сильнее принципиальных, и мой вопрос о сохранении единства был решен отрицательно даже раньше, чем мне удалось его поставить формально. Тщетно я ссылался на преимущества нашего избрания, на нашу связь через Думу с массами и через интеллигенцию с русской общественностью. Тщетно я напоминал о данном нами под присягой обещании довести Россию до выборов в Учредительное Собрание, доказывал несвоевременность отчета (перед кем?) о нашей слабости – там, где есть полное основание говорить о нашей силе. Все эти соображения, практически, как я считал, достаточно важные, были оставлены в стороне.
Для внутреннего употребления или для внешнего – мы хотели быть подкрепленными поддержкой социалистов. Но – каких социалистов? Для внешнего (дипломатических целей) и для внутреннего (внутренней политики) они были разные.
Сближение буржуазных правительств с социалистами не было, конечно, исключительным случаем русской коалиции. "Священное единение" партий во Франции против общего врага служило классическим примером. Но надо вспомнить про разницу времени. Тот сговор происходил в самом начале войны, когда громадное большинство социалистов было "патриотически" настроено.
Три года спустя, когда эти самые "социалисты-патриоты" приехали в Россию убеждать членов Временного правительства, несмотря на нашу революцию, не прекращать войны, они застали у нас иную картину. В "советах" сидели противники продолжения войны, циммервальдцы и даже "дефетисты". На четвертый год войны, измученное ее жертвами население горячо воспринимало пропаганду пораженчества. А социалистическая интеллигенция была ослеплена революционным миражем всеобщего мира, продиктованного всем правительствам пролетариатом всех стран. Классический социализм старых партий был предметом жестокой критики.
К какому же социализму обращалось Временное правительство? Надо, прежде всего, заметить, что о течениях в социализме – особенно о новейших наши домашние политики были очень мало осведомлены. Затем, самый выбор был ограничен. Автоматически, так сказать, самотеком, вместе с революцией просочилась в Россию самая мутная струя пораженчества – и тотчас сделалась предметом самой разнузданной пропаганды, при содействии германцев. В воспоминаниях Станкевича можно найти правильное наблюдение, что ни одна из классических русских партий не может претендовать на честь инициативы в русской революции. Не русские социалистические партии посылали первых агентов взбунтовать Кронштадт, резать по немецким спискам лучших офицеров флота в Гельсингфорсе, распространять среди солдат "Окопную правду" и т. д. Идеи разложения армии, прекращения войны, извращения целей союзной политики – все это стало достоянием массы помимо интеллигентского социализма – и все это проникло беспрепятственно в первый состав "советов", на фронт и т. д.
Это был тот "социализм", с которым мне приходилось бороться в "контактной комиссии", когда там господствовал Стеклов, и на министерском кресле, когда туда доходили отклики из первоначального состава Совета. В правительстве с ним были недостаточно знакомы. Керенский в это время свободно называл себя "циммервальдцем". Мне приходилось неоднократно возвращаться к выяснению этой темы и наталкиваться на возражения, заимствованные из того же багажа. Я, разумеется, предпочел бы иметь дело с тем традиционным социализмом, который вел против нас принципиальную борьбу, но ставил ее в рамки исторического понимания. Этот социализм устанавливал неизбежную грань . между нашей "буржуазной" и своей "социалистической" революцией. И как раз этот социализм вовсе не обнаруживал желания входить с нами в органическое соединение.
Первое предостережение по этому поводу мы получили от того самого лица, которое затем и содействовало осуществлению нашего объединения: И. Г. Церетели. Вернувшись из сибирской ссылки с репутацией человека высокой морали и с большим личным влиянием на окружающих, Церетели прежде всего проявил себя, как хороший организатор. Ему удалось (после 20 марта) привести в порядок царивший в Совете хаос, поставить во главе его "исполнительный комитет" и прекратить самочинные действия членов Совета.
Приглашенный в заседании с контактной комиссией вступить в состав Временного правительства, Церетели сперва с недоумением ответил: "Какая вам от того польза? Ведь мы из каждого спорного вопроса будем делать ультиматум и в случае вашей неуступчивости вынуждены будем с шумом выйти из министерства. Это – гораздо хуже, чем вовсе в него не входить". Другие лидеры высказывались не в форме деликатного отклонения, а в форме категорического отказа. Суханов, с. – д., повторял: "мы сейчас совершаем не социальную, а буржуазную революцию, а потому во главе ее должны стоять и делать буржуазное дело ее люди из буржуазии"; иначе, "это было бы гибелью доверия демократии и социалистических партий к своим вождям".
Гендельман, с. – р., высказывался в том же смысле: "нельзя давать авторитета мерам, которые носят буржуазный характер; нельзя брать, на себя власть, ни целиком, ни частично". С обратной стороны: "нельзя и нам давать им власть" – была моя формула, ограждавшая прочность "буржуазного" Временного правительства. Но какая идеология могла выстоять перед соглашением Альбер Тома – Керенский? Соглашение было готово; надо было найти согласителя.
Таким и явился Церетели – и связал имя Керенского с своим до самого конца существования коалиционного Временного правительства. Из правоверного марксиста и прирожденного миротворца вышел замечательный специалист по междупартийной технике, неистощимый изобретатель словесных формул, выводивших его героя и его партию из самых невозможных положений. Лидеры главных социалистических партий не пошли в состав образовавшейся буржуазно-социалистической власти. Но Керенский был уже внутри нее – и на этот раз с невымученным мандатом партии. Церетели принес себя в жертву, согласившись принять в министерстве второстепенный пост министра почт и телеграфов.
М. И. Скобелев, нехитростная душа и верный исполнитель партийных поручений, был также откомандирован партией. А. В. Пешехонов, интеллигент, мой старый друг, человек с талантом, знаниями и темпераментом, давно успокоился на правом фланге социализма и мог только украшать место своим сотрудничеством.
Пятый, В. М. Чернов, навязывался по необходимости: он был шефом – там, где сам Керенский был только новичком; и его нельзя было оставить за кулисами. Так собралось "пятеро министров-социалистов": довольно пестрый состав социалистической группы. Вначале они могли казаться как бы только придатком к основному, центральному созвездию, для которого собственно и клеилась коалиция. Центральное ядро, получившее название "триумвирата", действительно, держало в руках все руководство деятельностью "коалиции". Оба министра, военный и иностранный, входили по соглашению с союзниками; в качестве третьего к ним присоединился – наш к. д. Некрасов, человек ловкий и гибкий, сумевший вовремя сблизиться и занять все возможные места при "любимце времени", – личного советчика, секретаря, информатора, посредника в сношениях с печатью, сочинителя проектов, заместителя, – словом, быть всем и ничем, стать человеком необходимым. Ни слабый премьер, ни даже А. И. Коновалов, личный друг Керенского, в этот теснейший круг не входили.
Примыкал к ним, конечно, круг министров-несоциалистов, по их ведомствам: он сохранился без изменений от первого состава Временного правительства – и временно помогал сохранить этому учреждению прежний характер. Оставалось лишь определить взаимные отношения с социалистической группой.
Исходя из мысли, что коалиционное Временное правительство сохраняет всю свою независимость и самостоятельность, Центральный комитет к. д. предложил, в заявлении 6 мая, свою программу деятельности правительства. Здесь были указаны все меры предупреждения нарушения социалистами нормальных прав государственной власти и очерчены пределы полномочий, предоставляемых Временному правительству первой коалиции в целом. Я перечислю эти пять пунктов, на которых основывались и дальнейшие заявления партии к. – д.
Пункт первый требовал продолжения моей политики "соблюдения обязательств и ограждения прав, достоинства и жизненных интересов России в тесном единении с союзниками". Пункт второй запрещал каким бы то ни было организациям вторжение в сферу законодательства и управления Временного правительства. Третий и четвертый пункты подтверждали право государственной власти применять меры принуждения к нарушителям права и порядка, а также поддерживать дисциплину и боевую мощь армии. Наконец, пятый пункт запрещал Временному правительству предвосхищать решения Учредительного Собрания по основным государственным вопросам – конституционного, социального и национального строя России.
Допускались, впредь до созыва Учредительного Собрания, лишь "неотложные мероприятия" в области экономической и финансовой политики, подготовки аграрной реформы, местного самоуправления, суда и т. п. Этим безусловно исключались социалистические попытки "углубления революции" во всех этих направлениях до созыва Учредительного Собрания.
С своей стороны, социалисты внесли свою, более обширную программу – в направлении, как раз обратном нашему. Они, конечно, интересовались последними, запретными вопросами, а не принципами государственного права. В прениях, при начале которых я еще присутствовал, они сделали нашей программе очень мало уступок и ограничились простым перечислением общих тем. Там, где нельзя было на этом остановиться, вносились эластические формулы, каждая из которых, при дальнейшем развертывании, влекла за собой неизбежный конфликт. До поры, до времени эти конфликты могли оставаться закрытыми. Циммервальдская формула демократизации войны и мира была выставлена полностью. Вместо противодействия дезорганизации армии (наше указание на опасность "слева"), Временное правительство обязывалось принять "энергичные меры" против "контрреволюции" (указание левых на военную опасность "справа").
Сохранена была в левом тексте и "подготовка перехода земли", и "переложение финансовых тягот на имущие классы", и "организация производства в необходимых случаях"; но эти левые формулы у нас возражений не встречали. Что касается главного – признания "полноты власти" за новым правительством и "полноты доверия" ему со стороны "всего революционного народа", то и другое перелагалось на "ответственность министров-социалистов" – перед петербургским Советом, "впредь до создания всероссийского органа советов", т. е. высшей социалистической инстанции. Приняв эту предосторожность, и Совет признал, что полученная в результате переговоров декларация "соответствует воле населения, задачам закрепления завоеваний революции и дальнейшего ее развития".
Но какой части выговоренных условий соответствовало это широкое признание: ограничивающим или (условно) расширяющим полномочия социалистов? Вопрос оставался пока без ответа. Кое-как сколоченный таким образом политический омнибус не обещал благополучного путешествия. Крушения в пути должны были быть часты – и участиться вплоть до развала всей машины. Но социалистическая часть коалиции тут еще не участвовала. Она в течение целого месяца оставалась неутвержденной съездом советов и, по-видимому, специальной деятельности не проявляла. Заработали в мае – и притом с азартом – лишь те два ведомства, для которых и создана была коалиция: дипломатическое и военное. Терещенко поспешил уже 3 мая разослать ноту, осведомлявшую союзников о новом курсе русской политики. Увы, он получил неудовлетворительные ответы. Он попробовал было их исправить путем переговоров. Последовали попытки истолкования циммервальдской формулы. Англия и Франция кое-что уступали – словесно. Америка не уступила ни слова из ясной антигерманской позиции Вильсона. "День" раздраженно писал по этому поводу: "с демократической Россией заговорили так, как не осмеливались говорить с царской Россией". Пока речь шла о спорах в пределах взятой мною линии, Терещенко получал лишь вежливые отклики. Но когда Совет прямо потребовал пересмотра договоров и немедленного созыва конференции, в конце мая (27-28) неудовлетворительные ответы союзников были напечатаны.
Терещенко отступил, и его политика стала считаться "продолжением политики Милюкова". А Совет со своей стороны продолжал укрепляться на своей циммервальдской позиции.
Но тут можно было сколько угодно разговаривать. В области военных действий разговаривать было нельзя. Ген. Алексеев понимал, что при состоянии разложения армии нельзя наступать. Но Керенский обещал наступление.
И уже 17 мая мы слышим недовольный оклик Н. Суханова: "Новое правительство (коалиции) существует и действует уже десять дней... Что оно сделало в отношении войны и мира?" Ответ не неблагоприятен для Керенского. "Военное министерство, сверху донизу, при содействии всех буржуазных и большей части демократических сил, с необычайной энергией работает над восстановлением дисциплины и боеспособности-армии. Работа эта ... уже дала несомненно результаты". Результат, однако, получается – отрицательный с точки зрения Суханова. "Уже ни у кого не вызывают сомнения ее цели: это единство союзного фронта и наступление на врага". Это – не положительное достижение, это и есть – криминал! Разумеется, "пока война продолжается,... нельзя опротестовывать функции всей организации войны", уступает Суханов. Но, пишет "Правда", "все более жгучим" становится вопрос, "кому будет принадлежать вся власть в нашей стране"... "Добейтесь перехода всей власти в наши руки", – "только тогда мы сможем предложить не на словах, а на деле, демократический мир". Вот первая цель; вот и первое достижение, рекомендуемое коалиционной группе социалистов – в духе Циммервальда.
Эти два "вопроса", действительно, исключали друг друга. И если около одного только "десять дней" шла работа в военном министерстве, то по второму Россия была уже не первый год затоплена пропагандой пораженчества. Съезд офицеров армии и флота в ставке подвел этой пропаганде ужасающий итог.
Керенский это знал, конечно, когда 29 апреля произносил перед фронтовым съездом свои известные слова: "Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов!.. Я жалею, что не умер два месяца назад. Я бы умер с великой мечтой, что... мы умеем без хлыста и палки... управлять своим государством".
Теперь эта истерика обернулась... энтузиазмом: единственное средство, остававшееся в распоряжении военного министра "революционной демократии". На самых высоких нотах своего регистра он кричал толпам солдат с свободной трибуны, что вот он, никогда не учившийся военному делу, пошел командовать ими; что, ведя их "на почетную смерть на глазах всего мира", он "пойдет с ружьем в руках впереди" их (со ссылкой на "товарищей с.-р.'ов").
Истошным голосом он выкрикивал слова: свобода, свет, правда, революция – и очень много напоминал им о долге, о дисциплине, – о том, что они... "свободные люди". Солдаты кричали в ответ: "пойдем", "докажем", "не выдадим". Что происходило за линией, до которой долетали отдельные восклицания министра, оставалось, конечно, неизвестно. Было бы, однако, несправедливо не отметить, что между ближайшим окружением Керенского и толпой любопытствующих создалась прослойка энтузиастов, действительно увлекшихся идеей наступления, как из офицерских, так и из левоинтеллигентских кругов – и вообще из молодежи. Из этих кругов вышли "комиссары" и "председатели комитетов" Керенского. В этой же связи сложились некоторые организации офицерских союзов, сочувствовавших новому строю.