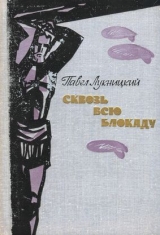
Текст книги "Сквозь всю блокаду"
Автор книги: Павел Лукницкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
В январе расстрелы проводились уже по всем деревням, ежедневно. В Песчанике были расстреляны совхозные рабочие братья Жуковы, Иван Егоров и две девушки из деревни Рыбиха – Лида Павлова и Мария Кирпичникова, а затем брат Марии – Николай Кирпичников… Из сожженной фашистами деревни Старина к капитану-карателю пришла крестьянка Мария Семенова с двумя малолетними детьми просить, чтоб ей разрешили жить в другой деревне. Семенова была тут же расстреляна. Ее мальчик умер от голода. Другого подобрали в снегу и спасли крестьяне. За связь с партизанами – действительную ли, мнимую ли – в Песчанике в январе и феврале было расстреляно больше ста человек. Каратели сжигали за деревней деревню, а бегущих в леса людей ловили, расстреливали, убивали кинжалами.
Начались массовые расправы. В маленькой деревне Волково жило восемьдесят четыре человека. Каратели сожгли деревню дотла и ушли. Сорок два человека бежали в лес, стали таиться в землянках. Сорок два других остались жить на пепелище деревни, вырыв себе землянки на месте сгоревших изб. В январе сюда снова явились пять гитлеровцев и, выгоняя поочередно из землянок семью за семьей, расстреляли всех поголовно из пулемета. Спаслась только одна женщина – Пелагея Семенова, которая, будучи ранена, притворилась мертвой и, когда ушли гитлеровцы, выползла из груды расстрелянных, добралась до лесного лагеря и рассказала все партизанам. Среди расстрелянных было одиннадцать малолетних детей и семнадцать женщин, в их числе беременная Тамара Николаева.
Список преступлений карательного отряда слишком длинен, чтоб все перечислить здесь. Около шестисот деревень до войны было в районе. Осталось их не больше десятка. Только из числа жителей тринадцати ближайших к гнезду разбойников деревень убито карателями больше трехсот человек. Карательный отряд постоянно высылал экспедиции и в другие деревни, трудно сказать, сколько злодеяний было совершено там!
Зловещий капитан постоянно объявлял жителям, что уничтожит всех до единого партизан. Но партизаны, которым, не боясь пыток и смерти, помогало все население, действовали непрерывно, смело, решительно, и силы их умножались с каждым днем. В ста метрах от пояса укреплений, обводящего бывшую больницу, партизаны, после многочасового боя сожгли шоссейный мост через Череху. Крепость карателей била по ним из пушек, минометов и пулеметов. Но мост был сожжен дотла на глазах у беснующегося капитана.
Против филиала карателей в деревне Хвоенка проходит железная дорога Псков – Порхов. Не было дня, чтоб именно здесь не валились под откос взорванные партизанами поезда. Дважды брали партизаны районный центр Карамышево, уничтожали в нем всех немцев, взорвали эшелон с резервистами. Придя после партизан сюда, немцы, оцепив село, три дня убирали трупы, собрали их более семисот. Возле деревни Бурмашево партизаны разгромили обоз с продовольствием и оружием для карателей. Гитлеровцы после ворвались в Бурмашево, кололи ножами, рубили подряд людей целыми семьями, но большинство жителей успело уйти в партизанский отряд. В деревне Черный Вир каратель проломил голову ребенку сапогом. Но ответом на это было увеличение партизанского отряда на несколько десятков человек…
Все кончилось немного дней назад, когда в район стремительно вошла Красная Армия. Разбойничья крепость карателей в Быстроникольской больнице была брошена застигнутыми врасплох бандитами. Они бежали, выпрыгивая в окна, сбрасывая с себя куртки и сапоги. Они пока скрылись от священной мести гневного, оскорбленного русского народа. Может быть, они сейчас в, Пскове, может быть, где-либо в Эстонии. Номер отряда их – тридцать три… Никуда не уйти от ответа изуверу-капитану. Имя его станет известным. Он будет пойман даже на краю света. Не спрячутся нигде палач-фельдфебель, ни один из его злодеев-солдат. Их мрачные преступные лица помнит вся Псковщина, помнят жены, дети и братья расстрелянных.
Мы стоим на сверкающей в лучах мартовского солнца опушке Песчаника. Там, где еще вчера я видел тела невинно казненных людей, сейчас проталины в красном от крови снегу. Возле очищенной от врага мрачной крепости возникло братское кладбище… Да будет священна память лежащих в нем гордых, неподкупных русских людей – псковитян! На деревьях Песчаника зарастет кора, избитая пулями тех, кого местные жители презрительно называли «расстрельщиками». Но мрачные воспоминания о зверствах фашистов не изгладятся в памяти русских людей никогда.
Крепость врагов человечества в Быстроникольской больнице, в тридцати километрах от Пскова, будет вспомянута Гитлеру и его приспешникам в дни последнего суда над фашистскими палачами, три года подряд терзавшими нашу страну.
Глава тридцать четвертая
Радостная весна
Раздумья о близком будущем. На северной стороне. Весна в душе. В Соляном городке. Первомайский салют. В Союзе писателей. По свободной Неве
(Ленинград. 30 марта – 22 мая 1944 г.)
Раздумья о близком будущем
30 марта
Сегодня взяты Черновицы. Наши войска на границах Венгрии и Румынии. Освобождение Севастополя и Одессы уже определено, и срок ему – ближайший. Помню тогда, в 1942 году, – мечта об этом была как боль, острая душевная боль, потому что осуществление ее было где-то в неведомом грядущем, в дальних туманах его. Только вера в победу, никогда не покидавшая, питала ее тогда. Сейчас мечта стала реальностью, наступившим днем, явью, в которой мы все живем. То, что сделано Красной Армией, – величественно и прекрасно. Какие огромные события за эти два года!
Мой Ленинград! Как он изменился сейчас, как он меняется с каждым днем! Во всем сказывается новая эпоха жизни его. Вчера я поехал в хорошо знакомую мне квартиру на Боровой улице, – в дом, наполовину разбитый бомбой в 1941 году. В этом шестиэтажном доме все – еще от блокады: разбитые стекла, частично замененные фанерой; пустые квартиры, в которых вещи свалены в кучу и покрыты двухлетней пылью. Но десятка два женщин и девушек в ватных куртках и брюках хлопотливо работают в доме: энергично производится ремонт. Там, где был глубокий провал, уже отстроены и оштукатурены новые квартиры. От верхнего окна лестницы во двор спускается канат блока, – работницы поднимают доски и бревна, ведра с краской и месивом штукатурки. Весь двор занят секциями парового отопления, оно ремонтируется, оно будет действовать с осени. Такой ремонт идет везде в городе, он не так заметен сразу, когда идешь по улицам, но загляни во дворы, в дома – везде биение новой жизни, везде что-либо чинится, исправляется, восстанавливается. Масштаб предстоящих восстановительных работ необъятен, и то, все еще очень малое, что делается пока, – только начало. Но как оно характерно для наших дней!
Сегодня с моей давней вернувшейся в Ленинград знакомой я шел к Неве вдоль Марсова поля.
Асфальт улиц давно уже очищен от снега. На каждом шагу, замечая в асфальте круглые заплаты – следы воронок, заделанных гудроном или щебенкой (а около них – россыпь царапин и выбоин от осколков), я объяснял моей спутнице, что это – только от зимних снарядов…
– А почему именно зимних? – лениво спросила она.
– Потому что следы обстрелов лета и осени прошлого года давно исчезли: те воронки залиты асфальтом еще до снега.
Моя спутница два года была в эвакуации.
– Да-да! – отвечала она. – Все говорят, что тут было не слишком уютно. – Но так холодно, так непонимающе говорила это, так бесчувственно смотрела на показываемые мною следы обстрелов, что меня в душе брала злость: никак не объяснишь человеку, что же такое были эти варварские артиллерийские налеты на город и что именно тут происходило…
Скоро все сгладится, забудется, уже и сейчас многое вольно или невольно уходит в забвение. Но все-таки и через десять лет два переживших блокаду ленинградца без слов поймут друг друга – подумав, что есть нечто связующее их тайными нитями. Пусть встретятся они где-нибудь за тридевять земель от Ленинграда – поймут. Между ними возникнет на миг та душевная близость, какую словами не объяснишь.
…Сегодня, присматриваясь к новым чертам в облике Ленинграда, я обратил внимание: на улицах города опять много военных, а ведь их почти не было здесь после январского наступления. И сегодня же понял, почему именно по Литейному, – не в ту сторону, как привычно было все эти два года, а в обратную, – от Невского к Неве и дальше, на север, тянулись танки, тягачи с пушками, грузовики с солдатами. Мы поворачиваемся лицом к Карельскому перешейку. Скоро мы услышим гром новых боевых дел – будет сломлен хребет упрямым и неразумным фашистским правителям Финляндии, отказавшимся отречься от Гитлера.
А как прекрасны наши победы на юге! Мне представляется, что после полного очищения от врага Украины и Молдавии, после выхода из войны Румынии основной удар наших армий будет направлен на Белосток, на Варшаву, на Кенигсберг, чтобы мощным наступлением этим загнать в мешок всю белорусскую группировку немцев (пусть вязнет в Пинских болотах!) и всю прибалтийскую. Мы устроим немцам самый грандиозный из котлов, в какие они когда-либо попадали!
Мы пойдем дальше, мы будем крушить фашизм в самом его логове! За нынешнюю нашу прекрасную мощь мы заплатили большой кровью. Наши победы рождены непревзойденным мужеством и героизмом нашего страдающего народа. И будущий мир мы должны завоевать накрепко, так, чтоб это был покой и отдых на долгие времена, а не кратковременная передышка перед новыми войнами.
На северной стороне
1 апреля
Вчера я ездил на финский фронт.
К северу от города финский фронт – все тот же, что был и в период блокады, ничто там не изменилось, обстановка та же, быт – фронтовой и прифронтовой – тот же. Люди те же и на тех же местах и делают то же самое, что делали и тогда. В тех же траншеях и дзотах сидят войска. Те же снайперы так же вглядываются из своих ячеек в знакомые до деталей позиции врага. Методы войны – позиционной, сидячей – там не изменились.
Как странно кажется это теперь: оказаться на фронте через час-два после выезда из Ленинграда. Вернуться в Ленинград с фронта в тот же день, когда поехал туда. Раскрыть армейскую газету и прочитать в ней датированный сегодняшним числом, расписанный на полстраницы эпизод о действиях единичного снайпера или о взятии «языка»…
Уверен: в армейских газетах украинских фронтов освобождению городов Николаева, Очакова, Черновиц, взятию многих сотен пленных и обильных трофеев уделено меньше места, чем здесь, в 23-й, «бедной событиями», армий этому маленькому боевому эпизоду.
23-я армия томится, ждет наступления…
Вчерашняя моя поездка была словно поездкой на уэллсовской машине времени в прошлое, в глубь отошедшего в историю периода блокады Ленинграда.
Весна в душе
Ночь на 12 апреля
Часто бывает теперь: иду по солнечной стороне улицы и почти физически наслаждаюсь самой возможностью идти вот так, спокойно прогуливаясь, с созданием полной своей безопасности. Размышляешь: «Моя улица, мой город! Я тоже что-то сделал, чтоб иметь право в нем – свободном, спокойном – идти по этой чистой, солнечной улице так уверенно, таким прогулочным шагом!»
Рабочие люди, эвакуированные в сбое время в Сибирь или на Урал, возвращаются к своим станкам и трудятся с привычным напряжением. Ученые, инженеры, вернувшись, работают не покладая рук, так же, как работали в эвакуации. Они – тоже участники общей победы.
Но город наш велик, многолюден. И среди десятков тысяч людей, вернувшихся из эвакуации, есть и такие, кто только «устраивает здесь свои дела», как «устраивал» их там – в тылу. К таким дельцам, к счастью немногочисленным, ленинградцы неблагосклонны!..
Вчера была премьера «У стен Ленинграда» Всеволода Вишневского в Выборгском доме культуры. Я в этом Доме культуры – впервые за войну, да, кажется, до вчерашнего дня он и не работал. Премьера закрытая, точнее – общественный просмотр. Полный зал, масса знакомых, – все люди, к которым привык за время войны и блокады. Они – чуть ли не вся «передовая часть интеллигенции» Ленинграда. Мало ее! Но в зале уже много и тех, кто недавно вернулся в город из Сибири, с Урала, из Средней Азии…
Театр подремонтирован, подкрашен, в нем тепло, только несколько женщин в шубах.
После первого акта, в антракте, кто-то из администрации со сцены объявляет: только что был приказ Малиновскому о взятии Одессы. Оглушительные рукоплескания.
Все ждали этого события со дня на день, никто не сомневался, что оно произойдет вот-вот…
Вчера взята Одесса. Сегодня – Джанкой и Керчь. Наши войска очистили всю Южную Украину, вступили в Крым, и немного дней пройдет – освободят его весь. Наши войска вступили в Румынию. Завтра-послезавтра будут взяты Яссы. На очереди Львов, на очереди – освобождение Карельского перешейка… Снилось это мучительными ночами в 1941 году. Верилось в это сквозь все черные беды той зимы; мечталось в сырых и промозглых болотах Приладожья; говорилось об этом с друзьями, с товарищами в блиндажах, в грузовиках, заметаемых дикой пургой на ладожском льду, на бесконечных дорогах фронта…
Всё сбылось, все оправдалось. Хорошо, что вера в победу была всегда, в каждый час моего существования, за все три года войны!.. Наша взяла! Наш праздник!..
В Соляном городке
30 апреля
Сегодня в Ленинграде произошло большое событие: в Соляном городке состоялось торжественное открытие выставки, посвященной обороне Ленинграда. Я пришел на выставку к моменту открытия – к 6 часам вечера. Топча снежную жижу, сюда собирались сотни людей. На Соляном переулке возле разоренного за время блокады скверика, где прежде были оранжереи и ботанические раритеты и где ныне – только следы изрытых огородных грядок да мусор от бомбежек и от обстрелов, – стояли немецкие бронеколпаки, привезенные сюда с полей сражения. Огромное, на многоколесном ходу орудие, из которого вынут (и помещен внутри здания выставки) ствол, стояло среди этих колпаков. Громадины танков и многих других орудий загромоздили всю Рыночную улицу, где у подъезда выставки теснилась толпа. Одна из гигантских длинноствольных гаубиц протянула свой ствол, как хобот, к окнам здания.
На углу Соляного и Рыночной, будто тоже участвуя в экспозиции, высился насквозь прогорелый остов дома. Но и он, как и все другие дома вокруг, был украшен красными флагами. Гремел оркестр. Подъезжали сплошной чередой легковые автомобили, из них выходили представители власти, генералы, их жены. Сновали фотографы. Чины милиции проверяли входные билеты. В фойе какой-то лейтенант энергично рассовывал входящим экземпляры «На страже Родины». Густой поток посетителей вливался в помещение выставки.
Я бродил по выставке четыре часа, с огромным интересом и вниманием разглядывая все экспонаты. Каждый из них будил во мне воспоминания, вызывал ассоциации. Все, о чем рассказывала выставка, было известно мне, все испытано, изведано, измерено – собственными шагами, лишениями, невзгодами, надеждами: город и передний край фронта, Нева и Ладога…
Конечно, мы, ленинградцы, знаем гораздо больше, чем рассказывает выставка, – например, о лишениях и ужасах блокады. Голод очень бедно и стыдливо показан на выставке. Многообразно представлены Ладога и «дорога жизни». Артиллерийские обстрелы и бомбежки показаны хорошо. На бомбах – этикетки с фамилиями тех, кто разрядил их. Огромная тонкостенная фугасная бомба весом в тонну, упавшая на территорию больницы Эрисмана в тот день, когда я находился рядом, в квартире отца, пробудила во мне живые воспоминания о тех днях. Странное, приятное чувство овладело мною: все то, что еще вчера было нашим бытом, будничным и обыденным, – сегодня, отойдя в историю, уже предстает перед нами в виде экспонатов выставки. Явно ощущается, что мы, ленинградцы, ныне живем уже в другой эпохе. Конечно, многое, особенно картины художников, панно, панорамы, романтизируя и, если можно так выразиться, героизируя это недавнее прошлое, представляют его нам не так просто и буднично, как это было в действительности. На не потому, что художники старались все приукрасить; причина в другом: реальная действительность всегда бесконечно богаче, многообразней, глубже, чем попытки иных, не очень искусных художников изобразить ее. У большинства из них все – более плоско, бедно, игрушечно, макетно… Да и вся выставка, конечно, только слабая тень того, что знаем мы, пережившие блокаду сами.
Обиделся за литературу. Ей не уделено никакого внимания на выставке. Все, что касается литературы, изображено лишь десятком книг, – полочка, на которой стоят: «Ленинградский год» и «Ленинград принимает бой» Тихонова, пухлая книжка Саянова, книжечки стихов Инбер, Берггольц, Азарова, Лифшица… Все!..
Центральный зал выставки, где гремел оркестр, производит большое впечатление. Здесь в натуре самолеты, танки, орудия, даже целый торпедный катер, на которых прославленные герои фронта били врага. Хорошо сделана панорама, изображающая передний край, – реалистично, похоже на действительность. Все другие панорамы – не убедительны.
Первомайский салют
2 мая
День за днем по Неве проносило лед. Последний раз я видел его – сдавленные, круглые, с обтертыми краями льдины – в горле Большой Невки, между Гагаринским Пеньковым буяном и Пироговским музеем. Одинокий торпедный катер выбивался из этого вялого льда. Корабли у набережной Жореса – транспорт, прижавшиеся к нему подводные лодки – очищались от зимней окраски. Свисая вдоль борта транспорта на талях, матросы соскребали с него белую краску; транспорт в эти дни был пегим, некрасивым, будто облупленным и постаревшим.
Всю зиму здесь простояла шаланда, засыпанная землей и превращенная в форт: в землю был вправлен дзот, и одни амбразуры его глядели вдоль набережной, на Литейный проспект, а другие – выше, поверх крыш домов, в небо. Ныне эха полузатопленная шаланда, вылезшая носом к самой набережной, засыпанная землей, оплескивается водой. Пролежит здесь шаланда долго: оттянуть ее невозможно, нужно прежде вывезти с нее землю. На корме этой руины команды ближайших судов оставляют свои велосипеды, так же, как оставляли их на обломках других барж, что стояли, например, против Летнего сада, являя собою некие мостки от набережной к подводным лодкам, буксирам и другим зимовавшим здесь судам. Громоздились на баржах и бухты с кабелем, и бочки, и всякая другая тара.
Теперь голые шпангоуты этих взломанных барж оплескиваются невской водой. Она смыла, отнесла от набережных и гигантские груды грязного, насыщенного мусором снега, – того, который всю зиму сваливали сюда дворники, свозя его с аккуратно расчищавшихся улиц.
Цилиндрические, в метр высотой, питательные батареи для корабельных радиостанций зимой стояли на набережной, группируясь штук по десять в полукружиях, образованных гранитными скамьями, там, где эти скамьи обводятся лестничными спусками к Неве. Некоторые из этих зеленых цилиндров стояли на самых скамьях. В ночной час издали они кажутся какими-то молчаливо сидящими на скамьях людьми, стерегущими покой кораблей.
Все чаще по Неве снуют катера и буксирные пароходики, то уводя на другое место зимовавший корабль, то приводя на его место новый.
На Дворцовой площади уже недели три тому назад начались восстановительные работы. Трубчатый, металлический каркас, на котором зиждились леса, обводившие Александровскую колонну, кажется, все два с половиной года блокады, медленно, сверху вниз, разбирался. Недавно, проходя через площадь, я увидел, что колонна уже вовсе освобождена от лесов: последние металлические трубки каркаса грудами лежали с двух сторон ее.
Разбитые, полуразобранные, полуразваленные трибуны, примыкающие к Зимнему, отстраивались заново, обшивались фанерой. Их красили серой, стального оттенка краской.
Ремонтные грузовики трамвайного парка подъезжали к высоким фонарным столбам, выдвигали вверх свои круглые площадки, и тогда на фонарях устанавливались новые, белые, привезенные на других грузовиках, стеклянные шары.
За несколько дней перед Первым мая приведенная в полный порядок площадь уже ничем не отличалась от той, какой она была и до войны, а гроздья белых фонарных шаров поблескивали на солнце. Только вместо стекол во всех окнах Зимнего дворца и сегодня – фанера. Как и везде в городе, окна еще не прозрели, солнечным лучам еще не пробиться внутрь помещений.
Приведение Дворцовой площади в полный порядок казалось не случайным. В городе поговаривали, что, должно быть, в день Первого мая будет военный парад, а то, пожалуй, и демонстрация. Никаких официальных указаний, намекающих на такую возможность, не было, – я, например, справлялся в редакциях газет и в ЛенТАСС, но никто ничего не знал. И все-таки думалось, что такое молчание объясняется военной тайной: ведь важно, чтобы враг не узнал заранее о параде и демонстрации, если они должны быть, и что вот, накануне Первого мая, объявят о том внезапно и парад все-таки будет. Но все эти предположения оказались ошибочными – никаких парадов и народных шествий в день Первого мая не было, ибо подвергать риску воздушного нападения громады людей конечно же нецелесообразно.
30 апреля, проснувшись, все горожане с удивлением увидели плотный, сверкающий покров снега, выпавшего за ночь. Город вновь неожиданно приобрел зимний вид. Днём, хоть и было холодно, но снег стал таять, грязища на улицах весь день была страшная. Только сегодня, 2-го числа, уже нигде не заметить снега, а вчера утром, выглянув в окно, я еще увидел на крышах снег. К полудню его уже не было, а улицы высохли под солнечными лучами.
День Первого мая… Всем хотелось как-то ознаменовать этот день. Люди вышли на улицы, одетые наряднее, чем всегда, женщины – в новых туфельках, даже если и очень дешевых, то все же новых. Небритых мужчин я не видел.
Многие огорчались, что салют будет засветло, а не ночью, – ночью он был бы красивее, эффектнее. Вероятно, кое у кого мелькнула мысль: «А не может ли быть сегодня налета на город?» Но ленинградцы уже привыкли к тому, что враг не в силах прорваться к городу: «Нет! Куда там теперь фрицу бомбить нас… Если и попробует, то крепко получит по носу!»
С презрением и пренебрежением каждый ленинградец думает нынче о гитлеровцах. Ибо мы – победители, ибо до конца войны уже не долог срок…
Солнце ярко светило в половине восьмого вечера, когда я вышел из дому. По набережной канала Грибоедова (на которую для ее ремонта на днях навалили груды булыжника), как и по другим улицам, к Марсову полю, к Неве густо валил народ. Больше всего было детворы.
На Марсовом поле, как и везде, алели флаги. Против Павловских казарм, на второй дорожке Марсова поля, стояли в ряд так и не убиравшиеся после двух прошлых салютов пушки: тридцать семь противотанковых пушек. В первой половине дня к этим пушкам, всегда стоящим одиноко и без охраны, привели солдат – расчеты подготовлялись к стрельбе. Сейчас, перед восемью часами вечера, расчеты вновь были здесь, на своих местах, у орудий.
Зрители вытянулись вдоль первой дорожки, против казарм. Зрители были и на другой стороне Марсова поля, и на панелях улицы Халтурина, и на площади, вдоль Мраморного дворца, и на набережной Невы, и на Кировском мосту.
Я встал на углу набережной и Кировского моста, в гуще ждущих салюта людей, любуясь кораблями на Неве, украшенными с с утра флагами расцвечивания. Обновленный свежей коричневой краской, стоящий против Летнего сада вспомогательный военный корабль готовился салютовать сам, и палубы его были полны людей.
На крышах Мраморного дворца и Павловских казарм расположились солдаты с ракетными пистолетами в руках. По набережной, полным ходом проносясь мимо, в сторону моста Лейтенанта Шмидта, торопились автомашины, в которых я замечал офицеров флота с их семьями. Эти, видимо, рассчитывали смотреть на салют не здесь, а там, ниже по Неве, где стоит больше военных кораблей, где, вероятно, откроют огонь из своих орудий линкоры. Но мне было хорошо и здесь.
Ровно в восемь вечера раздался первый залп салюта. Орудия, стоящие на Марсовом поле, блеснули пламенем, набережная содрогнулась. Блеснул бортовым залпом стоящий против Летнего сада корабль, рокочущий грохот прокатился и навстречу, – с той стороны Невы, где рванули залпом стоящие против Дома политкаторжан зенитки. Оттуда же, и одновременно со всех сторон, взвились в голубое небо разноцветные ракеты, я увидел на крыше Мраморного дворца десятки устремленных к небесам рук с ракетными пистолетами.
Ракеты полились в солнечное небо сплошной чередой. Солнце, стоявшее над Петропавловской, слепило глаза, но змейки расползающихся от блеснувших точек дымов все же были видны. Залп за залпом повторялся. Берега Невы покрывались густыми клубами дыма. Медленно оседая, распадаясь, тая, дым стлался пр водам Невы, но все новые и новые его клубы вырывались от стреляющих залпами орудий, от ракетниц, которых было великое множество. Стремительно бегали мальчишки, подбирая пыжи и не догоревшие или догорающие на земле части ракет. Длинными, крутыми, плавными дугами, самыми различными траекториями полета, всецветные ракеты летали по небу. Многие вонзались, еще горя, прямо в толпу: люди отскакивали, а на шипящую огненную точку набрасывались вездесущие мальчишки.
Трамваи, переполненные пассажирами, остановились на мосту. Ни один автомобиль не двигался, пока длился салют. Дохнув пламенем, ряд орудий, бивших на Марсовом поле, разносил по всему городу раскатистый гром. Мост, на котором стоял я, вздрагивал и еще долго после каждого залпа дрожал.
Когда после одного из залпов загремели музыкой громкоговорители радио, все сразу поняли, что салют окончился. Одинокие ракеты еще несколько минут взлетали в воздух, – ракетчики достреливали последние запасы свои, и единичные красные, фиолетовые, желтые звездочки, словно не желая расставаться с небом, медленно опадали, заканчивая собой парадное зрелище. Сразу в неистовое движение пришли стоявшие повсюду толпы, трамваи и автомобили.
Перед мостом, механически быстро членя свои движения, преисполненный гордости и чувства собственного достоинства регулировщик-милиционер орудовал магической палочкой так залихватски, что к нему подбежали фотографы, а случившийся тут же со своей женой Александр Прокофьев стал восхищенно за ним наблюдать, повторяя: «О… О!.. Русак, вот это русак!»
Автомобильный разъезд был так густ, что нельзя было перебежать улицу, С давних времен я не помню в Ленинграде такого момента, такого местечка, где автомобили сновали бы со всех сторон сплошным потоком, едва не налезая один на другой.
Люди растекались неторопливо, явно жалея, что все уже кончилось. Ватаги мальчишек носились по Марсову полю, подбирая остатки ракет.
Я побрел вдоль Лебяжьей канавки и услышал позади себя отдаленный грохот. Я оглянулся. Над Петроградской и Выборгской сторонами высоко в небе набухали черные клубочки разрывов зенитных снарядов. Это фашистские самолеты прорвались к городу, – может быть, один какой-нибудь, может, несколько. Зенитки били минут пять, но почти никто не желал замечать ни этих клубочков, ни отдаленного гула стрельбы.
«Поздно!» – усмехнувшись, подумал я.
Перешел Марсово поле поперек, подошел к пушкам. Артиллеристы хлопотали возле них – чистили и смазывали стволы и затворы, переносили в штабеля ящики с гильзами и неиспользованными снарядами. «Пять у меня!» – считая, кричал один. «И гляди, у меня совершенно чистый!» – сообщал молодой солдат другому, тыча пальцем в густо смазанный затвор своего орудия.
А огромная ватага мальчишек, бегая под стеной Павловских казарм, подбирала на асфальте швыряемые ей с крыши казарм полудюжиной инициативных парнишек стреляные гильзы ракет. Издали это зрелище было похоже на бой: сверху градом летели гильзы, внизу чуть не сотня ребятишек носилась, набивая ими до отказа свои карманы.
– Дай одну! – сказал я подвернувшемуся мне парнишке, проходя мимо.
– На! – он щедро сунул мне несколько гильз.
Буду хранить их на память об этом дне!
В ночь на 1 мая я слушал приказ Верховного Главнокомандующего. В нем есть слова: «Но наши задачи не могут ограничиваться изгнанием вражеских войск из пределов нашей Родины…»
Эта строка приказа определяет для нас весь дальнейший ход войны…
В Союзе писателей
4 мая
Вчера был «большой день» Ленинградского Союза писателей – просмотр впервые за войну организованной выставки работ ленинградских писателей. Выставка организована наспех, недостаточно продумана и представляет далеко не все, сделанное за время войны писателями. В витринах – сто шестьдесят девять книг и брошюр. На стендах – газетные вырезки, журналы, цифровые данные. Все – очень случайно подобранное. Фотографии – портреты писателей. И все-таки по этой выставке можно судить, что писатели потрудились немало, хотя, как правило, их труд и не был работой именно в художественной литературе.
Писатели были агитаторами, журналистами, корреспондентами, пропагандистами. Заниматься художественным творчеством времени не оставалось, и то немногое, что сделано в этом отношении, за редким исключением, не представляет собой подлинной художественной ценности. Но писатели выполняли свой воинский долг, честно и достойно выполнили его. В том, что Ленинград победил, – заслуга писателей несомненна и велика. И то, что написано ими, будет уважительно изучаться во все времена истории.
После просмотра выставки начался «Устный литературный альманах» – впервые за время войны, в Большом зале Дома имени Маяковского. До этого в Большом зале бывали только просмотры кинофильмов. Собравшиеся ежились от холода, но примечательно уже то, что этот прекрасный зал был ярко освещен, чист, устлан коврами. После альманаха прошел концерт, – выступали приглашенные артисты, певцы, балерина. На этой эстраде – тоже впервые за время войны.
Слушая пианистку, я думал: вот в каких деталях нашего быта мы видим победу. Она возвращает нам все, к чему мы привыкли в мирное время, что лелеялось нашими надеждами в дни блокады, что даже невозможно было себе представить как реальность в страшную зиму 1941/42 года. Естественно, просто, буднично приходят к нам прежние формы жизни. И это потому, что победили в войне мы! На миг только представить себе, какими были бы эти дни, если бы мы не отстояли города, если б народ наш не добился победы в войне…
По свободной Неве
22 мая
Тот, последний, пароход, который поднялся по Неве от Ленинграда до Шлиссельбурга, шел в августе 1941 года – тридцать три месяца назад. Враг занял Мгу. Немецкие пушки и танки выкатились в Ивановском, в Пелле, в Дубровке к невскому берегу. В живую водную артерию влилась немецкая сталь. Минометы завесили реку сплошным огнем. У Островков, у Малых Порогов посыпались с неба на правый берег фашистские парашютисты. Они были уничтожены еще в воздухе. Дальше левого берега враг не прошел. Началось двухлетнее стояние гитлеровских дивизий на берегу не преодоленной ими реки. Но жизнь на Неве застыла. Замер на камнях у Островков пассажирский пароход номер пять, застигнутый вражескими снарядами в последнем своем рейсе. Труп капитана, убитого в рубке у штурвального колеса, долго висел между армиями двух схватившихся не на жизнь, а на смерть государств. Рискуя собой, наши разведчики все-таки пробрались на пароход, вынесли тело погибшего на посту коммуниста, похоронили его.








