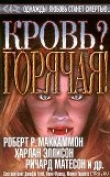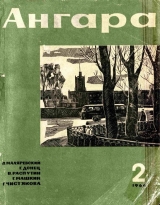
Текст книги "Модель инженера Драницина"
Автор книги: Павел Маляревский
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ МОДЕЛИ
Фотограф Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода был хилый слабонервный мужчина лет пятидесяти. Основной чертой его характера была непомерная боязливость. Боялся он буквально всего и пребывал в непрерывном страхе. Все новое возбуждало в нем смутную тревогу. Строили огромный дом, Тихон Петрович шел мимо и неодобрительно думал.
– Нехорошо это... Ни к чему... И без этого бы прожили.
Узнает он о пуске нового завода – ему становится не по себе.
– Без этого жили, а теперь... Ох, не к добру это, не к добру.
А каждый день случалось что-нибудь необычное. То приносили на дом бумагу за казенной печатью, в ней приглашали Тихона Петровича на собрание кустарей-одиночек фотографов на предмет обсуждения вопроса о создании артели «Социалистический фотограф». И хотя Тихон Петрович знал, что объединять его не с кем (он был единственный в городе фотограф), но он мрачнел и, расписываясь дрожащей рукой в получении бумажки, шептал:
– Добираются. Ох, что будет, что будет...
То приходило известие, что усадьба Никоподолова, в которой проживал Тихон Петрович, отходит к какому-то там жакту. В квартиру являлись люди, что-то такое меряли, находили какие-то излишки, бесцеремонно заявляли, что вот эту комнату надо будет сдать новому жильцу, выдавали квитанции. А потом на собрании членов жакта кричали до хрипоты, выбирали правление, тянули Тихона Петровича на должность заведующего культбытотделом.
От всего этого рябило в глазах и мутно билось сердце.
– Не пойму я, ничего не пойму, – говорил Тихон Петрович. – Одно только знаю – добираются.
Новое, что входило в жизнь городка упорно, изо дня в день, размывало островок понятий и привычек, на котором так мерно, так тихо текла жизнь. И иногда казалось, что все это направлено против него, и что наступит такой день, когда «новое» перестанет действовать обходным путем и возьмется прямо за него, за Тихона Петровича Кусачкина-Сковороду. Вот откроется дверь, придет кто-то и скажет: «А, так это вот и есть Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода. А кто он, а что он, а нужен ли он?»
И все это заставляло быть настороже, все это держало его в вечном страхе.
Снимал ли Тихон Петрович красноармейца – руки у него трепетали, голос дребезжал и все казалось, что на карточке выйдет не красноармеец, а черт знает что такое. Вывешивали в городе список лишенцев. Тихон Петрович бледнел, стоя у витрины. Ему казалось, что в числе лишенных прав обязательно должен быть и он. Но когда он убеждался, что в списке его фамилия отсутствует, ему становилось еще тяжелее.
– Значит, ошиблись. Выпустят дополнительно, отдельным листком. – И в глазах вставал огромный лист, на котором было жирно выведено «Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода лишенец». Он жмурился и измученный шел домой.
Когда по вечерам Тихон Петрович читал газету и натыкался на хронику уголовных преступлений, ужас подступал комом к горлу и ему казалось, что и он тоже соучастник злодеяния.
Супруга Тихона Петровича – Агафья Ефимовна – была рыхлая, белотелая женщина, совершенно равнодушно относящаяся ко всему в мире, кроме еды.
На мужа своего она смотрела с сожалением и в тайне его презирала.
– С придурью он у меня, – жаловалась она соседкам, – с придурью. Никак его маленького маком опоили.
Однажды вечером Тихон Петрович читал центральную газету. Первым делом он отыскал отдел происшествий и зарубежную хронику. Замирая от любопытства и холодея от ужаса, прочел он краткую заметку о том, что в одной из стран в советском полпредстве был обнаружен адский снаряд. Следы вели к крупной белогвардейской организации «Союзу великого дела», решившей стать на путь террористических актов.
Прочитав заметку, Тихон Петрович по своему обыкновению попытался установить: нет ли какой-либо связи между таинственными преступниками из Праги и им, гороховским фотографом. Но даже его мозг, изощренный в подобного рода упражнениях, не мог найти связующих звеньев. Он строил невероятные догадки, но ничего не выходило. И это мучило. В голове досадно ныло.
Промаявшись около получаса Тихон Петрович решил выйти на двор подышать свежим воздухом. На дворе было пусто. Мутными пятнами маячило белье, от тусклого лунного света оно казалось не то зеленым, не то желтым. Где-то надсадно выла собака.
– Не к добру это, – решил Тихон Петрович и побледнел от страха. – Не к добру.
Гуляя по двору Тихон Петрович остановился, ему показалось, что у колодца что-то блестело. Он отошел в сторону. Действительно, в мутном лунном свете блестел какой-то предмет. Испугавшись до дрожи в коленках, Тихон Петрович на цыпочках подошел к колодцу.
Он обшарил темноту руками и наткнулся на что-то гладкое. Это был небольшой, потертый чемоданчик. Под ручкой тускло поблескивала металлическая пластинка с буквами СВД.
Дико вскрикнув, фотограф прижал чемодан к себе, по-лошадиному выбрасывая ноги, помчался домой.
– Ты что, угорел что ли, – встретила его жена, спокойно перемывавшая посуду. Но, взглянув на Тихона Петровича, она поняла, что случилось что-то из рук вон выходящее.
– СВД, – бормотал фотограф, – СВД.
– Тьфу, – сплюнула Агафья Ефимовна, – заладила сорока Якова. Что у тебя за чемоданчик?
Тихон Петрович положил чемоданчик и стуча зубами ответил.
– Во дворе на-а-а-шел.
– Во дворе, – недоверчиво протянула супруга, – а ну-ка открою. – Вооружившись ножом она наклонилась к чемодану. Язычок щелкнул и прыгнул вверх.
Внутри на темной обивке, тускло поблескивая никелем и медью деталей, лежал странной формы аппарат.
– А-а, – простонал Тихон Петрович, – адский снаряд.
– Ахти, господи, – ахнула Агафья Ефимовна, чуть ли не в первый раз в жизни теряя равновесие. – Адский.
Тихону Петровичу все стало ясно. Мозг удивительно услужливо связывал факты в одно страшное целое.
– Нет, ты пойми, – вскрикивал он, – ты только пойми. – Тряслась реденькая мочальная бородка, вздрагивала нездоровой синевой склеротическая жилка на виске, и костлявый палец прыгал по газетной заметке.
– Ты прочти только – «Союз великого дела». А как сокращенно будет по-советски? – СВД. А здесь что написано? – ткнул он пальцем в металлическую пластинку.
– СВД, – обалдело прошептала Агафья Ефимовна.
– Вот, вот, – почти торжествующе выкрикнул Тихон Петрович, – СВД. Значит, это и есть адский снаряд.
Глаза его блестели. Нескладная фигура выпрямилась. То, что его вечные страхи наконец оправдались, доставляло какое-то неизъяснимое, странное наслаждение.
Агафья Ефимовна, как подкошенная, опустилась на стул. В первый раз за всю жизнь она испытала подлинный страх.
– Так вот, – все больше и больше входя в роль, ораторствовал Тихон Петрович. – Вот явится к нам ГПУ и спросит: «Вы Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода?» – «Я». – «А чем вы занимались до семнадцатого года?» – «Кустарь-одиночка». – «А что вы можете сказать касательно этого аппарата, откуда вы получили его и не есть ли вы член «Союза великого дела?» И пойдут, и пойдут...
– А потом-то что?– одними губами прошептала Агафья Ефимовна.
– А потом известно что – тюрьма, а то и расстрел.
Произнеся последнюю фразу, Тихон Петрович весь как-то осел, словно из него вынули кости и осталась одна мякоть. Все оживление и минутный пыл исчезли. Он отчетливо представил себя сидящим в тюрьме.
Всю ночь проговорили супруги, тяжело ворочаясь в постели.
– Тиша, а Тиша, а ежели его в колодец бросить, – шептала Агафья Ефимовна.
– Найдут, – угрюмо отвечал Тихон Петрович, – первым делом будут в колодце искать.
– А, может быть, в печь заделать.
– Как же можно, а ежели он там разорвется.
И только когда в щелях ставень закачался мутный рассвет, супруги решили закопать аппарат подальше за городом.
– Завтра ночью, – пробормотал Тихон Петрович.
– Завтра, – сонно ответила Агафья Ефимовна.
До позднего утра снились ей три огромные буквы СВД. Они кривлялись, строили рожи, высовывали языки, а она бегала за ними с лопатой. Тихон же Петрович сидел верхом на адской машине и почему-то не своим голосом пел «купи ты мне, матушка, красный сарафан». А рядом толстый военный беспрерывно стрелял из пушки вверх.
Целый день Тихон Петрович ходил, словно опущенный в воду. Работа не ладилась. Он с утра неправильно установил аппарат, смотрел невидящими глазами в фокус и деревянно повторял знакомые слова:
– Смотрите сюда.
– Голову налево.
– Улыбнитесь.
– Спокойно, снимаю.
А вечером, проверяя негативы, он с ужасом заметил, что аппарат был неправильно установлен и потому на фотографии вышли одни туловища без ног и без головы.
Агафья Ефимовна тоже ходила как потерянная, даже есть и то не хотелось. К вечеру небо заволокло тучами.
– Погода благоприятствует, – решил Тихон Петрович и ему стало легче.
За городом, где кончались редкие домики, бесконечными рядами тянулись огороды угорских индивидуалов. Сюда-то поздней ночью и направились супруги Кусачкины.
У Тихона Петровича под пальто был спрятан заступ, Агафья Ефимовна под накидкой несла чемодан.
Город опустел и слепо смотрел бельмами ставень.
В поле на пригорке стояла одинокая береза.
– Здесь, – прошептал Тихон Петрович, опуская заступ.
Вырыв яму аршина в полтора, Тихон Петрович взял модель, увернутую в старую холстину. Бережно положил ее на дно ямы, аккуратно засыпал землею, заложил дерном и облегченно вздохнул.
– Следы скрыты, – пробормотал он.
– Скрыты, – успокоенно проговорила Агафья Ефимовна и, помедля, добавила.
– Пойдем, Тиша, поужинаем, страсть как есть захотелось.
Плыли редкие, рябые облака. Ветер путался в изгороди, сыростью и свежестью дышала трава, а в земле на глубине полутора аршин, плотно увернутая в старую холстину, лежала модель инженера Драницина.
Глава VБОБРИКОВ ДЕЙСТВУЕТ
Учрежденческий день начался обычно.
Бобриков, как всегда за пять минут до десяти, уселся в стеклянную будку. Голова у него болела. Ночью он плохо спал. Все было решено. Дома в небольшом чемоданчике лежало белье, документы на имя Пимена Степановича Дужечкина, члена союза рабпроса. Документы эти Бобриков как-то случайно нашел на улице и сохранил их на случай. А теперь они пригодились.
Он готовится начать новую жизнь. Желанный миллион становился явью, он сам плыл в руки.
В час дня, после завтрака он сходил в банк и принес двадцать шесть тысяч.
План был прост.
Бобриков думал затянуть выдачу зарплаты и перенести уплату на день после выходного. А потом, уложив деньги в портфель, запечатать кассу и уйти, чтобы больше не возвращаться в учреждение никогда.
– Что это у вас вид такой странный, – спросил его главный бухгалтер, когда Бобриков проходил с деньгами в кассу. – Заболели вы что ли?
Бобриков вздрогнул.
«Неужели подозревают», – подумал он и, что-то промямлив, прошел к себе.
– А я вас, товарищ Бобриков, сегодня не узнала, видно вам богатым быть, – прострекотала живая черноглазая девчонка – курьер внутренней связи, передавая Бобрикову пачку документов.
У Бобрикова похолодело в животе.
«И эта тоже» – подумал он. Очевидно, подозревают. Решимость его падала.
В три часа он начал платить зарплату. Сотрудники выстроились в очередь. Шуршали ведомости, хрустели кредитки и слышалось однотонное: «распишитесь», «получите», «копейка за мной».
Часа в четыре, раздав тысяч восемнадцать, он захлопнул окно и вывесил бланк: «Касса закрыта».
Сотрудники заволновались:
– Почему? Как?
Бобриков молча показал на часы. Занятия кончились. Все знали, что кассир формалист и, поволновавшись, побрели к выходу. Только тощая, высокая машинистка кричала густым контральто:
– Это подвох, определенный подвох!
Бобриков ежился и кряхтел. Временами он решал бросить всю эту затею. Но вот перед глазами плыл миллион и колебания кончались. Стрелка показывала половину пятого. Наступала решительная минута. У Бобрикова выступил пот на лбу. Пачки денег лежали на столе. Их можно было положить в несгораемый шкаф, и тогда послезавтра опять на работу, опять с девяти до четырех стеклянная будка и вечером обшарпанная комната, вечно ноющая старуха мать и нехватки. Деньги можно было спрятать в портфель и впереди свободная жизнь, охота за таинственной моделью и миллион, или...
– Ну, заключенный, – раздалось над ухом.
Бобриков вздрогнул.
...«Или тюрьма», – мелькнуло в сознании.
– Ну, заключенный, – повторил веселый голос, – когда вы из вашей тюрьмы вылезете?
Веселый счетовод Галстучкин стоял у окошечка и улыбаясь смотрел на Бобрикова.
– А, это вы, – растерянно ответил Бобриков. – Не скоро еще. Кассу надо свести.
Он взял портфель и сделал вид, что ищет какие-то документы. На стол выпала маленькая записная книжечка в коричневом переплете с золотым тиснением.
Бобриков испуганно поднял глаза, но Галстучкина уже не было.
– Еду, – вдруг решительно и почти громко сказал Бобриков. Ему стало легко и ясно. Он аккуратно уложил в портфель восемь пачек по тысяче рублей каждая. Запечатал кассу и вышел в вестибюль.
– Эк вы его набили, – мигнул в сторону портфеля усатый сторож.
– Да, дела всё, – бодро ответил Бобриков, принимая пальто. На улице стоял ясный, теплый день.
Поздно вечером старуха мать бесшумно вошла в комнату сына.
– Миша, а Миша, иди чай пить.
Сын обернулся и свет лампы упал на него. Старуха охнула и, дико вскрикнув, заковыляла к двери. У стола стоял незнакомый человек с гладко выбритой головой, рыжеватыми усиками и в дымчатых очках.
– Тише вы, – пробормотал человек, подбегая к старухе и схватив ее за руку. Голос был знакомым. Это говорил сын.
– Мишенька, да ты ли это, да что с тобой, – охала старуха.
– Молчите, мамаша. Уезжаю я. Вот вам две тысячи. Живите и никому ни слова. Пропал, мол, и неизвестно куда, видом не видела и слыхом не слыхала. Поняли?
– По-о-оняла, – бормотала старуха. – Да куда ты в такую пору-то? А служба-то как?
– Со службы и бегу, – прохрипел Бобриков. – Слушай, мать, скоро я буду богат, жить буду не здесь, а в Париже. Тогда выпишу. Приезжай, а сейчас молчи.
Он быстро схватил маленький чемоданчик и нырнул за дверь. Старуха перекрестилась и одними губами прошептала:
– Дай-то, господи.
– Сегодня Бобриков на работу не вышел, – докладывал бухгалтеру помощник.
– Что это с ним? Такой аккуратный человек и вдруг... Заболел, наверное. Пошлите-ка к нему курьера, – распорядился бухгалтер.
Через час в учреждении приглушенно шептали:
– Растрата. Бежал.
В стеклянной будке слесарь ломал несгораемый шкаф. Трое унылого вида мужчин стояли около, чинили карандаши и готовились составлять акт.
Редактор стенгазеты строчил громовую статью под заголовком «Растратчик вставляет кол в спину мировой революции».
А в это время на станции Горохов из вагона вышел невысокого роста щупленький человек в темном пальто, с бритой головой, с рыжими усиками. В руках он держал небольшой чемодан. Было утро. Мирно дремали домики, обросшие ставнями, палисадниками, калиточками, на широкой улице пылили куры, изредка тарахтела телега да маленькая сморщенная старушонка истово крестилась на ржавый крест колокольни.
Бобриков, сдав вещи в багаж, с портфелем под мышкой отправился на поиски квартиры. Ему не хотелось идти в гостиницу. Там легче было попасться. Шатаясь по городу, Бобриков увидел небольшой домик с застекленной пристройкой; над дверью висела вывеска:
«Т. П. Кусачкин-Сковорода – фотограф из Парижа. Молниеносное и точное изображение лица и фигур товарищей клиенток, клиентов и детей».
В окне тускнело объявление «Сдается зала в наем». Бобриков вошел. Встретила его Агафья Ефимовна. Тихон Петрович после ночного путешествия болел и даже не работал.
«Зала» была маленькая, но уютная. Агафье Ефимовне Бобриков понравился степенностью и рассудительностью.
«Не щелкопер какой-нибудь», – подумала она, принимая задаток.
– А документик ваш, – попросила ока.
– Пожалуйста,– ответил Бобриков, протягивая ей членский билет профсоюза рабпрос[7]7
Работников просвещения.
[Закрыть] на имя Пимена Андреевича Дужечкина.
– Ну вот, все в порядке, значит, сегодня и переедете?
– Сегодня, – ответил Дужечкин-Бобриков.
– А вы что же, здесь работать будете?
– Буду.
– И, поди, по театральной линии?
– Нет, по педагогической.
В полдень Бобриков-Дужечкин перетащил на новую квартиру свои немудрые пожитки.
– Хороший человек, – говорит Агафья Ефимовна своему мужу.
– А он, того, не преступник, – почти бессмысленно пробормотал Тихон Петрович.
– Тьфу, – даже рассердилась Агафья Ефимовна, – и все-то у тебя на уме одно и то же.
На другой день Бобриков отправился в гороно. Документы о стаже произвели впечатление, но подходящих мест не было. Наконец, после длительных разговоров ему предложили работать в школе для трудновоспитуемых детей.
Это устраивало как нельзя лучше. В колонии он встречался только с узким кругом людей, был в известной мере отрезан от мира. А это как раз и было нужно.
Секретарь подписал приказ. Завтра в девять часов надо было идти на работу.
– Устроился, – радостно сообщил Бобриков-Дужечкин Агафье Ефимовне.
– Устроились уж, – воскликнула она и про себя восхищенно подумала: «Орел, чистый орел».
Глава VIСЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР У ПАРИКМАХЕРА ФЕЧКИНА
– Нютка, опять у тебя пирог подгорел?!
– Ну и такой съедят, – философски ответила босоногая девчонка, сердито громыхая противнями. – Подумаешь.
– Все грубишь, – предостерегающе протянула Нина Петровна Фечкина. – Смотри, рассчитаю.
– Ну и рассчитывайте, – так же спокойно ответила Нютка.
Нина Петровна оскорбленно вздохнула, привычным движением руки взбила кудряшки и вышла из кухни.
Готовился семейный вечер.
Ягуарий Сидорович в новом полосатом костюме, напомаженный и надушенный, ходил по столовой. Новые ботинки немилосердно жали, но он пытался сделать радостную физиономию и довольно взглядывал на стол, уставленный закусками и выпивкой.
– Скоро собираться начнут, – промолвила Нина Петровна, охорашиваясь перед зеркалом. – Только предупреждаю, Ягуар, чтобы все было прилично. Особенно смотри за этим Кусачкиным-Сковородой и Федором Кузьмичем. Они вечно напьются и начинают с женами ругаться. И еще не разводи ты, пожалуйста, споров с Чубукеевым. Для споров есть заседания.
Гости собирались с опозданием. В передней долго ахали. Мужчины жали друг другу руки, женщины целовались, поправляли прически и, накинув шелковые шали, чинно шли в парикмахерский зал, срочно переоборудованный в гостиную.
В зале пахло вежеталем и бриолином.
Собрались все свои. Петя Укротилов – счетовод комхоза – принес с собой патефон. Федор Андреевич притащил пластинки. Пришли два старичка англомана, оба с англо-русскими словарями под мышкой. Прошипев неизменное «хаудуиду», они уселись в угол и листали словари. Один задавал вопрос, а другой отыскивал нужные слова и отвечал.
Пришла тетя Паша с супругом.
Затаив в лице страх, явился Тихон Петрович с Агафьей Ефимовной.
К ужину пришел известный краевед археолог Чубукеев, вечно немытый в неопрятном костюме, с огромной, грубо сделанной трубкой во рту. Был он заклятый враг Ягуария Сидоровича, и поносил его на всех перекрестках как невежду и авантюриста, ни черта не понимающего в археологии. Пришел же он, чтобы мимоходом выведать, какие открытия сделал за последнее время парикмахер.
Были кроме того девицы разных возрастов в файдешиновых и крепдешиновых платьях. Молодые люди с проборами и в ботинках джимми. Ждали, что придет единственный в городе признанный и печатавшийся поэт – Павел Трепещущий (псевдоним), живший у парикмахера, но он отказался наотрез, заявив, что ему надо творить, и весь вечер, снедаемый поздним сожалением, провалялся на жесткой постели.
Дамы ютились на диванчике и кушали карамель. Федор Кузьмич молчаливо сидел в углу и листал семейный альбом. Тетя Паша время от времени делала ему замечания.
– Феодор, (в обществе она именовала его Феодор с ударением на последнем слоге) у вас (в обществе она называла его на вы), у вас грязный платок. Спрячьте.
Федор Кузьмич покорно прятал платок.
– Феодор, у вас резинка у носка расстегнулась.
Федор Кузьмич так же покорно пристегивал резинку.
Было в меру скучно. Молодежь, правда, развлекалась, играли в шарады, танцевали. Простуженно шипел патефон.
Наконец хозяин пригласил к столу. Гости разом повеселели и, шумно разговаривая, двинулись в столовую.
– Люблю-с, – восклицал толстый бухгалтер из химтреста, – люблю-с, когда это, знаете, в центре бутылочки, по бокам закусочки, по краям тарелочки и вокруг прекрасный пол и вообще выпивон. По первой.
Застучали ножи, зазвенели рюмки.
– Пирожка попробуйте.
– Мне колбасу подвиньте.
– Как это только вы грибы маринуете, Нина Петровна, какой-то секрет у вас есть.
А шепотом на ухо:
– А пирог-то подгорел.
– Колбасу-то как нарезали, ровно бумага просвечивает.
И снова:
– Пейте, кушайте.
– Да что же вы ничего не берете.
После пятой рюмки старички со словарями поминутно выкрикивали:
– Иес.
– Ол райт.
Дамы жеманничали, отодвигали рюмки, взвизгивали и под сурдинку отвечали на пожатья ножек под столом.
Известный краевед Чубукеев пил мрачно. За весь вечер он ничего не узнал.
После ужина мужчины, забрав рюмки и блюдо с селедкой, пошли в спальню хозяина.
Нина Петровна прошипела вслед:
– Следи за Федором Кузьмичем и Кусачкиным.
– Слежу, душечка, в о-оба, – не совсем внятно ответил Ягуар. В спальне выпили по первой, по второй, по пятой.
Федор Кузьмич начал плакать.
– Лысею я, несчастный я человек. А все от того, от нее, аспиды-василиски. Падают мои волосы, падают, – и он слезливо сморщился.
– Ты, Ягуар Сидорович, должен мне средство дать.
Ягуар хитро усмехнулся и, взяв с окна флакон, помахал им перед носом Федора Кузьмича.
– Вот видишь, патентованное.
Федор Кузьмич оживился:
– Па-па-патентованное, говоришь ты? Дай.
– Денег стоит, – сухо ответил Ягуар, ставя флакон на место. – Строго секретно и собственного изобретения.
– Ягуар Сидорович, богом молю, дай, – пристал Федор Кузьмич. – Ведь облысею я. Что хочешь бери, только отдай.
– Пять червонцев, – бухнул Ягуар Сидорович и даже побледнел от неожиданности.
– Десять бы не пожалел, кабы были. Нет.
– А нет, так нет.
Внезапно Федора Кузьмича осенила мысль. Он сунул руку в карман и вынул оттуда часы с инициалами Драницина.
– Вот возьми в обмен, только дай.
Ягуар Сидорович недоверчиво улыбнулся и взял часы.
Гости принялись осматривать их.
– Хороши, – изрек бухгалтер.
– Хороши, – соглашался Ягуар.
– Бери, – бормотал Федор Кузьмич, – только дай средство и жене ни гу-гу. Она человек нервный.
– Ну ладно, бери, только для тебя уступаю, – снисходительно проговорил Ягуар Сидорович, передавая флакон Федору Кузьмичу.
Тот немедленно подошел к зеркалу и, откупорив флакон, густо намазал макушку жидкостью.
Часы переходили из рук в руки.
– Разрешите посмотреть, – заплетающимся языком пробормотал фотограф. Ягуар передал ему часы.
– А-а-а, – вдруг закричал Тихон Петрович, – СВД.
Гости переглянулись.
– Ягуар, откажись, – кричал побледневший фотограф, – тебе говорю, откажись... Союз великого дела. Я, брат, все знаю, – подмигнул он. – Ты, брат, только раскопай, не то увидишь.
Мрачный краевед Чубукеев, услышав слово «раскопай», сразу же насторожился как гончая. Оживился и Ягуар.
– Что раскопать, – враз вскрикнули они.
– Ты не хитри, на Угорье-то, брат, под березой. Там, брат, ценность, ты только не смей и часы не бери... Слышишь, – и фотограф, бессильно покачнувшись, свалился на пол.
– Наклюкался, – сочувственно проговорил толстый бухгалтер, наливая десятую рюмку. – Слаб человек.
– Мне пора, – мрачно произнес краевед Чубукеев и про себя повторил: «На Угорье под березой».
– Пошли уже, – поднялся Ягуар и беззвучно прошептал: «Под березой на Угорье».
Гости стали расходиться. Бесчувственного Тихона Петровича Агафья Ефимовна вместе с толстым бухгалтером уволокли домой.
– Не правда ли, как удался вечер, – бормотал Ягуар Сидорович, натягивая пестрое ватное одеяло.
– А ты заметил, как много ест этот толстый бухгалтер. Конечно, мне не жаль, но это просто невежливо, – проговорила Нина Петровна, поправляя подушку.
– М-да.
Дом заснул.
Только поэт Павел Трепещущий (псевдоним) лежал одиноко на жесткой постели и терзался поздним раскаянием.
Где-то заунывно выла собака.