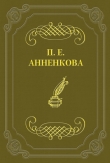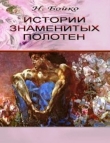Текст книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."
Автор книги: Павел Фокин
Соавторы: Светлана Князева
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
МАКСИМОВ Владимир Васильевич

наст. фам. Самусь;
15(27).7.1880 – 22.3.1937
Актер театра и кино. В 1904–1905 – актер МХТ, 1906–1918 – Малого театра. Главные роли в фильмах «Каширская старина» (1911), «Анфиса» (1912), «Ключи счастья» (1913), «У камина» (1917), «Позабудь про камин, в нем погасли огни» (1917), «Молчи, грусть, молчи…» (1918) и др.
«Владимир Васильевич Максимов, высокий, стройный, очень элегантный, всегда прекрасно одетый артист, производил чрезвычайно приятное впечатление. Он играл в крупных столичных театрах роли первых любовников, мелодекламировал, прекрасно читал стихи.
Актер очень чистого рисунка, эмоционально он мог окрашивать его только наполовину. Ему, как говорят про певцов, „не хватало верхов“. Экстатических моментов он не мог давать, потому что наполнение чувством никогда не доходило у него „до краев“.
Его чувства „были подстрижены“, по меткому определению А. М. Горького…
Вот эта „подстриженность“ чувств характеризует рассудочно-технический тип актеров, к которому и принадлежал В. В. Максимов.
Когда он приходил на репетиции или на съемку, у него было сделано все, до мельчайшего движения, рассчитаны все шаги и повороты, все выражения лица, соответствующие эмоциям.
Все правильно, гладко, но „подстрижено“. Правдивых, ярких переживаний у Максимова не было» (В. Гардин. Воспоминания).
МАЛЕВИЧ Казимир Северинович
11(23).2.1878 – 15.5.1935
Живописец, театральный художник, прикладник, теоретик искусства. Член объединения «Бубновый валет». Участник выставок «Бубновый валет» (1910), «Ослиный хвост» (1912), «0,10» (1915–1916) и др. Идеолог и практик беспредметной, «супрематической» живописи. Оформлял спектакли «Победа над Солнцем» М. Матюшина (1913), «Мистерия-буфф» В. Маяковского (1919).
«Имя-отчество „Казимир Северинович“ подходило Малевичу. Не только к его не совсем русской внешности и к его совсем не московско-художнической себенаумесдержанности. Но и к особой, также „себенауме“ деловитости его художественных исканий. Появившись на выставке, он взялся самолично их прокомментировать.
Решиться написать черный квадрат на белом фоне стоило ему немалых усилий. Надо было забыть все прежнее, включая и кубизм, и начать сызнова. После квадрата он обратился к сочетаниям простейших геометрических фигур. Сочетания усложнялись, разнообразились. Разнообразилась и их окраска. Так возникал супрематизм.
Квадрат был неправильный: одна сторона чуть-чуть косила. Но Казимир Северинович заверил, что это не простая небрежность. Раз косит, значит, так нужно. Полная точность здесь неуместна. К педантизму Казимир Северинович не был склонен. Он не очень огорчился, обнаружив, что некоторые из его картин повешены вверх ногами или верхом набок. Сохраняя деликатное спокойствие, он заверил, что где верх, низ, бок – это не так уж существенно. Спокойная, хотя и с оттенком некоторой грусти, уверенность художника в правильности избранного им пути – убеждала.
…Малевич демонстрировал также и свои новейшие „архитектоны“, образцы своего рода „объемного супрематизма“. Это были сочетания прямоугольных объемов, аккуратно отлитые в гипсе, беленькие, чистенькие, изящные. Алексей Васильевич Щусев снисходительно отметил, что они могут подсказать кое-какие архитектурные идеи. Казимир Северинович старательно и терпеливо разъяснял, что „архитектона“ – всего лишь композиция стереометрических фигур. Это – вещь ни для чего. Но он не возражает, если его используют как украшение комнаты. Или, соответствующе увеличив, поставят среди площади. Она может послужить постаментом для статуи или монумента. А если на ее верх накакает птичка, то он тоже не будет возражать» (Л. Розенталь. Непримечательные достоверности).
«Раз в Троицком театре читал Малевич Казимир.
Плотный, не очень большого роста, он читал спокойным голосом, говоря невероятные для публики вещи. Перед этим Малевич выставил картину: на красном фоне бело-черные бабы в форме усеченных конусов. Это была сильная, не случайно найденная вещь. Малевич никого не эпатировал, он просто хотел рассказать, в чем дело. Публика хотела смеяться.
Малевич спокойным голосом читал:
– Бездарный пачкун Серов…
Публика зашумела радостно. Малевич поднял глаза и посмотрел спокойно.
– Я никого не дразнил, я так думаю.
И продолжал читать» (В. Шкловский. О Маяковском).
«Малевич приехал почти в готовую оппозицию и почувствовал это быстро; он еще ходил по мастерской Бруни, еще убеждал с тем изумительным напором, который гипнотизирует, заставляя слушать; говорил, как пронзал рапирой, ставя вещи в самые острые ракурсы и мысль кладя на ребро; напирая, отскакивал от собеседника, тряс рукой, короткими, мелко и нервно дрожащими пальцами – словом, еще вел себя великим агитатором супрематического изобретения, но знал уже, как знали уже все мы, что не висеть супрематическому квадрату в квартире № 5 и что супрематизм – пройдет мимо и станет в стороне от нашего прямого и единственного пути через материал к качеству.
Мы, вероятно, не представляли себе в то время достаточно ясно, какое вообще место супрематизм может занять в новом искусстве. Но в самом Малевиче – в этом великолепном агитаторе, проповеднике, ересиархе супрематической веры – и во всем, что он говорил, было тогда столько непреодоленного футуризма, такая тяга к изобретательству за счет качества, что все равно мы чувствовали: супрематизм – это тупик, пустота, прикрытая футуристическим подвигом, пустота изобретения вне материала, холодная пустота рационализма, побежденная миром и поэтому бессильно поднявшая над ним квадрат» (Н. Пунин. Квартира № 5).
«Малевич был хорошим семьянином. Как в искусстве, так и в быту он очень интересный человек: прекрасный собеседник, оригинальный и образно мыслящий, остроумный, живой, простой и с большим самолюбием. Он для жены был даже очень удобный муж: он не входил в распорядок жизни домашней, хотя безотказно выполнял все, что ему велит жена; мел пол, ходил на рынок и так далее; не касался денежных расчетов; в гости ходил редко, и то, куда его поведет жена; отдыхать летом ездил опять-таки, куда его жена повезет.
Вообще в своем домашнем быту он инициативу и полноту власти предоставлял жене. Но только в быту. Что же касается искусства, то не было такой силы, которая могла бы заставить его сойти с раз намеченного пути.
Малевич обладал большим темпераментом и огромной силой воли; он был также тонким политиком в жизни художественной; но материального благополучия создать себе не мог до самой смерти, так как мыслил совершенно самостоятельно, не любил ходить по тому пути, по которому большинство ходит, преклоняться перед тем, перед чем большинство преклоняется. Он всегда неудержимо стремился вперед, к новому, еще неизведанному.
…У Малевича всегда было устремление к какой-то для него непонятной мистике. На мои вопросы в беседах с ним он как-то сказал: „А может быть, я буду патриарх какой-то новой религии?“ Он не был революционером, то есть сторонником какой-либо определенной идеи как в жизни, так и в искусстве. Он был просто бунтарь. Происходило его бунтарство от его темперамента, характера, а также от его тщеславия.
…Он не был очень подвижным, но во всем его облике, особенно в серых умных глазах, в движениях, в разговоре сквозила большая энергия, жизненная сила; он, не владея языком литературно обработанным, говорил и мыслил образно, причем образы его всегда были остроумны, оригинальны и верны. Эта его сила жизненная и энергия делали его всегда бодрым, с интересом всегда относящимся к жизни, и этим он заражал соприкасавшихся с ним лиц. Все апатичные, разочарованные в жизни люди в его присутствии как будто перерождались, молодели, не только примирялись с жизнью, но находили и начинали чувствовать к ней большой интерес, заражались его творческой энергией, его потенциальной силой (надолго ли?). За это его очень любили, искали его общества – кто, конечно, его понимал. А кто не понимал его, те считали его большим чудаком. Художники, художественное мировоззрение которых было противоположно его мировоззрению, ненавидели его и клеветали на него.
Итак, Малевич был очень тщеславен и самолюбив; так же, как некоторые художники, не мог быть вторым членом какой-либо группы, а непременно первым, то есть председателем группы. Если его не выбирают председателем группы, он выходит из нее и организовывает другую группу. Большинство его выступлений стимулировалось не столькожеланием доказать правильность его супрематического мировоззрения и неправильность или отсталость других течений в искусстве, а скорее всего его толкали на это его дух бунтарства и желание быть на виду. А доказать в своих публичных выступлениях, носивших чисто футуристический характер, он никогда ничего не мог» (И. Клюн. Казимир Северинович Малевич).
МАЛЮТИН Сергей Васильевич
22.9(4.10).1859 – 6.12.1937
Живописец, график, театральный художник. В 1900-х оформлял спектакли Московской частной оперы С. Мамонтова. Участник выставок объединения «Союз русских художников», «Мир искусства» и др.
«Малютин – удивительный талант, а в будущем, надеюсь, даже и удивительное явление.
…Отлично помню то впечатление, которое произвели на меня его акварели к пушкинским сказкам, когда он мне впервые в Москве принес их в „Славянский базар“. Красота и новизна колорита была совсем обольстительна; акварели казались кусками каких-то дорогих и редких материй, и притом это были работы русского человека, не только знающего и любящего русскую сказку, но и самого вышедшего из какого-то иного мира, ничего общего не имеющего с той космополитичной художественной средой, к которой принадлежит большинство современных начинающих и процветающих художников.
У Малютина была своя художественная логика и своеобразное отношение к живописным задачам, которое если и можно с чем-нибудь сравнить, то разве с изысканно-наивными взглядами японцев, столь же характерных по колориту. Малютин, конечно, лишь издали напоминал японских мастеров, ибо в его пробивавшемся тогда даровании была большая доза грубости и той тяжеловесности, которая у японцев так счастливо избегнута…Однако, блеснув на минуту и многое пообещав, Малютин вдруг замолк…Декоратора из него не вышло, или, лучше сказать, к театру он как-то не пристроился, для сцены, пожалуй, грубоват; иллюстратор из него тоже не выработался – он по природе был слишком чудной рисовальщик и слишком сложный колорист. Словом, от этого пышавшего талантом мастера остался изнервничавшийся, полубольной человек, не знавший, как и куда применить свои способности.
В этот критический для него момент он познакомился с княгиней Тенишевой, которая не осталась нечувствительной к его изумительному дарованию и пригласила его переехать в свое имение „Талашкино“. Вскоре после этого художник переселился в деревню и тут совершенно возродился, как растение, пересаженное в подходящую и здоровую почву» (С. Дягилев. Несколько слов о С. В. Малютине).
«Руководителем моей мастерской был С. В. Малютин. Тщедушный, маленький, он и был маленьким во всем, кроме таланта. Вначале скромный, податливый, он признавал за мной вкус, опыт, а главное, понимание комфорта, которое в нем совершенно отсутствовало, и потому, когда мы начинали создавать разные вещи домашнего обихода в новом русском стиле, он прислушивался к моим советам и следовал моим указаниям. Сам же он делал вещи совершенно невозможные для жизни – столы с острыми углами, о которые все больно стукались коленями, кресла, которых никто не мог сдвинуть с места, а раз он сделал табурет с крупной рельефной резьбой на сиденье, необыкновенно неудобный. Этот табурет даже сделался знаменитым, и многие просили его фотографию на память как курьез.
Хотя Малютин был неречист, ребята его отлично понимали. „Столбушечки, красочки, вершочки, зайчики“ составляли весь незатейливый обиход его речи. Характер у него был тяжелый. Он решительно нигде и ни с кем не мог ужиться. Болезненная подозрительность, обидчивость и самолюбие не давали ему покоя. Он подозревал всех своих помощников в том, что они заимствуют его рисунки и могут выдать за свои, всегда на кого-то жаловался и всегда считал себя обиженным.
…У Малютина бывали и светлые минуты. Тогда мы с ним дружно беседовали, он угощал меня „красочками“, „столбушечками“, „зайчиками“, „лисаньками“ – это было очень забавно. Пуще всего я боялась его философствований. Это был какой-то сумбур, полное отсутствие логики, некультурность, туман и больше ничего. В сущности, он был очень практичный, хитрый, себе на уме, простой русский мужичок. Я любила его за направление его сказочной фантазии и чудный колорит» (М. Тенишева. Впечатления моей жизни).
МАЛЯВИН Филипп Андреевич
10(22).10.1869– 21.12.1940
Живописец. Ученик И. Репина. Участник выставок Товарищества передвижников, «Мира искусства». Член «Союза русских художников». Живописные полотна «Крестьянская девушка с чулком» (1895), «Старуха» (1898), «Три бабы» (1901–1902), «Баба в желтом» (1903), «Девка» (1903), «Вихрь» (1906) и др. С 1922 – за границей.
«Малявин, открытый В. А. Беклемишевым в Новом Афоне, где молодой послушник, готовясь в монахи, по образцам-шаблонам писал иконы, и взращенный в мастерской И. Е. Репина, проявил необыкновенное дарование в изображении деревенской жизни, в поэтизации русского женского характера. Да и сам Филипп Малявин – по происхождению оренбургский крестьянин, со смелым лицом и простодушными выражениями – был, как говорится, солью земли. Его суждения об искусстве были весьма энергичны. Говорил он просто, ясно, сильно. Малявин – цельная личность, яркий талант» (С. Коненков. Мой век).
«При более близком личном знакомстве с этим человеком, „элементарным“, невероятно примитивные его суждения, ограниченность взглядов, полная некультурность вызывали во мне смущение: мог ли он развернуться вширь, вывезет ли один талант? С гривой волос, хитрыми глазами, грубым голосом и лицом, неглупым и выразительным, этот бывший афонский монах, бросивший монастырь, явно бывший для него неким недоразумением, поражал стихийностью, самобытной мощью заложенного в нем таланта. Малявин со своей мужицкой стихией ворвался, как полевой ветер с запахом ржи, сена и земли, в утонченную, надушенную атмосферу „Мира искусства“, с его рафинированными культурными эстетами, и это поразило и даже многих озадачило. Но все то, что являлось отличительным свойством Малявина и что, благодаря некоей интуиции, импульсивности и огромному темпераменту, обуславливало его временный яркий успех, таило в себе и некий приговор, ибо живопись его, во всяком случае, не выдерживала отсутствия того, что могло бы обеспечить углубленное развитие его творчества и мастерства, словно замершего на известной точке. Не хватило и вкуса, все более и более ему изменявшего. Расцвеченность, краска все более заменяли „цвет“ в живописи Малявина. Сказывался недостаток в смысле понимания колорита и гармонии, столь, увы, часто встречающийся в русской живописи в противоположность французской.
…Как бы то ни было, Малявин, с его „ядреным“ самобытным искусством, занял в русском искусстве немаловажное место, а за радость, которую мне давал его холст „Бабы“, я ему благодарен до сих пор» (С. Щербатов. Художник в ушедшей России).
«Это – „идея“!.. Три… не „крестьянки“, не „русские“, но именно „бабы“ – до такой степени выразительны, что могут поспорить с известными „Богатырями“ Васнецова как символ „святоотечественного“…
…“Три бабы“ Малявина выражают Русь не которого-нибудь века, а всех веков – но выражают ее не картинно, для сложения „былины“, а буднично, на улице, на дворе, у колодца, на базаре, где угодно» (В. Розанов. Среди художников).
«В Петербурге он женился на дочери генерала Савича, от которой имел дочь лет трех. Они приобрели небольшое имение в нескольких верстах от станции Пущино Рязано-Уральской железной дороги. Малявин выстроил здесь деревянный дом с большой прекрасной мастерской, в которой много работал. Когда я приехал, то застал его в мастерской вместе с четырьмя или пятью бабами, разодетыми в цветные сарафаны. Бабы ходили по мастерской, а Малявин быстро зарисовывал их движения в огромный альбом. Он рисовал большими обрубками прессованного мягкого грифеля, которые откуда-то выписал. Чиня грифель в виде острого плоского долотца, он одновременно мог проводить им тончайшие линии и широкие жирные штрихи, сочетая контурную манеру с живописными эффектами светотени. В то время он только начинал рисовать цветными карандашами – прием, впоследствии им доведенный до высокого мастерства.
На мольберте у него стояла законченная большая картина, изображавшая баб, а у стен стояло еще несколько холстов, также с фигурами баб. Зная, что я много возился с технологией красок, он просил меня дать ему какой-нибудь рецепт связующего вещества, поднимающий светосилу и интенсивность цвета, – он собирался сам тереть краски. Ядал ему рецепт, главными составными частями которого были: венецианский терпентин и копаловый лак, предупредив его, что успех зависит от правильности дозировки: слишком большой перевес терпентина может сделать краску почти несохнущей, почему его надо регулировать смолой – копалом, расплавленным в льняном масле.
На этом связующем веществе он стер краски, которыми с того времени стал писать все свои картины. Ими написан и „Вихрь“ в Третьяковской галерее. Неумеренное количество венецианского терпентина, взятое Малявиным в связующем веществе, превратило красочное тесто этой картины в массу, до сих пор не затвердевшую, в жаркие летние дни распускающуюся и даже грозящую прийти в движение. Но яркость красок, их блеск действительно изумительны, оставляя далеко позади яркость простых масляных красок.
Владея хорошо рисунком и чувствуя форму, Малявин позволял себе роскошь таких фокусов и трюков, на которые немногие способны. Так, картина, которая стояла у него на мольберте, – три толстолицые бабы – была начата им без рисунка и без какой-нибудь наметки композиции, прямо красками по чистому холсту, притом с глаза одной из этих баб» (И. Грабарь. Моя жизнь).
«Конечно, Малявин не тот путь, по которому пойдет искусство будущего, он не пророк, он даже не завтрашний день, у него нет ключей от тайн, он, так же как и Цорн, Сарджент или Больдини, есть заключительный аккорд красивой, но уже сыгранной мелодии, и все-таки в нем есть богатство пестрой осени, стихийная игра красками» (С. Дягилев. Выставка «Союза русских художников» в Москве).
МАМИН-СИБИРЯК Дмитрий Наркисович

наст. фам. Мамин;
25.10(6.11).1852 – 2(15).11.1912
Прозаик. Публикации в журналах «Сын Отечества», «Кругозор», «Дело», «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Северный вестник» и др. Романы «Приваловские миллионы» (М., 1897, 1902), «Горное гнездо» (М., 1890), «Дикое счастье» (СПб., 1896), «Именинник» (М., 1902), «Три конца. Уральская летопись» (СПб., 1895, 1909), «Золото» (М., 1895), «Весенние грозы» (М., 1895), «Без названия» (М., 1902) и др. Сборники рассказов «Уральские рассказы» (т. 1–2, М., 1988–1889; 3-е изд., т. 1–3, СПб., 1899), «Детские тени» (М., 1894, 1901), «Ноктюрны» (СПб., 1899), «Золотая муха» (М., 1903), «Аленушкины сказки» (СПб., 1896; 16-е изд., М., 1917).
«Впервые я встретился с ним в конце девяностых годов на редакционных вечеринках „Детского чтения“ в кружке Тихомировых, где он обычно, как близкий человек, останавливался и гостил, когда приезжал из Петербурга. Как раз в это время начались печатанием в „Детском чтении“ его рассказы, полные сердечности и тихого легкого юмора, составившие впоследствии прекрасные книжки для детей под общим названием „Аленушкины сказки“ и „Светлячки“.
Много раз и немало лет встречал я Мамина на этих субботниках и никогда не замечал, чтобы он был не в духе. Напротив, всегда приветливый и сдержанно веселый, он любил рассказывать о всяких людях, о встречах с ними, о разных пустяках и курьезах, и рассказы его бывали всегда забавны, остроумны и талантливы. Не любил он говорить только о своих литературных делах и держал себя так, как будто он был кем-то иным, но только не писателем.
Во время ужина Мамин не садился обыкновенно в почетные углы, к знаменитостям, возле хозяина, а предпочитал быть среди простых смертных; хотя его всегда пытались перетащить на видное место, но он не шел. Зато перед ним, в виде особого исключения, ставилось пиво, которое никому, кроме Мамина, не подавалось, так как считалось напитком низменным, а Мамин его любил и выпивал немало, хотя и говорил в шутку, что „из-за него, окаянного, я всю свою красоту прежнюю потерял“.
Всегда спокойный и в меру шутливый, с большими черными красивыми глазами, с непослушной прической седеющих волос и с неизменной, неразлучной трубочкой в руках или в зубах, Дмитрий Наркисович производил впечатление беспечального россиянина, прожившего недурно две трети жизни и очень спокойного за оставшуюся треть.
Он был уже автором многих романов – преимущественно из уральской приисковой жизни, – печатавшихся в лучших журналах того времени. Правильно и метко говорил о нем наш общий друг С. Я. Елпатьевский: „Мамин – это уральский человек. Он весь полностью от Урала – обликом, ухваткой, чувствованием, думанием. В нем многое от мглистых еловых лесов и бело-радостных березок, от горных вершин и угрюмых скал, от всей уральской жизни, от людей и зверя, от старых преданий…“
Произведения его читались с большой охотой: одни интересовались интригой и разнообразием действия, другие – характерными типами, иные – природой, бытом и этнографией. Непонятно, почему о других, менее заслуживающих внимания, писали, кричали, возводили их на недолговременные пьедесталы, а Мамин оставался как бы в тени. Эта несправедливость чувствовалась им, но он не показывал даже вида, что ему иногда больно.
…Родился Мамин в 1852 году и умер в 1912; стало быть, прожил шестьдесят лет на свете. Не вспомню, это ли шестидесятилетие или иная причина или дата, но что-то вдруг подтолкнуло людей, заставило их позаботиться исправить многолетние ошибки и признать Мамина большим писателем, устроить ему общественное чествование и поднести ему торжественное звание „почетного академика“. А когда собрались объявить ему об этом избрании, он лежал уже без памяти на смертном одре и через несколько дней умер, так и не услыхав того, что над ним прочитали. Так и не дождался он давно и вполне заслуженного» (Н. Телешов. Записки писателя).