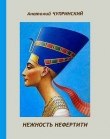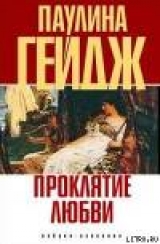
Текст книги "Проклятие любви"
Автор книги: Паулина Гейдж
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
Затем внезапно окружающие предметы приобрели четкие очертания и цвет, и она осознала, что лежит на своем ложе, повернув голову к окну, на котором тихо колышутся от ветра жесткие папирусовые занавеси. Она с усилием перекатила голову по подушке и увидела, что Хайя улыбается, склонившись над ней.
– Говори, – удалось прошептать ей.
– У тебя сын, императрица. Но ты потеряла много крови и пять суток бродила в мире теней.
Она была слишком слаба, чтобы испытывать хоть какие-то чувства.
– Воды, – прошептала она одними губами. – Мой муж…
Он щелкнул пальцами, и появилась Пиха, осторожно приподняла ей голову и поднесла чашу к ее губам. Теплое молоко, смешанное с бычьей кровью, просочилось в горло. Я прошла обряд очищения, – подумала она, попробовав его. – Я чиста.
– Фараону отправили сообщение, – продолжал Хайя. – На днях можешь ожидать посыльного с выбранным именем. Ребенок здоровенький, хотя такой же измученный, как и ты. Я нашел для него кормилицу. Принести его?
Она слегка качнула головой в знак отказа. Она уже погружалась в здоровый сон. Ребенок не так важен, как прощение Амона. Ей оставили жизнь. Это было помилование.
В следующем году, десятом году правления Эхнатона, Нефертити снова родила девочку, Нефер-неферу-Ра. Течение времени и победа в состязании смягчили неприязнь Тейе к племяннице. Она могла даже сочувствовать женщине, которая страстно желала родить царственного сына, однако рожала только девочек. Ей было интересно, что последние три года сделали с царицей, ослабело ли тугое, безупречное тело от постоянного вынашивания детей, и прочертили ли обманутые надежды линии раздражительности на гладком лице. Однако у нее не было желания встречаться ни с Нефертити, ни с сыном. Она сидела на крыше своих покоев под балдахином, безразлично глядя за реку, на дрожавшие в горячем воздухе очертания Фив, приходящих в упадок, уже понимая, но еще не беспокоясь о том, что живет в искусственном мире, в обители, существовавшей только для нее, как капля воды в ладони. Будто она попала в безвременье мертвых, чьи гробницы теснились в пустыне вокруг Малкатты. Подобно им, она была недвижна, глядя, как время медленно разрушает и изменяет все вокруг, пока она остается неизменной. Только Сменхара и малыш тонкой нитью связывали ее с будущим – будущим, к которому у нее не было интереса.
После рождения сына Тейе поправлялась медленно, и скоро она начала осознавать, что никогда не обретет прежней силы. Понимание этого не огорчило ее, и через некоторое время она уже могла ходить по дворцу и саду, есть, обсуждать с управителями дела – всего лишь насущные проблемы ее маленького мирка, зная, что усталость, заставляющая ее каждый вечер рано отправляться ко сну, останется с ней до конца жизни. Врачеватель готовил ей укрепляющие снадобья, прописал ежедневный массаж, и эти средства помогали, но дни ее деятельной власти миновали. Тутанхатон, как отец повелел назвать его, был здоровым и рос под присмотром кормилицы и слуг. Эхнатон регулярно посылал депеши, интересуясь его благополучием и упорно намекая, чтобы Тейе привезла его на север, но Тейе придумывала различные отговорки, чтобы не ехать.
С раздражением, приправленным мрачным юмором, она наблюдала, как сама становится суетливой старой вдовой: жаловалась, если утром ей не так нарезали фрукты, раздраженно покрикивала на слуг, если те недостаточно усердно выполняли свои обязанности, огорчалась, если покрывало на постели было откинуто небрежно. Прекрасно зная свою натуру, она понимала, что ей недостает свежего, бодрящего дуновения мужского общества. Хайю и своих управителей она не рассматривала как мужчин, потому что это были слуги, которые приближались к ней с почти женским подобострастием. Поэтому она приказала, чтобы уроки Сменхары проходили в ее присутствии, и день ото дня стремилась подольше побыть в его обществе, надеясь, что его расцветающая мужественность уравновесит ее досадное старение. Распознав глубокую потребность матери в его дружбе, он был неожиданно добр к ней, отвечал на ее вопросы с небрежной жизнерадостностью, которой она так жаждала. Но его разум пока еще отдыхал. Сменхара в свои одиннадцать лет не мог рассуждать, как зрелый мужчина.
В конце года она получила письмо от Эхнатона. Она сидела в кресле у широких ступеней, что вели в залу для общественных приемов, глядя, как слуги собираются вокруг фонтанов перед дворцом, и слушала письмо, стиль которого, после высокопарных приветствий, стал сумбурно неформальным, оживив в памяти голос сына. «Это неправильно, что мать солнца живет, уединившись, во дворце, принадлежащем старым временам тьмы, – писал он. – Семья Атона должна быть вместе. С тебя, дорогая Тейе, началось движение Египта к истине, однако твоя сила скрыта в тени Амона. Священная красота наполняет Ахетатон, как божественное сияние, но, как и прежде, когда ты была вдовой, и мое ложе еще не знало твоего божественного тела, сияние это слабее без тебя. Приди, заклинаю, чтобы снова дать мне силу. Я строю три магических навеса в великом храме Атона, один для себя, другой для тебя, и еще один – для моей дочери Бекетатон, которую нежно люблю, чтобы, встав под ними, мы могли возродить свое могущество. Я не могу приказывать той, которая произвела на свет само солнце, но я умоляю ее услышать мои слова и хорошо их обдумать».
Вряд ли это идея Эйе, – сообразила Тейе, когда писец свернул свиток и отложил его в сторону. – Эйе написал бы мне сам, если бы считал, что мне нужно приехать. Эхнатон чувствует угрозу, но откуда? Боится за свое здоровье, его снова тревожат видения? Более вероятно, что он понимает, что его царица не подарит ему сына, и хочет, чтобы Тутанхатон был рядом с ним.
– Что дальше? – бросила она.
Писец потянулся за следующим свитком.
– Есть еще послание от носителя опахала по правую руку.
– Читай.
Может быть, Эйе объяснит, что хотел сказать своим письмом его хозяин. Тейе откинулась назад, готовясь, как всегда, защищаться от волны ностальгии, которую приносили слова Эйе.
Писец перескочил официальное приветствие.
– «Насколько я могу понять, в Нухаше[44]44
Нухаше – город в северной Сирии.
[Закрыть] произошло восстание против их вождя, Угарита. Он призывал на помощь Суппилулиумаса. Мне очень трудно выяснить правду. В палате Туту всегда беспорядок, а сам он – невежественный подхалим, который, однако, очень усерден до всяческих религиозных обрядов. Я пробовал выспросить у кого-нибудь из его помощников, но Туту ревностно охраняет свои исключительные права писца внешних сношений. Если то, что я узнал, правда, не может быть сомнений, что Суппилулиумас ответил на призыв Угарита».
Тейе стиснула зубы. Нухаше находился так близко, что его правители всегда были союзниками Египта, и множество соглашений было подписано и скреплено брачными союзами за долгие годы. Тот факт, что Угарит не обратился за помощью к фараону, чтобы усмирить волнения своего народа, лучше всего подтверждает нарастающее бессилие Эхнатона и Египта. Суппилулиумас может послать солдат, и, когда уляжется пыль, он будет ближе, чем когда-либо прежде, к непосредственным границам Египта. Давно Тейе не размышляла в категориях империи. Теперь под угрозой был и сам Египет.
– Приготовься писать к царевичу Суппилулиумасу, – устало сказала Тейе.
Она понимала, что это не намного улучшит ситуацию, потому как Суппилулиумас, конечно, отдает себе отчет, как мало. У нее осталось власти, но, по крайней мере, это послужит ему напоминанием, что хоть кто-то в Египте следит за его действиями зоркими очами, в которые ему не удалось напустить пыли своей ложью.
Она также написала и фараону, ее слова были резкими, и, несмотря на то, что из донесений ее людей в разных частях Египта складывалась совершенно ясная картина, она требовала ответа на вопрос, почему он не предпринял немедленных действий против своих врагов. Она обвиняла Туту в искажении информации, но воздерживалась расценивать его поведение как предательство. Внутренний голос предупредил ее, что, если она не предъявит свои обвинения лично, Туту постарается опровергнуть ее, и она потеряет и ту малую толику доверия, которой еще располагала. Она не стала упоминать Эйе, не желая давать его врагам возможность представить их переписку как измену фараону. На составление письма у нее ушел целый день, она зачеркивала и правила его, пока не осталась довольна. Наконец закончив, она прилегла и тут ощутила, как сильно тоскует по сыну. Несмотря на свои нападки на бедного Туту, она знала, что, для того чтобы распутать сложный клубок дипломатической ситуации в стране, нужна гениальность сына Хапу. У Египта больше не было таких людей. Разве что Эйе, опытный и хорошо знающий старую систему правления, но он теперь был связан по рукам и ногам теми, кто больше не жил в реальном мире, чьи суждения были подчинены искаженной атмосфере фантазий и видений фараона. Может быть, это всего лишь скоропреходящая буря, вихрь пустыни, от которой можно закрыть лица и спрятаться в ближайшем укрытии, – думала Тейе. – Да будет воля богов на то, чтобы она утихла сама собой! Тогда мы выберемся из заносов, отряхнемся, омоем песок и пыль, подведем глаза и встанем снова. Если только мы сможем выдержать, Сменхара взойдет на трон и империя будет восстановлена. Еще не все потеряно. О, Эхнатон, сын мой! Хапу был прав. Тебе следовало умереть. Ты не убил своего отца, но ты разрушаешь все, что он создал своим божественным величием. Может быть, не стоит препятствовать желанию сердца Сменхары и отправить его в Ахетатон с остальными детьми, а самой уехать в Джаруху. Там я всегда была счастлива. Я не буду скучать по детям. Они – тоже часть той магии, которой я так и не сумела овладеть, они ~ мои тщетно произнесенные заклинания. От таких мыслей хотелось выпить вина и погрузиться в блаженное оцепенение. Вино приносило сон, однако рассвет и новое пробуждение не рассеивали ее обреченности.
Со временем желание перестать изображать, будто она еще что-то значит, все усиливалось. Наконец она принялась строить планы оставить Малкатту шакалам в новом году и обосноваться в Джарухе как раз к началу сева. Она могла уехать немедленно, таким образом, избежав самого пика летней жары, но где-то глубоко у нее таилась смутная мысль о последнем испытании, о том, что следует терпеть день за днем почти невыносимое пекло как искупление за последние десять лет своей жизни. Боги не требовали от нее такого испытания. Жертвоприношения никогда не совершались ради искупления, только как мольба или благодарение, но Тейе знала, что хочет облегчения ради себя самой, не ради богов.
Медленно текли дни знойного месяца мезори, она тяжело дышала в редкой тени деревьев, часто окуналась в озеро, ее разум был таким же вялым и разбитым свирепостью Ра, как и ее тело. Однажды среди дня она лежала в своей опочивальне, пытаясь уснуть, ее опухшие глаза были устремлены на полоски белого света между планками оконных занавесей, когда Хайя попросил позволения войти. Она безразлично смотрела, как он приближается, полный, когда-то красивый мужчина, которого теперь часто мучила одышка и беспокоили боли в суставах. Он остановился, поклонился, и она позволила ему говорить.
– Прошу прощения, что нарушаю твой покой, богиня, – начал он, – но из Ахетатона прибыла твоя племянница и желает, чтобы ее приняли незамедлительно.
У Тейе оборвалось сердце, она села.
– Племянница? Которая из них, болван?
– Царевна Мутноджимет. Я проводил ее в твою приемную и приказал подать ей холодной воды.
– Скажи, что я уже иду. Пиха! Подай просторное платье и причеши меня.
Это одиночество заставило Тейе вскочить от счастья при мысли снова увидеть девушку, и только в галерее, под белыми страусовыми перьями опахал, которые несли за ней слуги, она задумалась, что могло привести Мутноджимет собственной персоной в Малкатту.
Стражники открыли дверь залы, и Тейе вошла. В дальнем конце залы, где колонны разделяли поток белого раскаленного света, льющегося на пол, как расплавленный металл, прислонившись к стене, стояла Мутноджимет, карлики шумно возились у ее ног, ее четкий профиль казался черным на фоне слепящей яркости полдня. Услышав, как вестник выкликает титулы Тейе, она повернулась и, щелкнув хлыстом по головам карликов так, что те взвыли и выскочили в сад, зашагала навстречу тетушке.
Цветущая женственность сквозила в каждом исполненном сладостной неги движении длинных ног, свободном покачивании рук, увешанных браслетами. Знакомое лицо было озарено томной чувственностью. Тяжелые веки Мутноджимет были смазаны маслом и посыпаны золотой пудрой. Глаза, в темной глубине которых всегда таилась искра насмешки, были жирно обведены черной краской. Серьги из золота с розовато-лиловым оттенком, характерным для митаннийской ковки, свисали от мочек ушей к смуглым лопаткам, и на тонкой золотой цепи, обвитой вокруг обритой наголо головы и пропущенной под детским локоном, на лбу был подвешен золотой диск. Она не надела ожерелья, но на обеих щиколотках позвякивали браслеты. На ней было алого цвета платье с многочисленными складками, опоясанное золотым кушаком, завязанное на одном плече и оставлявшее открытым другое плечо и грудь, сосок которой был обведен золотой краской. Когда Мутноджимет опустилась на колени, целуя ее ноги, Тейе мельком взглянула за колонны и увидела свиту племянницы – разряженную, блестящую группу молодых мужчин и женщин в колышущихся одеждах и сверкающих украшениях, их лица были густо покрыты краской для защиты от солнца. Мутноджимет поднялась, дожидаясь, пока Тейе заговорит.
– Я вяжу, у тебя новый хлыст, – начала Тейе, вдруг растеряв все слова. Ей хотелось с нежностью обнять Мутноджимет, но вместо этого она лишь едва коснулась ее выкрашенной желтым щеки.
Мутноджимет кивнула.
– Белая бычья кожа, серебряная рукоять, – нараспев протянула она. – Не из кожи белого быка, конечно, крашеный Старый мне больше нравился, но тот совсем истрепался. Рада видеть тебя, тетушка.
Что-то заставило Тейе спросить:
– Как я выгляжу? – но она тотчас пожалела о минутной слабости.
Мутноджимет раздумывала, склонив голову набок.
– Лучше, чем я ожидала, после таких тяжелых родов. Я знаю, это было давным-давно, но все в Ахетатоне были обеспокоены твоим здоровьем, все время жадно ждали вестей из Малкатты.
– Не верю!
Ей всегда казалось, что те, кто оставил дворец, переехав в новый город, так же оставили и свои воспоминания, но слова Мутноджимет убеждали ее, что это не так.
– Это правда. Когда нам сообщили, что ты родила, но, скорее всего, умрешь, фараон заставлял нас всех часами стоять во дворе храма Атона, пока сам молился внутри, а потом он долго был болен.
– Но он не приехал. Несмотря на всю свою озабоченность, он не приехал.
– Нет. – Мутноджимет взглянула ей в глаза. – Он не приехал. Весь город пропах царицей, как благовониями. Ее запах стоит у нас в ноздрях день и ночь. Если мы не падаем ниц перед Атоном, мы молимся ей.
Тейе вгляделась в лицо племянницы, ища в нем признаки сарказма, приглушенного из соображений благоразумия, и нашла то, что искала.
– А мой брат? Как он?
– Он постарел, но здоров, как всегда.
– Как твой муж?
Мутноджимет заколебалась.
– Хоремхеб могуществен и пользуется огромной милостью. В том смысле, в котором ты спрашиваешь, моя богиня, у него все хорошо.
– Вот и славно. У нас еще будет время обсудить семейные дела. Как же я изголодалась без новостей! Как матушка?
– Я не слишком часто вижу Тии. Она не бывает при дворе. Но она довольна поместьем, которое Эйе выстроил для нее.
– А ты, Мутноджимет? Ты, как всегда, прекрасна!
– Я знаю. – Мутноджимет рассмеялась. – Я сделалась объектом желания всех молодых придворных. Разве это не скучно? Хоремхеб смеется, но мне не смешно. Я утомилась от жаркого шепота и жадных рук на праздниках фараона. Меня тянет к прежним друзьям, к мужчинам, с которыми спала прежде, к женщинам, с которыми делилась секретами в прошлом. Мне двадцать восемь, тетушка. Молодежь начинает раздражать меня.
– Остепенившаяся Мутноджимет? Это невозможно!
Мутноджимет расхохоталась.
– Конечно, нет. Но я не хочу начинать все сначала. Видишь это платье? Одна грудь обнажена, такое милое дразнящее одеяние. В Ахетатоне подобные вещи вызывают бешенство. Там всюду притворство, трепет ресниц, глупое кокетство. Двор моего дядюшки здесь, в Малкатте, может быть, был в какой-то мере развращенным, но это была открытая, честная порочность. Беспутный образ жизни Ахетатона – лишь жалкое подобие.
Ты всегда была проницательна, – подумала Тейе, – но никогда не произносила вслух того, что думала.
– Ты приехала сюда оттого, что тебе стало скучно? – мягко спросила она.
Мутноджимет покачала головой. Громко хлопнув в ладоши, она позвала:
– Хой!
Подбежал один из ее слуг с маленьким сундучком. По сигналу Мутноджимет он поставил его на ступеньку трона и, кланяясь, попятился.
– Будь добра, отпусти свою свиту, тетушка, – попросила Мутноджимет. – Это только для твоих глаз.
Тейе немедленно исполнила просьбу, и женщины встали, глядя друг на друга в ожидании, когда уйдут слуги. Наконец дверь закрылась, и они остались одни. Мутноджимет, колеблясь, положила руку на крышку сундучка.
– Ты должна понимать, что для меня это не представляет интереса, – спокойно начала она. – Но тебя это может расстроить. Если нет, я вернусь в Ахетатон и сочту нашу договоренность расторгнутой. Хотя ты очень хорошо обошлась со мной, императрица! Если да, муж мой наказал передать тебе, что ты можешь рассчитывать на него.
– Понимаю.
Тейе с любопытством смотрела, как племянница приподняла крышку и вытащила из-под нее то, что оказалось маленькой скульптурной группой из нескольких обезьян. На первый взгляд в этом не было ничего особенного. В Египте было много младших богов в образе обезьяны, и бабуины считались священными животными. Мутноджимет взяла статуэтку в руки.
– Это особенно дорогой образчик, сделанный из алебастра и тщательно раскрашенный, но копий с него предостаточно по всему Ахетатону, самых разных – побольше и поменьше, из дерева и из камня, или из глины – для бедняков. Они продаются в каждой лавке. – Не дожидаясь позволения, Мутноджимет повернулась и присела на ступеньку трона.
Тейе склонилась над фигурками. Это были четыре разных обезьяны. Самая большая стояла на полусогнутых ногах позади остальных, ее груди свисали, толстые ноги были широко расставлены. Однако это была не самка, а самец, потому что из-под толстого живота у фигурки виднелся непропорционально огромный пенис. Хвост самца вился между ног и сворачивался между ногами самки, которая стояла на коленях рядом с ним, ухватившись обеими руками за пенис. Толстые губы самца вытянулись в сторону маленькой обезьянки, стоящей слева, а рука ее обвилась вокруг шеи малышки, покоясь на ее груди. Другая рука большой обезьяны была просунута между ног маленькой обезьянки справа. Половые органы всех животных были выкрашены ярко-красным, уши, огромные глаза, хвосты и шерсть – серым. Вся композиция говорила о кричащей непристойной похотливости, но не это заставило Тейе, тихо вскрикнув, отшвырнуть ее. Самая большая обезьяна была увенчана двойной короной, нахлобученной на ее торчащие уши, а следующая по размеру обезьяна – высоким конусообразным шлемом. Мутноджимет наклонилась и быстро подняла ее, потом бросила обратно в сундучок и захлопнула крышку.
– Никто не знает, кто это вырезал, – сказала она. – Но даже до того, как она появилась, уже ходили слухи о том, что фараон спаривается со своими мартышками, о том, что он проводит ночи с царицей и обеими старшими дочерьми одновременно. При дворе всегда ходило много шуток, но это нечто иное. Здесь чувствуется злоба. Фараон окончательно утратил уважение граждан Ахетатона, и скоро такие вещи – она кивнула на сундучок, – можно будет найти по всему Египту. В Фивах они будут пользоваться особым спросом.
Тейе сглотнула и, ошеломленная, присела рядом с Мутноджимет. Руки у нее дрожали.
– А что говорит фараон? Он рассержен, он стыдится…
– Фараон не испытывает ни того ни другого, – спокойно ответила Мутноджимет. – Он улыбается. Он говорит, что его люди только начинают понимать истинную любовь, и когда они поймут, статуэтки исчезнут. Однако царица вне себя от гнева. Она запретила скульптуру, но, конечно, простой народ не обращает внимания на ее запреты. Ей следовало с самого начала пренебречь этим.
– Да, – прошептала Тейе.
Нефертити всегда не хватало интуиции, так необходимой правителю. Ее любовь и ненависть всегда были слишком нарочитыми, слишком явными. Однако Тейе никогда еще не жалела ее больше, чем теперь. Нефертити и ее беззащитного, безрассудного мужа – бога Египта.
– Это из-за того, что они показаны в обнимку на Бенбене в храме Атона? – спросила она.
– Отчасти. В конце концов, фараон и царица ведут себя не как боги, которым следует поклоняться. Но это также и оттого, что они пожелали показать себя перед своими подданными как семья, поглощенная только друг другом и своей любовью. Прости меня, императрица. Говорить так о фараоне – богохульство, однако я подумала, что ты захочешь узнать, а мой осведомитель не смог бы передать тебе всю извращенность ситуации. Дело ведь не только в этих фигурках. Люди громко приветствуют его на улицах, и хотя в их приветствиях звучит насмешка, он не слышит ее. Хоремхеб…
Тейе подняла руку.
– Хватит, – спокойно сказала она. – Поужинай со мной сегодня, когда я отдохну и подумаю. А сейчас оставь меня, Мутноджимет.
Молодая женщина покорно поднялась, низко поклонилась и, покачивая бедрами, пошла к выходу. Я не приказала, чтобы для нее приготовили покои, – подумала Тейе. – Но, вероятно, она откроет дом Эйе. Хлыст извивался белой змейкой, волочась за босыми пятками, и Тейе, как зачарованная, смотрела на него. Еще долгое время после того, как Мутноджимет ушла, она не могла оторвать взгляда от пола. Наконец она вызвала Пиху и направилась к себе.
Ярость раскаленного солнца немного поутихла, но было очень душно. Тейе приказала приготовить ванну, а потом попыталась уснуть, но в ушах у нее звучал голос Мутноджимет, а перед глазами стояло видение уродливых красных гениталий, и от этого всего сердце отказывалось биться ровно. Но я хотела уехать домой, в Джаруху! – молчаливо протестовала она. – Я приняла решение! Я ничего не могу сделать, я слишком стара, уже слишком поздно. Она с болью вспоминала прохладное, заросшее лилиями озеро перед синими колоннами ее портика там, на ласковом севере, влажный воздух. Я скучаю по матери, по отцу, – думала она и, когда уже больше не могла себя сдерживать, тихо заплакала. – На этот раз я скучаю не по тебе, Осирис Аменхотеп. Я скучаю по безопасности в сильных руках Иуйи, по улыбке, с которой Туйя будила меня каждое утро. О, постой! – выругала она себя. – Нет ничего более смешного и жалкого, чем стареющая женщина в слезах. Пусть они оскверняют ложе, которое устроили для себя сами. Я поеду домой! Но она уже знала, что больше никогда не увидит Джаруху.
В сумерках она сидела на помосте большой залы, Мутноджимет устроилась рядом с ней, их управители и слуги расположились внизу вокруг низких, уставленных цветами столиков. Тейе приказала, чтобы в зале было много света, и золотое пламя сотен факелов и ламп нервно плясало на сквозняках между высокими колоннами. Рабы, выносившие подносы, вереницей подходили к специальным слугам, пробовавшим каждое блюдо, и направлялись дальше, к позолоченному столу; слуги время от времени склонялись, чтобы наполнить чаши вином. Возле помоста сидели музыканты, создавая завесу из звуков, за которыми разговор двух женщин был не слышен гостям. Между столиками кружились танцовщицы. Тейе пыталась положить что-нибудь в рот, но ее тошнило от одного вида обильной еды, и, в конце концов, она просто глядела, как Мутноджимет поглощает поднесенные кушанья. Проглотив очередной огромный кусок, племянница бросала взгляд на царевича Сменхару, сидевшего у подножия помоста вместе с Бекетатон, и Тейе улыбалась про себя, несмотря на сумятицу в мыслях. Мутноджимет была вовсе не столь политически нейтральной, как притворялась. Или, скорее всего, ситуация в Ахетатоне была настолько серьезной, что каждый там мог прослыть подающим надежды оракулом. Когда с едой было покончено и началось то небольшое представление, какое удалось организовать Тейе, она поманила Мутноджимет.
– Кто послал тебя ко мне с этой омерзительной штукой? Хоремхеб или отец?
Мутноджимет сделала знак, и слуга отодвинул низенький столик. Удовлетворенно вздохнув, она откинулась на подушки.
– Я и забыла, какой вкусной может быть говядина, когда бог не пялится с укором через плечо. Нам при дворе не запрещено есть мясо, но сам фараон, конечно, не прикоснется к нему. Отвечу на твой вопрос, богиня. Я здесь по собственному желанию. Хотя Эйе и Хоремхеб одобрили его. Им нужна твоя помощь. Они не могли сказать тебе об этом в своих посланиях, и действительно, едва ли можно говорить о таких вещах, ведь в городе полно доносчиков, людей, которые надеются заронить слушок в уши фараону и обрести его благосклонность. Брату моему легко внушить любую мысль, если она подана на языке обожания и поклонения Атону.
Каждое слово Мутноджимет пронзало сердце Тейе, на мгновение она возненавидела и своего брата, и Хоремхеба, и всех лизоблюдов, которые пытались втереться в доверие и вызвать к себе теплые чувства, тогда как их сердца оставались холодными. Безразличная честность Мутноджимет была бесконечно предпочтительнее.
– Тогда скажи мне, чего же ждут от меня главный носитель опахала и могущественный военачальник.
Мутноджимет ухмыльнулась ее насмешливо-язвительному тону.
– Они хотят, чтобы ты поселилась в Ахетатоне, где могла бы видеть фараона каждый день и придавать весомость их советам. Самая насущная проблема – это соседние государства. Туту говорит фараону одно, мой муж другое, и фараон колеблется, потому что он просто не способен поверить в людское вероломство.
– Нефертити сделает все возможное, чтобы выставить меня в дурном свете, возможно, даже попытается убить. Туту всегда таил обиду на меня. Мутноджимет, я устала. Для меня это равносильно тому, чтобы забраться в гнездо с гадюками, единственное желание которых – видеть мою смерть. Кроме того, мне пришлось бы сражаться со стаей льстецов, которые незамедлительно соберутся вокруг Сменхары. У меня не будет друзей, не будет никого, кому я смогла бы доверять. – Она замолчала, потрясенная картиной будущего, которую сама же нарисовала.
Острая боль в животе, которая всегда одолевала ее в минуты сильного волнения или усталости, подступила без предупреждения, и она задержала дыхание, пока спазм не прошел.
– Тогда поезжай в Джаруху и жди, когда боги призовут тебя, – тихо сказала Мутноджимет. – Я всегда любила тебя. Но пойми меня правильно. Я говорю тебе о своей любви не для того, чтобы ты приняла мои слова за предложение активной поддержки в том случае, если ты решишься приехать в Ахетатон. Я слишком хорошо себя знаю. Я всего лишь хочу видеть тебя счастливой. Ты заслужила право на отдых.
– Я не была счастлива с тех самых пор, как умер Осирис Аменхотеп Прославленный, – просто ответила Тейе. – Смогу ли я наслаждаться покоем в Джарухе после всего, что услышала от тебя? Думаю, нет. Я родила фараона на свет, и, похоже, я теперь должна защитить от него этот свет и его от света, если смогу. Как, должно быть, веселится сын Хапу!
– Так ты приедешь?
Вопрос рассердил Тейе. Боль пронзила ее снова, и она почувствовала, как по спине побежал пот.
– Конечно, приеду! – выдавила она. – Как же я смогу отказаться от такого трудного дела?
Мутноджимет задумчиво потягивала вино, медленно скользя взглядом по шумной зале. Сменхара хлопал в такт музыке, не сводя глаз с обнаженных танцовщиц. Бекетатон шлепнулась на подушки лицом вниз и быстро уснула. Женщины гарема, раскрасневшиеся от вина и возбужденные неожиданным развлечением, скрасившим их тоскливое существование, хихикали и повизгивали. Все было сказано. Тейе поднялась. Воцарилась тишина. Гости пали ниц перед ней. Вестник схватил свой жезл и бросился вперед, и вместе с Пихой и Хайей она покинула залу, стараясь идти прямо, невзирая на боль, пока не добралась до уединения своих покоев. Бросившись на ложе, она послала за врачевателем. Тейе лежала в ожидании, подтянув колени к груди и сжав кулаки, мышцы сводило от боли и гнева на судьбу.
На следующий день Мутноджимет отплыла в Ахетатон. Днем Тейе продиктовала письмо для фараона, потом послала за Сменхарой. На этот раз он явился сразу, его худенькие бедра облегала свободная юбка, ноги были в песке, и на них еще поблескивали капли озерной воды. Он поклонился матери, небрежно поцеловал протянутую руку и поднял на нее взволнованный взгляд.
– Мы едем в Ахетатон, правда, матушка?
– Да, откуда ты знаешь?
– Слуги только об этом и шепчутся весь день. Когда мы отправляемся? Не могу поверить, что снова увижу Мериатон. Благодарю тебя, матушка.
– Думаю, ты будешь скучать по Малкатте, когда поживешь немного в новом городе фараона, – спокойно сказала Тейе. – Здесь ты наслаждался свободой, которой тебе никогда не доведется испытать. Но у тебя есть еще несколько месяцев, чтобы наслаждаться ею. Мы отправимся, когда река поднимется до высшей отметки. Иди, расскажи Бекетатон.
Она хотела порадоваться вместе с ним, но поняла, что неохотно принимает его благодарность и возбуждение. Она заметила, что его глаза вмиг потухли. Он поджал губы, небрежно поклонился ей и вышел. Он вдруг стал олицетворять для нее ответственность, которая уже давила ей на плечи тяжким грузом.