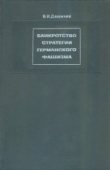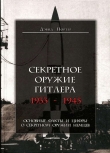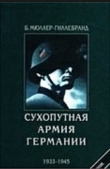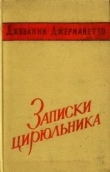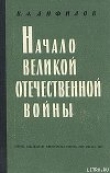Текст книги "Двенадцать лет борьбы против фашизма и войны"
Автор книги: Отто Винцер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
В этой связи следует вспомнить цифровые данные о росте промышленности в главных капиталистических странах, приведенные И. В. Сталиным в Отчетном докладе XVIII съезду ВКП(б) в марте 1939 года. Объем промышленной продукции в различных странах в процентах к уровню 1929 года (1929 год принят за 100) за период с 1934 по 1938 год изменялся следующим образом: в США в течение этих лет он составлял соответственно 66,4; затем поднялся до 75,6; 88,1; 92,2 и, наконец, вновь опустился до 72,0; во Франции он составлял 71,0, затем опустился до 67,4, поднялся до 79,3, затем – до 82,8 и в последнем году этого периода вновь опустился до 70,0. Примерно такую же картину являло собой экономическое развитие Англии и Италии. Не может быть никакого сомнения в том, что в 1938 году капиталистический мир вползал в новый экономический кризис, не успев еще оправиться от предыдущего.
В Германии, напротив, объем промышленной продукции в процентах к уровню 1929 года в период с 1934 по 1938 год изменялся иначе и определялся в течение этих лет соответственно следующими цифровыми показателями: 79,8; 94,0; 106,3; 117,2 и, наконец, 125,0. Комментируя эти цифры, Сталин указывал, что в Германии, которая позже Италии и Японии перестроила свою экономику на военный лад, промышленность пока еще (на начало 1939 года) переживает состояние некоторого, правда, небольшого, но все же движения вверх. Однако тут же он подчеркивал, что, если не случится чего-либо непредвиденного, промышленность Германии должна будет встать на тот же путь движения вниз, на который уже встали Япония и Италия{2}. Таким "непредвиденным" обстоятельством явилась война. Бесспорно, что страх перед начинавшимся экономическим кризисом, который нельзя было остановить даже переводом экономики на военные рельсы, был одной из причин, побудивших Гитлера и стоявших за ним магнатов монополистического капитала как можно скорее ввергнуть Германию в авантюру второй мировой войны. Война вполне отвечала тем целям, которые монополии ставили перед собой, допустив Гитлера к власти в Германии.
Необычайно тяжелые последствия мирового экономического кризиса укрепили решимость господствующих сил германского монополистического капитала избавиться от последних ограничений и запретов Версальской системы и второй раз попытаться силой оружия установить свое безраздельное господство в Европе и во всем мире. Это проявилось с достаточной ясностью уже в июне 1933 года на мировой экономической конференции в Лондоне. Гугенберг, гитлеровский министр экономики, выступил на конференции в Лондоне с меморандумом, в котором предлагалось осуществить ряд мероприятий, направленных якобы на преодоление экономического кризиса. Гугенберг потребовал урегулировать вопрос о международных долгах, вернуть Германии ее африканские колонии и предоставить немцам "как народу, лишенному жизненного пространства", новые земли на Востоке, которые эта "полная энергии раса" могла бы заселить и освоить. Меморандум Гугенберга представлял собой попытку придать международный характер той борьбе на уничтожение, которая велась в самой Германии против коммунистов. Вся мировая пресса восприняла выступление Гугенберга именно как призыв к крестовому походу против Советского Союза. Выдвигая пресловутый лозунг "Дранг нах Остен" ("натиск на Восток") и рекламируя себя в качестве застрельщика и ударной силы антисоветского фронта, гитлеровское правительство рассчитывало заручиться согласием других империалистических держав на возрождение германского милитаризма.
Советское правительство уже на этой мировой экономической конференции решительно выступило против агрессивных устремлений Германии. Не ограничившись этим, оно направило германскому правительству ноту протеста против выступления Гугенберга. Статс-секретарь Бюлов заявил тогда от имени германского правительства, что планы колонизации, о которых говорилось в меморандуме Гугенберга, не распространяются на территорию Советского Союза и что сам меморандум не дает Советскому правительству оснований для такого истолкования.
Однако весь дальнейший ход событий показал, что, выступая в Лондоне, Гугенберг, по сути дела, провозгласил программу фашистского германского империализма, хотя, быть может, и сделал это слишком рано. Первым же своим выступлением на международной конференции гитлеровское правительство показало, что оно намерено любой ценой, даже путем новой мировой войны, добиться передела мира в пользу германских империалистов.
Сначала, впрочем, шовинистическая пропаганда и подготовка к борьбе за первенство в Европе и во всем мире проводилась еще под лозунгом так называемого "равноправия". Этим лозунгом гитлеровское правительство оперировало на конференции по разоружению. В его ноте от 6 октября 1933 года, направленной правительствам Англии и Италии, говорилось: "Германия желает либо получить полную свободу, либо подвергнуться таким ограничениям, которые были бы одинаковы для всех других государств".
Лозунг "равноправия" был, следовательно, призывом к вооружению, он означал право подготовки к новой мировой войне. Германский империализм, возродившийся после второй мировой войны, ничуть не изменился в этом отношении. Для правящих кругов Западной Германии и их вдохновителей "суверенитет" и "равноправие" есть не что иное, как право вооружаться и готовить новую войну. Необходимо своевременно раскрыть эту преемственность агрессивной политики германского империализма, какой бы личиной она ни прикрывалась.
14 октября 1933 года гитлеровское правительство объявило о том, что оно покидает конференцию по разоружению и выходит из Лиги Наций. Выход гитлеровской Германии из Лиги Наций явился началом нового этапа как во внешней политике самой Германии, так и в международных отношениях вообще. Всему миру стало ясно, что гитлеровский рейх планомерно готовит второй поход ради установления мирового господства германского империализма. Реакционные силы германского финансового капитала видели в этом единственный приемлемый для них выход из кризиса.
Коммунистическая партия Германии – организатор борьбы масс против установления нацистской диктатуры
Германский финансовый капитал в союзе с милитаристскими кругами юнкерства поставил гитлеровцев у власти с целью осуществления своей империалистической программы подавления всех революционных и свободолюбивых сил внутри страны и подготовки захватнической войны. Для политической, обстановки в стране в 1932 году была характерна поляризация сил – борьба между революционными силами, с одной стороны, и реакционными, фашистскими силами – с другой. Если принять результаты выборов в качестве критерия, то вплоть довыборов в рейхстаг в июле 1932 года на стороне фашистов было постоянно возраставшее преимущество. Однако во второй половине 1932 года наметился перелом в пользу революционных сил. На выборах 6 ноября ,1932 года нацисты потеряли около 2-миллионов голосов. Количество голосов, полученных компартией, напротив, возросло на 700 тысяч, а общее число поданных за коммунистическую партию голосов составило около 6 миллионов. Количество же голосов, поданных за социал-демократическую партию Германии, сократилось. Но эта потеря была возмещена ростом количества голосов, полученных КПГ.
Но не результаты выборов являлись решающим фактором в этой борьбе. Антифашистская кампания, начатая и проводимая Коммунистической партией Германии, находила все более широкий отклик у рабочих – социал-демократов, а также у организованных в профсоюзы рабочих. Все чаще выступали совместно коммунисты, социал-демократы и беспартийные рабочие. Правые же социал-демократические лидеры отклоняли все предложения Коммунистической партии Германии об установлении единого фронта. Более того, многие из них, занимая в Веймарской республике посты даже полицей-президентов, брали под свою защиту штурмовые отряды нацистской партии. Но, несмотря на это, рабочие, действуя сообща, добивались значительных успехов в борьбе против фашистского террора. Крупная забастовка рабочих-транспортников в Берлине показала вместе с тем, что, несмотря на массовую безработицу, такие забастовки, направленные против снижения жизненного уровня рабочих, вполне осуществимы. Одновременно с этим в деревне росло сопротивление крестьян, боровшихся против конфискации имущества за неуплату налогов и против принудительных распродаж.
Все эти явления побуждали реакционные силы монополистического капитала и юнкерства стремиться к установлению своего неограниченного господства и насильственному подавлению революционных сил. Нельзя считать случайным то обстоятельство, что предварительные переговоры, в результате которых было решено свергнуть правительство Шлейхера и провозгласить Гитлера рейхсканцлером, состоялись 5 января 1933 года в загородной вилле кельнского банкира Курта фон Шредера и что, кроме Шредера, в этих переговорах приняли участие Тиссен, Папен и Гитлер. Не случайно также и то, что фон Папен добился от президента Гинденбурга отставки правительства Шлейхера, сославшись на то, что Шлейхер якобы намеревался вмешаться в скандальное дело о так называемой "Восточной помощи", то есть выступить против выплаты крупным прусским землевладельцам (юнкерам) значительных сумм из налоговых поступлений. По существу, здесь действовали главные движущие силы фашистской диктатуры – наиболее реакционные круги германского финансового капитала в союзе с юнкерским милитаризмом. Представители этих кругов действовали за кулисами, подготавливая приход Гитлера к власти.
Однако было бы упрощением считать, что развитие гитлеровской диктатуры было определено заранее во всех подробностях. Это, разумеется, было не так. Бесспорно, существовали известные разногласия в вопросе о том, в каких формах и какими методами должно осуществляться неограниченное господство монополистического капитала. Таковы были разногласия между нацистами и немецко-национальной партией, а также между этими двумя партиями и партией католического центра. После образования гитлеровского правительства 30 января 1933 года Гугенберг, Папен и "фюрер" "Стального шлема" Зелдте полагали, что они теперь смогут использовать в своих целях широкие круги сторонников нацистской партии и при этом оказывать решающее влияние на новое правительство. Поэтому в самом правительстве в первые недели его существования выявились определенные разногласия, отражавшие разные интересы различных групп банковского капитала, тяжелой индустрии и крупных аграриев. Являясь партией наиболее реакционной и наиболее враждебной рабочему классу части империалистической буржуазии, гитлеровская партия стремилась к единоличному господству во вновь созданном правительстве, так называемом правительстве национальной концентрации, и требовала безоговорочного подчинения со стороны других его членов. Для достижения этой цели Гитлер немедленно распустил рейхстаг и назначил новые выборы на 5 марта 1933 года. Гитлер хотел с самого начала устранить, возможность какого-либо контроля за его действиями со стороны рейхстага, во время выборов которого б ноября 1932 года он потерпел тяжелое поражение. С помощью государственного аппарата, ограбления государственной казны, с помощью миллионных подачек, предоставленных ему финансовым капиталом, Гитлер намеревался провести выборы в обстановке террора, обеспечив при этом нацистской партии большинство и образовав таким путем парламент, который находился бы в полной зависимости от него. Одновременно путем кровавого, беспощадного террора фашисты стремились разгромить рабочее движение и прежде всего уничтожить коммунистическую партию.
В этой связи необходимо вспомнить характеристику создавшегося положения, данную Эрнстом Тельманом в его выступлении на пленуме ЦК Коммунистической партии Германии, состоявшемся нелегально в Цомтене 7 февраля 1933 года. Тельман охарактеризовал правительство Гитлера Гугенберга – Папена как правительство открытой фашистской диктатуры, готовящее войну против Советского Союза. Это налагало на каждого коммуниста высокую ответственность, какой не было прежде в истории Коммунистической партии Германии. Одновременно Эрнст Тельман указывал, что в методах этого правительства открытой фашистской диктатуры заложены все возрастающие возможности усиления террора" и всякий, кто будет сомневаться в том, "что это правительство не остановится перед любыми методами самого жестокого террора, подвергнет партию серьезной опасности" (курсив мой. – О. В.). "Буржуазия, – говорил Тельман, – полна решимости разгромить партию, разгромить весь авангард рабочего класса"{3}.
Весь дальнейший ход событий полностью подтвердил правильность этого предостережения, сделанного Эрнстом Тельманом. Из этой оценки вытекала настоятельная необходимость применения всех средств массовой борьбы в целях свержения гитлеровского режима, прежде чем он успеет укрепиться. ЦК Коммунистической партии Германии сразу же после прихода Гитлера к власти призвал к массовым стачкам и к применению других форм массовой борьбы против гитлеровской диктатуры. ЦК КПГ обратился с призывом об установлении единого фронта к социал-демократической партии, к Всеобщему объединению немецких профсоюзов, к Всеобщей конфедерации служащих, а также к христианским профсоюзам, предлагая им совместно с коммунистами объявить всеобщую стачку. Это предложение полностью соответствовало требованиям момента. Осуществление его привело бы, по всей вероятности, к успеху, то есть к свержению только что созданного гитлеровского правительства. Мы располагаем в настоящее время документами, которые ясно подтверждают правильность такой точки зрения.
Согласно записи совещания членов кабинета в рейхсканцелярии 30 января 1933 года в 5 часов пополудни, Гитлер опасался, что "предполагаемое запрещение коммунистической партии вызовет тяжелые внутреннеполитические осложнения, а возможно, и всеобщую стачку, В экономике, бесспорно, необходимо полное спокойствие. Но на вопрос о том, что представляет большую опасность для экономики: неуверенность и тревога в случае новых выборов или всеобщая стачка, – по его мнению, следует ответить, что всеобщая стачка гораздо опасней"{4} (курсив мой. – О. В.).
В той же записи говорится далее: "Рейхсминистр иностранных дел изучил вопрос о том, что следует предпочесть с внешнеполитической точки зрения: роспуск ли КПГ, который, вероятно, вызовет всеобщую стачку, или новые выборы в рейхстаг. Он пришел к выводу, что роспуск КПГ и всеобщая стачка, которая может последовать вслед за этим, представляют гораздо большую опасность"{5} (курсив мой. – О. В.).
Геринг пытался рассеять эти опасения ссылкой на то, что, по имеющимся данным, "социал-демократическая партия в настоящий момент не примет участия во всеобщей стачке". И действительно, правые лидеры социал-демократической партии и Всеобщего объединения немецких профсоюзов отвергли предложение ЦК КПГ об установлении единого фронта. Более того, в своем воззвании от 31 января правление социал-демократической партии заявило: "Мы ведем свою борьбу в рамках конституции и намерены защищать всеми средствами политические и социальные права народа от любых посягательств. Необходимо сохранять полную боевую готовность для этой решающей борьбы".
Это была пресловутая политика выжидания, осуществлявшая на практике лозунг Зольмана и других правых социал-демократических лидеров, которые проповедовали, что можно допустить Гитлера к власти, так как это приведет к его провалу. Призывая массы выжидать и обрекая их тем самым на бездеятельность, правые социал-демократические лидеры обрекали на гибель от рук фашистов даже своих собственных сторонников, оставляя их беззащитными в обстановке кровавого террора штурмовиков и эсэсовцев. Именно правым лидерам социал-демократии и Всеобщего объединения немецких профсоюзов Гитлер обязан тем, что его вновь созданному правительству не пришлось столкнуться с массовыми забастовками или даже со всеобщей стачкой. Учитывая, что лагерь буржуазии раздирали противоречия, которые проявлялись и внутри гитлеровского правительства, можно с уверенностью сказать, что такие действия масс предотвратили бы окончательный захват Гитлером власти и не дали бы фашистскому режиму возможность укрепиться. Вместо всего этого социал-демократическая партия в своем предвыборном воззвании от 3 февраля призвала массы бороться с фашизмом лишь путем избирательных бюллетеней, что вполне соответствовало желаниям Гитлера и Геринга.
В то время как правые социал-демократические и профсоюзные лидеры делали все возможное, чтобы парализовать волю масс к борьбе, террор фашистских банд – штурмовиков и эсэсовцев – усиливался, причем он был направлен не только против коммунистов, но и против социал-демократов, профсоюзных активистов и рейхсбаннеровцев{6}. В результате во многих городах и районах страны стало расти число совместных выступлений против фашистского террора. В отдельных случаях имели место и совместно проводимые забастовки. Эрнст Тельман указывал в своем выступлении от 7 февраля, что партия добилась несомненного успеха в мобилизации масс на демонстрации протеста и активную борьбу против фашистского террора. Но основной задачей было по-прежнему установление единства действий рабочего класса. Только оно могло привести к мощным объединенным стачкам в главных отраслях промышленности и на крупнейших предприятиях. 10 февраля во время похорон трех убитых нацистами молодых рабочих-коммунистов состоялся грандиозный митинг. Один из этих рабочих был убит в момент, когда он спешил на помощь группе рейхсбаннеровцев, подвергшихся нападению гитлеровцев. Выступая на этом митинге, товарищ Пик заявил: "Нам пора, наконец, принять решение об организации единого классового фронта для защиты рабочих масс! Протянем же друг другу руки и воздвигнем железную стену борцов против буржуазии, против всех врагов рабочего класса... Пора перестать успокаивать себя разговорами о том, что мы можем одолеть наших врагов каким-то иным путем, отказавшись от борьбы. Ждать больше нельзя! Каждый день приносит новые жертвы: Неужели рабочие обречены на нищету и на гибель?"
Вильгельм Пик заключил свою взволнованную речь следующими словами: "Товарищи рейхсбаннеровцы! Социал-демократы! Братья по классу! Над могилами павших борцов мы, коммунисты, протягиваем вам братскую руку. Не отталкивайте ее. В нашем единстве залог нашей будущей победы над всеми нашими врагами".
Стремясь вопреки всем препятствиям установить единство действий рабочего класса перед лицом фашистской опасности, Эрнст Тельман обратился 27 февраля с открытым письмом к рабочим – социал-демократам, к членам свободных и христианских профсоюзов и к рейхсбаннеровцам. В письме указывалось не только на серьезность создавшегося положения, но и раскрывались большие возможности успеха, которые таит в себе совместная борьба всех рабочих, к которой неустанно призывает Коммунистическая партия Германии. Эрнст Тельман писал: "Так же как и 20 июля прошлого года, КПГ в связи с приходом Гитлера к власти обращается теперь, 30 января сего года, к социал-демократам, к Всеобщему объединению немецких профсоюзов, к Всеобщей конфедерации служащих и к христианским профсоюзам с предложением о совместной борьбе. Ваши руководители отклонили это предложение.
От имени сотен тысяч членов коммунистической партии, от имени более чем б миллионов рабочих, работниц и заводской молодежи, оказавших на последних выборах в рейхстаг доверие коммунистической партии и отдавших ей свои голоса, я протягиваю всем вам, членам и функционерам социал-демократической партии, свободных профсоюзов и миллионам беспартийных рабочих, братскую руку для совместной борьбы против фашизма. Подлые фашистские убийцы, вооруженные ножами, пистолетами и бомбами, нападая на рабочих, не обращают внимания на то, какой членский билет рабочие носят в кармане, и не делают различия между коммунистами, социал-демократами и членами христианских профсоюзов. В борьбе антифашистов за свободу принадлежность к различным партиям не должна быть препятствием для совместных действий, для совместной, борьбы...
Если мы, рабочие, работницы и заводская молодежь, чьими руками создаются все ценности, будем бороться совместно плечом к плечу, то мы будем непобедимы. Если мы будем бороться совместно, то нам удастся вовлечь в единый фронт освободительной борьбы миллионные массы крестьян-бедняков, служащих, чиновников, мелкой буржуазии городов.
Мы призываем вас обсудить в своих организациях это предложение Коммунистической партии Германии об установлении единого фронта. Обсудите вместе с коммунистами, вашими братьями по классу, меры, необходимые для нашей борьбы. Организовывайте вместе с коммунистами группы самообороны. Рабочие на предприятиях, безработные на биржах труда, объединяйтесь в единый фронт! Создавайте вместе с нами представительные органы для руководства борьбой масс в едином пролетарском фронте. В них товарищи и братья по классу – коммунисты и социал-демократы, христиане и атеисты, организованные и неорганизованные рабочие – будут в тесном сотрудничестве организовывать нашу совместную борьбу"{7}.
Но социал-демократические лидеры отвергли предложение КПГ об установлении единого фронта, несмотря на то, что число жертв фашистского террора среди социал-демократов, профсоюзных активистов и рейхсбаннеровцев все возрастало. Они все еще надеялись, что Гитлер будет соблюдать Веймарскую конституцию, и с помощью такого рода аргументов удерживали рабочих от борьбы, что в данной обстановке было равносильно самоубийству.
Несмотря на то, что коммунистическая пресса была запрещена, а собрания и демонстрации компартии разгонялись силой, коммунисты продолжали мобилизовывать широкие массы своих сторонников на участие в предвыборной борьбе. Эрнст Тельман, выступая на пленуме ЦК КПГ 7 февраля 1933-года, потребовал проявлять максимальную активность в проведении предвыборной кампании и разоблачать перед массами гитлеровское правительство, олицетворяющее режим фашистского террора, капиталистической эксплуатации и империалистической войны, разоблачать это правительство капиталистов и крупных землевладельцев. При этом следовало предостеречь массы от всякого рода парламентских и легалистских иллюзий и мобилизовать массы на борьбу против фашистской диктатуры непарламентскими методами. Благодаря бесстрашной борьбе коммунистов, разнообразию форм и методов этой борьбы уже спустя 14 дней после образования гитлеровского правительства стало ясно, что ему не удастся добиться существенных изменений в результатах выборов по сравнению с предыдущими выборами 6 ноября 1932 года. Именно поэтому Фрик, один из нацистских главарей, заявил в своей речи 19 февраля в Дрездене: "Если даже на выборах 5 марта правительство не получит необходимого большинства... то мы и в этом случае не откажемся от наших мер по ограждению безопасности германского народа. Мы не намерены добровольно оставить поле боя. От запрещения КПГ, которого мы неоднократно требовали ранее, следует теперь отказаться. Компартию надо подавить иными методами".
Существо этих "иных методов" заключалось в подготовке грандиозной провокации, которая должна была послужить поводом для жесточайшего, ничем не ограниченного террора против коммунистов. Усиливая свою лживую агитацию против "большевистской опасности", нацистские заправилы рассчитывали одновременно оттеснить на второй план своего партнера по коалиции немецко-национальную партию.
23 февраля Геринг организовал полицейский налет на Карл Либкнехт-хауз в Берлине{8}, затем фашисты стали распространять по всему миру дикие вымыслы о мнимых планах восстания, катакомбах, якобы имеющихся внутри Карл Либкнехтхауза, и других антибольшевистских "ужасах".
На следующий же день, 24 февраля, Геринг издал указ о создании вспомогательной полиции из отрядов штурмовиков и эсэсовцев.
26 февраля нацистский гаулейтер Саксонии Мучманн, выступая на митинге в Глахау-Альбертштале, заявил: "Нужна Варфоломеевская ночь! Без этого не обойтись. Национал-социалисты будут наготове. Никакой жалости! Сентиментальность неуместна!"
27 февраля отряды СА получили приказ находиться в состоянии боевой готовности в своих казармах. В подвалах были оборудованы тюремные камеры, а также камеры пыток, снабженные плетками, стальными прутьями, веревками, чанами с водой и бутылками с касторовым маслом.
Вслед за этой тщательной подготовкой 27 февраля вечером последовала грандиозная провокация – так называемый поджог рейхстага. Из дворца рейхспрезидента, которым в то время был Геринг, группа специально подобранных видных нацистов проникла в рейхстаг по подземному ходу и подожгла здание. На месте преступления поджигателями был специально оставлен в качестве подставного лица голландец, дегенерат Ван дер Люббе. Почти все видные руководители штурмовых отрядов, принимавшие участие в поджоге рейхстага, были впоследствии в разное время уничтожены Гитлером, Герингом и Геббельсом как неудобные, слишком много знающие сообщники.
Поджог рейхстага был представлен фашистами как начало мнимого коммунистического восстания и был использован ими как повод для массовых арестов коммунистов. В одном только Берлине в ночь на 28 февраля было арестовано 1500 человек, а по всей стране арестовали более 10 тысяч коммунистов. Волна дикого террора прокатилась по всей Германии. Началась бешеная погромная травля коммунистической партии. Гитлер, основываясь на параграфе 48 Веймарской конституции, добился от президента Гинденбурга подписания чрезвычайного декрета, который, по сути дела, ликвидировал самую конституцию и все гарантируемые ею права. Таким путем Гитлер стремился узаконить дикий террор, бесчинства и насилия, чудовищные пытки и убийства.
Во время массовых арестов фашистские изверги схватили 3 марта 1933 года и Эрнста Тельмана. Это был тяжелый удар, нанесенный партии в исключительно серьезной обстановке. Партия лишилась своего лучшего, наиболее стойкого и целеустремленного руководителя. Но в этот ответственный момент партия показала себя достойной своего вождя. -7 февраля на пленуме ЦК в заключительной части своей речи Тельман указывал партии: "Нужно неуклонно держать курс на сохранение партии и ее развитие вопреки террору и всем ударам фашистов!
Необходимо проводить политику единого фронта для мобилизации масс на борьбу!
Необходима также концентрация всех сил для организации сопротивления масс, для борьбы масс. Демонстрации, забастовки, массовые стачки и, наконец, всеобщая стачка – все эти формы массовой борьбы должны быть противопоставлены фашистской диктатуре!
Нужно держать твердый курс на ликвидацию всех парламентских иллюзий, на подготовку масс к внепарламентской, массовой борьбе!
Надо всячески способствовать развитию инициативы самих масс, развитию самостоятельности, активности внутри низовых парторганизаций и в руководящих органах!
Претворение всего этого в жизнь означает поражение и разгром фашистской диктатуры! Вперед, на борьбу! Выполним свой революционный долг во имя победы германского рабочего класса и всего трудового народа!"{9}.
Партия продолжала борьбу в духе этих указаний Тельмана.
Несмотря на террор и бешеную травлю, несмотря на то, что десятки тысяч лучших партийных функционеров и рядовых коммунистов были арестованы и подвергнуты чудовищным пыткам в застенках СА, а сотни из них убиты, коммунистическая партия добилась большого успеха на выборах 5 марта 1933 года, получив 4848 тысяч голосов. Если прибавить к этому многочисленные демонстрации, забастовки и вооруженные столкновения, то следует прийти к выводу, что уже в этот первый период гитлеровского господства Коммунистическая партия Германии была единственной, действительно борющейся силой, стойкой и последовательной противницей фашизма. Попытка гитлеровского фашизма уничтожить, истребить коммунистическую партию одним мощным ударом, путем массового террора потерпела неудачу.
Результаты выборов 5 марта 1933 года еще и в другом отношении не оправдали ожиданий гитлеровцев: социал-демократическая партия потеряла лишь небольшое количество голосов, а количество голосов, поданных за партию католического центра и немецко-национальную партию, даже несколько увеличилось. В общем за нацистов голосовало 17,7 миллиона человек, а за все остальные партии, вместе взятые, – 21,5 миллиона. Эти результаты имеют немаловажное значение для правильного освещения позорной капитуляции перед нацистской диктатурой партий, именовавших себя "демократическими". Для того чтобы наскрести большинство в две трети голосов в рейхстаге для принятия закона о чрезвычайных полномочиях{10}, Гитлер отнял у коммунистической партии 81 мандат, полученный ею на выборах 5 марта. Он арестовал коммунистических депутатов и 9 марта объявил их мандаты недействительными. После этого незаконного аннулирования значительного числа мандатов рейхстаг, разумеется, не являлся больше органом народного представительства, избранным конституционным путем. Оставаясь даже на позициях буржуазного парламентаризма, партия центра, германская демократическая партия и социал-демократическая партия имели полную возможность сорвать все попытки Гитлера придать своему правительству хотя бы видимость законности. Так называемым демократическим партиям было, в сущности, достаточно лишь опубликовать соответствующее совместное заявление об антиконституционном характере нового рейхстага и отказаться от участия в нем. Это, конечно, не привело бы еще к падению гитлеровского правительства, но лишило бы его возможности вводить в заблуждение народные массы утверждением о якобы "законном приходе к власти", что, в свою очередь, облегчило бы мобилизацию масс на борьбу против фашистской диктатуры. Но названные выше партии были далеки уже и от такой даже с точки зрения буржуазного парламентаризма вполне оправданной позиции.
Правое крыло партии католического центра, представлявшее интересы магнатов тяжелой индустрии, стремилось прежде всего оказать поддержку гитлеровскому правительству и даже не помышляло как-либо воспрепятствовать ему и тем более не собиралось порицать его за кровавый террор против рабочего движения. На заседании рейхстага 23 марта лидер фракции центра прелат Каас заявил под аплодисменты нацистских депутатов: "В этот час, когда грозовые тучи собираются над Германией и окружают ее со всех сторон, мы, партия центра, во имя спасения германской нации, во имя ее процветания протягиваем руку всем, в том числе и нашим прежним противникам"{11}.
Вслед за тем фракция центра в полном составе голосовала за предоставление Гитлеру чрезвычайных полномочий. В эту фракцию входил тогда целый ряд нынешних сподвижников Аденауэра, а именно: Якоб Кайзер, доктор Генрих Фокель, доктор Генрих Кроне, доктор Елена Вебер, Пауль Бауш, Пауль Гибберт и другие. Если выступление прелата Кааса, рассчитанное на германскую и мировую общественность, носило еще довольно туманный характер, то Аденауэр откровенно выразил истинные взгляды того крыла партии центра, которое выражало интересы магнатов тяжелой индустрии. На заседании кельнского муниципалитета фракция центра, политическим лидером которой был обер-бургомистр Кельна Аденауэр, выступила 30 марта 1933 года с заявлением, в котором говорилось: "Мы ни в коем случае не должны препятствовать правительству, призванному к власти господином рейхспрезидентом и образованному в ходе успешной национальной революции. Такое сопротивление могло бы привести к серьезным и непредвиденным последствиям. Учитывая сложившуюся обстановку, следует создать для этого правительства возможно более широкую базу, на которую оно могло бы опереться.