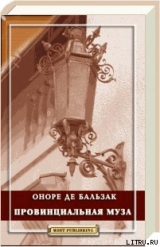
Текст книги "Провинциальная муза"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Этим вступлением Лусто зачеркивал всю карту Страны Нежности, где истинные страсти идут таким длинным обходным путем: он шел прямо к цели и как бы разрешал г-же де ла Бодрэ принести ему в дар свою благосклонность, которой женщины заставляют добиваться годами, – свидетелем тому бедный прокурор: для него наивысшая милость состояла в позволении во время прогулки немного крепче прижать руку Дины к своему сердцу – о счастье! И г-жа де ла Бодрэ, чтобы не уронить своей славы выдающейся женщины, попробовала утешить этого газетного Манфреда,[37]37
…утешить этого газетного Манфреда… – Манфред – герой одноименной драматической поэмы Байрона.
[Закрыть] предсказав ему такую любовь в будущем, о какой он и не мечтал.
– Вы искали наслаждения, но еще не любили, – сказала она. – Верьте мне, очень часто истинная любовь приходит как бы наперекор всей жизни. Вспомните господина Генца, влюбившегося на старости лет в Фанни Эльслер и пренебрегшего Июльской революцией ради репетиций этой танцовщицы!..
– Вряд ли это для меня осуществимо, – ответил Лусто. – Я верю в любовь, но в женщин уже не верю… Видимо, во мне есть недостатки, которые мешают меня любить, потому что меня часто бросали. А может быть, я слишком глубоко чувствую идеал… как все, кто насмотрелся житейской пошлости…
Наконец-то г-жа де ла Бодрэ слышала человека, который, попав в среду самых блестящих умов Парижа, вынес оттуда смелые аксиомы, почти наивную развращенность, передовые убеждения и если и не был человеком возвышенным, то прекрасно эту возвышенность разыгрывал. Этьен имел у Дины успех театральной премьеры. Сансерская Пакита упивалась бурями Парижа, воздухом Парижа. В обществе Этьена и Бьяншона она провела один из приятнейших дней своей жизни; парижане рассказали ей пропасть любопытных анекдотов о модных знаменитостях, острот, которые войдут когда-нибудь в собрание черт нашего века, словечек и фактов, затасканных в Париже, но совершенно новых для нее. Само собой разумеется, Лусто отозвался очень дурно о великой женщине – беррийской знаменитости, но с явным намерением польстить г-же де ла Бодрэ и навести ее на литературные признания, изобразив эту писательницу ее соперницей. Такая похвала опьянила г-жу де ла Бодрэ, и г-ну де Кланьи, податному инспектору и Гатьену показалось, что она стала с Этьеном ласковее, чем была накануне. Теперь поклонники Дины очень пожалели, что все они уехали в Сансер, где раструбили о вечере в Анзи. Послушать их, так ничего более остроумного никогда и не говорилось; часы летели так незаметно, что не слышно было их легкой поступи. Обоих парижан они расписали, как два чуда.
Этот трезвон похвал разнесся по всему гулянью и привел к тому, что вечером в замок Анзи прикатило шестнадцать человек: одни в семейных кабриолетах, другие в шарабанах, холостяки на наемных лошадях. Часов около семи все эти провинциалы более или менее развязно вошли в огромную гостиную Анзи, которую Дина, предупрежденная об этом нашествии, ярко осветила и, сняв с прекрасной мебели серые чехлы, показала во всем блеске, ибо этот вечер она считала своим праздником. Лусто, Бьяншон и Дина лукаво переглядывались, посматривая на позы и слушая речи гостей, которых заманило сюда любопытство. Сколько поблекших лент, наследственных кружев, искусственных, но не искусно сделанных цветов отважно торчало на позапрошлогодних чепцах! Жена председателя суда Буаруж, родня Бьяншону, обменялась с доктором несколькими словами и получила у него бесплатный врачебный совет, пожаловавшись на якобы нервные боли в желудке, которые Бьяншон признал периодическим несварением желудка.
– Пейте попросту чай ежедневно, через час после обеда, как это делают англичане, и вы поправитесь, ибо то, чем вы страдаете, – болезнь английская, – серьезно ответил Бьяншон на ее жалобы.
– Это решительно великий врач, – сказала жена председателя, снова усаживаясь подле г-жи де Кланьи, г-жи Попино-Шандье и г-жи Горжю, супруги мэра.
Прикрывшись веером, г-жа де Кланьи заметила:
– Говорят, Дина вызвала его вовсе не ради выборов, а для того, чтобы узнать причину своего бесплодия…
В первую же благоприятную минуту Лусто представил ученого доктора как единственно возможного кандидата на будущих выборах. Но Бьяншон, к великому удовольствию нового супрефекта, высказался в том смысле, что считает почти невозможным оставить науку ради политики.
– Только врачи без клиентуры, – сказал он, – могут дать согласие баллотироваться. Поэтому выбирайте людей государственных, мыслителей, лиц, чьи знания универсальны, притом умеющих подняться на ту высоту, на которой должен стоять законодатель: вот чего не хватает нашим палатам депутатов и что нужно нашей стране!
Две-три девицы, несколько молодых людей и дамы так разглядывали Лусто, будто он был фокусник.
– Господин Гатьен Буаруж утверждает, что господин Лусто зарабатывает своими писаниями двадцать тысяч франков в год, – сказала жена мэра г-же де Кланьи. – Вы этому верите?
– Неужто? А прокурор получает всего тысячу!..
– Господин Гатьен! – обратилась к нему г-жа Шандье. – Попросите же господина Лусто говорить погромче, я его еще не слышала…
– Какие красивые у него ботинки, – сказала мадемуазель Шандье брату, – и как блестят!
– Подумаешь! Просто лакированные.
– Почему у тебя нет таких?
Лусто наконец почувствовал, что слишком уж рисуется; он заметил в поведении сансерцев признаки того нетерпеливого любопытства, которое привело их сюда. «Чем бы их ошарашить?» – подумал он.
В эту минуту так называемый камердинер г-на де ла Бодрэ, одетый в ливрею работник с фермы, принес письма, газеты и подал пакет корректур, который Лусто тут же отдал Бьяншону, так как г-жа де ла Бодрэ, увидав пакет, форма и упаковка которого имели типографский вид, воскликнула:
– Как! Литература преследует вас даже здесь?
– Не литература, – ответил он, – а журнал, который должен выйти через десять дней, – я заканчиваю для него рассказ. Я уехал сюда под дамокловым мечом короткой строчки: «Окончание в следующем номере» – и должен был дать типографщику свой адрес. Ах, дорого обходится хлеб, который продают нам спекулянты печатной бумагой! Я вам опишу потом любопытную породу издателей газет.
– Когда же начнется разговор? – обратилась наконец к Дине г-жа де Кланьи, точно спрашивая: «В котором часу зажгут фейерверк?»
– А я думала, – сказала г-жа Попино-Шандье своей кузине, г-же Буаруж, – что будут рассказывать истории.
В этот момент, когда среди сансерцев, как в нетерпеливом партере, уже начинался ропот, Лусто увидел, что Бьяншон размечтался над оберткой его корректур.
– Что с тобой? – спросил Этьен.
– Представь себе, на листах, в которые обернуты твои корректуры, – прелестнейший в мире роман. На, читай: «Олимпия, или Римская месть».
– Посмотрим, – сказал Лусто и, взяв обрывок оттиска, который протянул ему доктор, прочел вслух следующее:
204
ОЛИМПИЯ,
пещеру. Ринальдо, возмущенный трусостью своих товарищей, которые были храбрецами только в открытом поле, а войти в Рим не отваживались, бросил на них презрительный взгляд.
– Так я один? – сказал он им.
Казалось, он погрузился в раздумье, затем продолжал:
– Вы негодяи! Пойду один и один захвачу эту богатую добычу!.. Решено!.. Прощайте.
– Атаман!.. – сказал Ламберти. – А что, если вас ждет неудача и вы попадетесь?..
– Меня хранит бог! – отвечал Ринальдо, указывая на небо. С этими словами он вышел и встретил на дороге управителя Браччиано
– Страница кончена, – сказал Лусто, которого все слушали с благоговением.
– Он читает нам свое произведение; – шепнул Гатьен сыну г-жи Попино-Шандье.
– С первых же слов ясно, милостивые государыни, – продолжал журналист, пользуясь случаем подурачить сансерцев, – что разбойники находятся в пещере. Какую небрежность проявляли тогда романисты к деталям, которые теперь так пристально и так долго изучаются якобы для передачи местного колорита! Ведь если воры в пещере, то вместо: «указывая на небо», следовало сказать: «указывая на свод». Однако, несмотря на эту погрешность, Ринальдо кажется мне человеком решительным, и его обращение к богу пахнет Италией. В этом романе есть намек на местный колорит… Черт возьми! Разбойники, пещера, этот предусмотрительный Ламберти… Тут целый водевиль на одной странице! Прибавьте к этим основным элементам любовную интрижку, молоденькую крестьяночку с затейливой прической, в короткой юбочке и сотню мерзких куплетов… и – боже мой! – публика валом повалит! Потом Ринальдо… Как это имя подходит Лафону! Если б ему черные баки, обтянутые панталоны, да плащ, да усы, пистолет и островерхую шляпу; да если б директор «Водевиля» рискнул оплатить несколько газетных статей – вот вам верных пятьдесят представлений для театра и шесть тысяч франков авторских, если я соглашусь похвалить эту пьесу в своем фельетоне. Но продолжим:
197
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
Герцогиня Браччиано нашла наконец свою перчатку. Адольф, который привел ее обратно в апельсиновую рощу, мог предположить, что в этой забывчивости таилось кокетство, ибо роща тогда была пустынна. Издали слабо доносился шум праздника. Объявленное представление fantoccini[38]38
Кукольное представление (ит.).
[Закрыть] всех привлекло в галерею. Никогда еще Олимпия не казалась своему любовнику такой прекрасной. Их взоры, загоревшиеся одним огнем, встретились. Наступил момент молчания, упоительного для их душ и невыразимого словами. Они сели на ту же скамью, где сидели я обществе кавалера Палуцци и насмешников.
– Вот тебе на! Я не вижу больше нашего Ринальдо! – воскликнул Лусто. – Однако благодаря этой странице искушенный в литературе человек мигом разберется в положении дел. Герцогиня Олимпия – женщина, которая умышленно забывает свои перчатки в пустынной роще!
– Если только не быть существом промежуточным между устрицей и помощником письмоводителя, – а это два представителя животного царства, наиболее близкие к окаменелостям, – заметил Бьяншон, – то невозможно не признать в Олимпии…
– Тридцатилетнюю женщину! – подхватила г-жа де ла Бодрэ, опасавшаяся чересчур грубого определения.
– Значит, Адольфу двадцать два, – продолжал доктор, – потому что итальянка в тридцать лет все равно, что парижанка в сорок.
– Исходя из этих двух предположений, можно восстановить весь роман, – сказал Лусто. – И этот кавалер Палуцци! А? Каков мужчина!.. Стиль этих двух страниц слабоват, автор, должно быть, служил в отделе косвенных налогов и сочинил роман, чтобы заплатить своему портному…
– В те времена, – сказал Бьяншон, – существовала цензура, и человек, который попадал под ножницы тысяча восемьсот пятого года, заслуживает такого же снисхождения, как те, кто в тысяча семьсот девяносто третьем шли на эшафот.
– Вы что-нибудь понимаете? – робко спросила г-жа Горжю, супруга мэра, у г-жи де Кланьи.
Жена прокурора, которая, по словам г-на Гравье, могла обратить в бегство молодого казака в 1814 году, подтянулась, как кавалерист в стременах, и скроила своей соседке гримасу, обозначавшую: «На нас смотрят! Давайте улыбаться, словно мы все понимаем».
– Очаровательно! – сказала супруга мэра Гатьену. – Пожалуйста, господин Лусто, продолжайте.
Лусто взглянул на обеих женщин, похожих на две индийские пагоды, и насилу удержался от смеха. Он счел уместным воскликнуть: «Внимание!» и продолжал:
209
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
в тишине зашуршало платье. Вдруг взорам герцогини предстал кардинал Борборигано. Лицо его было мрачно; надо лбом его, казалось, нависли тучи, а в его морщинах рисовалась горькая усмешка.
– Сударыня, – сказал он, – вас подозревают. Если вы виновны – спасайтесь! Если вы невинны – тем более спасайтесь, ибо, добродетельны вы или преступны, издалека вам гораздо легче будет защищаться…
– Благодарю вас, ваше высокопреосвященство, за вашу заботливость, – сказала она, – герцог Браччиано появится вновь, когда я найду нужным доказать, что он существует.
– Кардинал Борборигано! – вскричал Бьяншон. – Клянусь ключами папы! Если вы не согласны со мной, что одно его имя – уже перл создания; если вы не чувствуете в словах «в тишине зашуршало платье» всей поэзии образа Скедони, созданного госпожой Радклиф в «Исповедальне чернецов», вы недостойны читать романы…
– По-моему, – сказала Дина, которой стало жаль восемнадцати сансерцев, уставившихся на Лусто, – действие развивается. Мне ясно все: я в Риме, я вижу труп убитого мужа, я вижу его дерзкую и развратную жену, которая устроила свое ложе в кратере вулкана. Всякую ночь, при каждом объятии она говорит себе: «Все откроется!..»
– Видите вы ее, – вскричал Лусто, – как обнимает она этого господина Адольфа, как прижимает к себе, как хочет всю свою жизнь вложить в поцелуй?.. Адольф представляется мне великолепно сложенным молодым человеком, но не умным, – из тех молодых людей, какие и нужны итальянкам. Ринальдо парит над интригой нам неизвестной, но которая, должно быть, так же сложна, как в какой-нибудь мелодраме Пиксерекура. Впрочем, мы можем вообразить, что Ринальдо проходит где-то в глубине сцены, как персонаж из драм Виктора Гюго.
– А может быть, он-то и есть муж! – воскликнула г-жа де ла Бодрэ.
– Понимаете вы во всем этом хоть что-нибудь? – спросила г-жа Пьедефер у жены председателя суда.
– Это прелесть! – сказала г-жа де ла Бодрэ матери.
У всех сансерцев глаза стали круглые, как пятифранковая монета.
– Читайте же, прошу вас, – сказала г-жа де ла Бодрэ.
Лусто продолжал:
216
ОЛИМПИЯ,
– Ваш ключ!..
– Вы потеряли его?
– Он в роще…
– Бежим…
– Не захватил ли его кардинал?..
– Нет… Вот он…
– Какой опасности мы избегли!
Олимпия взглянула на ключ, ей показалось, что это ее собственный ключ; но Ринальдо его подменил; хитрость его удалась, – теперь он владел настоящим ключом. Современный Картуш,[39]39
Картуш – прозвище Луи Бургиньона, главаря шайки преступников, казненного в Париже в 1721 г.
[Закрыть] он столь же был ловок, сколь храбр, и, подозревая, что только громадные сокровища могут заставить герцогиню всегда носить на поясе!
– Ну-ка поищем!.. – вскричал Лусто. – Следующей нечетной страницы здесь нет. – Рассеять наше недоумение может только страница двести двенадцатая.
212
ОЛИМПИЯ,
– Что, если б ключ потерялся!
– Он бы умер…
– Умер! Вы должны были бы снизойти к последней просьбе, с которой он обратился к вам, и дать ему свободу при условии, что…
– Вы его не знаете…
– Однако…
– Молчи. Я взяла тебя в любовники, а не в духовники…
Адольф умолк.
– Дальше изображен амур на скачущей козочке – виньетка, рисованная Норманом,[40]40
Норман (Normand) – здесь: хитрец, притвора (фр.).
[Закрыть] гравированная Дюпла…[41]41
Дюпла (Dupla) – пошляк (фр.).
[Закрыть] О! Вот и имена, – сказал Лусто.
– А что же дальше? – спросили те слушатели, которые понимали.
– Да ведь глава кончена, – ответил Лусто. – Наличие виньетки полностью меняет мое мнение об авторе. Чтобы во времена Империи добиться гравированной на дереве виньетки, автор должен был быть государственным советником или госпожой Бартелем-Адо, покойным Дефоржем или Севреном.
– «Адольф умолк»… Ага! – сказал Бьяншон. – Значит, герцогине меньше тридцати лет.
– Если это все, придумайте конец! – сказала г-жа де ла Бодрэ.
– Увы, на этом листе оттиск сделан только с одной стороны, – сказал Лусто. – На обороте «верстки», как говорят типографы, или, чтобы вам было понятнее, на обратной стороне листа, где должно было быть оттиснуто продолжение, оказалось несчетное множество разных отпечатков, поэтому он и принадлежит к разряду так называемых «бракованных листов». Так как было бы ужасно долго объяснять вам, в чем заключается непригодность «бракованного листа», проще будет, если я вам скажу, что он так же мало может сохранить на себе след первоначальных двенадцати страниц, тиснутых на нем печатником, как вы не могли бы сохранить и малейшего воспоминания о первом палочном ударе, если бы какой-нибудь паша приговорил вас к ста пятидесяти таких ударов по пяткам.
– У меня прямо в голове мешается, – сказала г-жа Попино-Шандье г-ну Гравье. – Ума не приложу, какой-такой государственный советник, кардинал, ключ и эти отти…
– У вас нет ключа к этой шутке, – сказал г-н Гравье, – но не огорчайтесь, сударыня, у меня его тоже нет.
– Да ведь вот еще лист, – сказал Бьяншон, взглянув на стол, где лежали корректуры.
– Превосходно, – ответил Лусто, – к тому же он цел и исправен! На нем пометка: «IV; 2-е издание». Милостивые государыни, римская цифра IV означает четвертый том; j, десятая буква алфавита, – десятый лист. Таким образом, если только это не хитрость издателя, я считаю доказанным, что роман «Римская месть» в четырех томах, в двенадцатую долю листа, имел успех, раз выдержал два издания. Почитаем же и разгадаем эту загадку:
217
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
коридор; но, чувствуя, что его настигают люди герцогини, Ринальдо
– Вот так раз!
– О, – воскликнула г-жа де ла Бодрэ, – между тем обрывком и этой страницей произошли немаловажные события!
– Сударыня, скажите лучше – этим драгоценным «чистым листом». Однако к четвертому ли тому относится оттиск, где герцогиня забыла в роще свои перчатки? Ну бог с ним! Продолжаем!
нашел самым надежным убежищем немедленно спуститься в подземелье, где должны были находиться сокровища дома Браччиано. Легкий, как Камилла латинского поэта,[42]42
Камилла латинского поэта. – Царица амазонок Камилла описана древнеримским поэтом Вергилием в поэме «Энеида».
[Закрыть] он бросился к таинственному входу бань Веспасиана. Уже факелы преследователей освещали за ним стены, когда ловкий Ринальдо благодаря зоркости, которой одарила его природа, обнаружил потайную дверь и быстро скрылся. Ужасная мысль, как молния, когда она рассекает тучи, пронзила душу Ринальдо. Он сам заключил себя в темницу!.. С лихорадочной
– Ах! Этот чистый лист оказывается продолжением обрывка оттиска! Последняя страница обрывка была двести двенадцатая, у нас тут двести семнадцатая! И, право, если тот Ринальдо, который в оттиске крадет у герцогини Олимпии ключ от сокровищ, подменив его более или менее схожим, в этом чистом листе уже попадает во дворец герцогов Браччиано, то роман, по-моему, подходит к какой-то развязке. Я хотел бы, чтоб и вам все стало так же ясно, как мне… На мой взгляд, праздник кончен, оба любовника вернулись во дворец Браччиано, ночь, первый час утра. Ринальдо славное готовит дельце!
– А Адольф? – спросил председатель суда Буаруж, за которым водилась слава любителя вольностей.
– Стиль-то каков! – сказал Бьяншон. – Ринальдо, который нашел убежищем спуститься!..
– Конечно, роман этот напечатан не у Марадана, не у Трейтеля и Вурца и не у Догеро, – сказал Лусто, – у них на жалованье были правщики, просматривавшие корректурные листы, – роскошь, которую должны были бы себе позволить нынешние издатели: нашим авторам это пошло бы на пользу… Должно быть, его написал какой-нибудь торгаш с набережной…
– С какой набережной? – обратилась одна дама к своей соседке. – Ведь говорилось про бани…
– Продолжайте, – сказала г-жа де ла Бодрэ.
– Во всяком случае, автор – не государственный советник, – заметил Бьяншон.
– А может быть, это написано госпожой Адо? – сказал Лусто.
– При чем еще тут госпожа Адо, наша дама-благотворительница? – спросила жена председателя суда у сына.
– Эта госпожа Адо, любезный друг, – отвечала ей хозяйка дома, – была женщина-писательница, жившая во времена Консульства…
– Как? Разве женщины писали при императоре? – спросила г-жа Попино-Шандье.
– А госпожа де Жанлис,[43]43
Г-жа де Жанлис Стефания-Фелисите (1746–1830) – второстепенная французская писательница, автор произведений, проникнутых сентиментальностью и ханжеским благочестием.
[Закрыть] а госпожа де Сталь? – ответил прокурор, обидевшись за Дину.
– О!
– Продолжайте, пожалуйста, – обратилась г-жа де ла Бодрэ к Лусто.
Лусто вновь начал чтение, объявив: «Страница двести восемнадцатая!»
218
ОЛИМПИЯ,
поспешностью он ощупал стену и испустил крик отчаяния, когда поиски следов секретной пружины оказались тщетны. Не признать ужасной истины было невозможно. Дверь, искусно устроенная, чтобы служить мести герцогини, не открывалась внутрь. Ринальдо к разным местам приникал щекой и нигде не почувствовал тяги теплого воздуха из галереи. Он надеялся наткнуться на щель, которая указала бы, где кончается стена, но – ничего, ничего! Стена казалась высеченной из цельной глыбы мрамора… Тогда у него вырвался глухой вой гиены…
– Скажите, пожалуйста! А мы-то воображали, будто сами только что выдумали крики гиены! – заметил Лусто. – Оказывается, при Империи литература о них уже знала и даже выводила на сцену, проявляя некоторое знакомство с естественной историей, что доказывается словом «глухой».
– Не отвлекайтесь, сударь, – сказала г-жа де ла Бодрэ.
– Ага, попались! – воскликнул Бьяншон. – Интерес, это исчадие романтизма, и вас схватил за шиворот, как давеча меня.
– Читайте же! – воскликнул прокурор. – Я понимаю!
– Какой фат! – шепнул председатель суда на ухо своему соседу, супрефекту.
– Он хочет подольститься к госпоже де ла Бодрэ, – отвечал новый супрефект.
– Итак, я продолжаю, – торжественно провозгласил Лусто.
Все в глубоком молчании стали слушать журналиста.
219
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
Отдаленный стон ответил на вопль Ринальдо; но, в своем смятении, он принял его за эхо, – так слаб и беззвучен был этот стон! Он не мог исходить из человеческой груди…
– Santa Maria![44]44
Пресвятая дева! (лат.).
[Закрыть] – проговорил неизвестный. «Если я двинусь с этого места, то больше мне его не найти! – подумал Ринальдо, когда к нему вернулось его обычное хладнокровие. – Постучать? Но тогда узнают, что я здесь. Как быть?»– Кто тут? – спросил голос.
– Эге! – сказал разбойник. – Уж не жабы ли здесь разговаривают?
– Я – герцог Браччиано! Кто бы
220
ОЛИМПИЯ,
Вы ни были, если только вы не из людей герцогини, именем всех святых умоляю, подойдите ко мне…
– Для этого нужно знать, где ты находишься, светлейший герцог, – ответил Ринальдо с дерзостью человека, который понял, что в нем нуждаются.
– Я вижу тебя, друг мой, потому что мои глаза привыкли к темноте. Послушай, иди прямо… Так… Поверни налево… Иди… Здесь!.. Вот мы и встретились.
Ринальдо, из предосторожности протянувший руки вперед, наткнулся на железные прутья.
– Меня обманывают! – вскричал разбойник.
– Нет, ты дотронулся до моей клетки…
221
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
Садись вон там, на цоколь порфировой колонны.
– Каким образом герцог Браччиано мог очутиться в клетке? – спросил разбойник.
– Друг мой, я тридцать месяцев стою в ней стоймя, ни разу не присев… Но ты-то кто такой?
– Я – Ринальдо, принц Кампаньи, атаман восьмидесяти храбрецов, которых закон напрасно называет злодеями, тогда как все дамы от них без ума, а судьи – те вешают их по застарелой привычке.
– Хвала создателю!.. Я спасен… Всякий добрый человек испугался бы, а я так уверен, что пре-
222
ОЛИМПИЯ,
красно столкуюсь с тобой! – воскликнул герцог. – О мой дорогой освободитель, ты, должно быть, вооружен до зубов…
– Е verissimo![45]45
Истинная правда! (ит.).
[Закрыть]– Есть у тебя?..
– О да, напильники, клещи… Corpo di Basso![46]46
Черт возьми! (ит.).
[Закрыть] Я явился сюда позаимствовать на неопределенное время сокровища герцогов Браччиано.– Ты добрую их долю получишь законно, мой дорогой Ринальдо, и, может быть, я в твоем обществе отправлюсь на охоту за людьми…
– Вы удивляете меня, ваша светлость!..
– Послушай, Ринальдо! Не буду говорить тебе о жажде мести, грызущей мне сердце: я здесь тридцать месяцев – ты ведь итальянец, ты
223
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
меня поймешь! Ах, мой друг, моя усталость и этот неслыханный плен – ничто по сравнению с болью, грызущей мое сердце. Герцогиня Браччиано по-прежнему одна из прекраснейших женщин Рима, я любил ее достаточно сильно, чтобы ревновать…
– Вы, ее муж!..
– Да, быть может, я был не прав!
– Конечно, так не делается, – сказал Ринальдо.
– Ревность моя была возбуждена поведением герцогини, – продолжал герцог. – Случай показал мне, что я не ошибся. Молодой француз любил Олимпию, был любим ею, я имел доказательства их взаимной склонности…
– Тысяча извинений, милостивые государыни, – сказал Лусто, – но, видите ли, я не могу не обратить ваше внимание на то, что литература эпохи Империи шла прямо к фактам, минуя всякие детали, а это представляется мне особенностью времен первобытных. Литература той эпохи занимала среднее место между перечнем глав «Телемака»[47]47
«Телемак» – нравоучительный роман французского писателя Фенелона (1651–1715), содержащий элементы критики правления Людовика XIV.
[Закрыть] и обвинительными актами прокурорского надзора. У нее были идеи, но эта гордячка не развивала их! Она наблюдала, но эта скряга ни с кем не делилась своими наблюдениями! Один только Фуше делился иногда своими наблюдениями. «Литература тогда довольствовалась, по выражению одного из самых глупых критиков „Ревю де Де Монд“, простым наброском с весьма точным, в подражание античности, изображением персонажей; она не жонглировала длинными периодами!» Верю охотно, она не знала периодов и не знала, как заставить слово заиграть всеми красками; она говорила вам: «Любен любил Туанету, Туанета не любила Любена; Любен убил Туанету, жандармы схватили Любена; он был посажен в тюрьму, предстал перед судом присяжных и был гильотинирован». Яркий набросок, четкая обрисовка! Какая прекрасная драма! А нынче – нынче всякий невежда играет словами.
– Случается, и проигрывает, – буркнул г-н де Кланьи.
– Ого! – ответил Лусто. – Вам, значит, приходилось оставаться при пиковом интересе?
– Что он хочет сказать? – спросила г-жа де Кланьи, обеспокоенная этим каламбуром.
– Я точно в темном лесу, – ответила супруга мэра.
– Его шутка потеряла бы при объяснении, – заметил Гатьен.
– Нынче, – продолжал Лусто, – романисты рисуют характеры, и вместо четкого контура они открывают вам человеческое сердце, они пробуждают в вас интерес к Туанете или Любену.
– А меня так просто ужасает литературная образованность публики, – сказал Бьяншон. – Русские, разбитые Карлом Двенадцатым, кончили тем, что научились воевать;[48]48
…Русские, разбитые Карлом Двенадцатым, кончили тем, что научились воевать. – Бальзак имеет в виду Северную войну между Россией и Швецией (1700–1721). Русские войска под командованием Петра I терпели в начале этой войны неудачи, но затем наголову разгромили шведские войска под Полтавой (1709) и позднее победоносно закончили войну.
[Закрыть] точно так же и читатель в конце концов постиг искусство. Когда-то от романа требовали только интереса; до стиля никому не было дела, даже автору; отношение к идее равнялось нулю; к местному колориту было полнейшее равнодушие. Но мало-помалу читатель пожелал стиля, интереса, патетики, положительных знаний; он потребовал «пяти литературных качеств»: выдумки, стиля, мысли, знания, чувства; потом, вдобавок ко всему, явилась критика. Критик, неспособный придумать ничего, кроме клеветы, объявил, что всякое произведение, не являющееся творением совершенного ума, неизбежно хромает. Тогда явилось несколько плутов, вроде Вальтера Скотта, оказавшихся способными соединить в себе все пять литературных чувств; и те, у кого был только ум, только знание, только стиль или чувство, – эти хромые, безголовые, безрукие, кривые литераторы завопили, что все потеряно, и стали проповедовать крестовые походы против людей, якобы снизивших ремесло, или отрицали их произведения.
– Да это история ваших последних литературных боев, – заметила Дина.
– Бога ради, – взмолился г-н де Кланьи, – вернемся к герцогу Браччиано.
И к великому отчаянию собравшихся, Лусто продолжал чтение «чистого листа».
224
ОЛИМПИЯ,
Тогда я пожелал убедиться в своем несчастье, чтобы иметь возможность отомстить под покровом Провидения и закона. Герцогиня разгадала мои намерения. Мы сражались мыслями, прежде чем сразиться с ядом в руке. Нам хотелось внушить друг другу взаимное доверие, которого мы не имели: я – чтобы заставить ее выпить отраву, она – чтобы завладеть мною. Она была женщина – она победила; ибо всегда у женщин одной ловушкой больше, чем у нас, мужчин, и я в нее попался: я был счастлив; но на следующее же утро проснулся в этой железной клетке. Я весь день рычал во мраке
225
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
этого подземелья, расположенного под спальней герцогини. Вечером, поднятый вверх, сквозь отверстие в полу спальни искусно устроенным противовесом, я увидел герцогиню в объятиях любовника; она бросила мне кусок хлеба – мое ежевечернее пропитание. Вот моя жизнь в течение тридцати месяцев! Из этой мраморной тюрьмы мои крики не достигают ничьих ушей. Счастливой случайности ждать было нечего. Я больше ни на что не надеялся! Посуди сам: комната герцогини – в отдаленной части дворца, и мой голос, когда я туда поднимаюсь, не может быть услышан никем. Всякий раз, когда я вижу свою жену, она показывает мне яд, который я приготовил
226
ОЛИМПИЯ,
для нее и ее любовника; я прошу дать его мне, но она мне отказывает в смерти, она дает хлеб – и я ем его! Я хорошо сделал, что ел, что жил, – я как будто рассчитывал на разбойников!..
– Да, ваша светлость, когда эти болваны, честные люди, спят, мы бодрствуем, мы…
– Ах, Ринальдо, все мои сокровища принадлежат тебе, мы разделим их по-братски, я хотел бы отдать тебе все… вплоть до моего герцогства…
– Ваша светлость, лучше добудьте для меня у папы отпущение грехов in articulo mortis,[49]49
В смертный час (лат.).
[Закрыть] это мне важнее при моем ремесле.
227
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
– Все, что ты захочешь; но подпили прутья моей клетки и одолжи мне твой кинжал!.. У нас очень мало времени, торопись… Ах, если б зубы мои были напильниками… Я ведь пробовал перегрызть железо…
– Ваша светлость, – сказал Ринальдо, выслушав последние слова герцога, – один прут уже подпилен.
– Ты просто бог!
– Ваша жена была на празднике принцессы Виллавичьоза; она возвратилась со своим французиком, она пьяна от любви, так что время у нас есть.
– Ты кончил?
– Да…
228
ОЛИМПИЯ,
– Твой кинжал? – с живостью обратился герцог к разбойнику.
– Вот он.
– Прекрасно. Я слышу лязг блока.
– Не забудьте про меня! – сказал разбойник, который хорошо знал, что такое благодарность.
– Буду помнить, как отца родного, – ответил герцог.
– Прощайте! – сказал ему Ринальдо. – Смотри, пожалуйста, как он полетел! – добавил разбойник, проследив глазами исчезновение герцога. «Буду помнить, как отца родного», – повторил он про себя. – Если он так намерен помнить обо мне!.. Ах! Однако ж я поклялся никогда не вредить женщинам!..
Но оставим на время раз-
229
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
бойника, отдавшегося своим размышлениям, и поднимемся вслед за герцогом в покои дворца.
– Опять виньетка – амур на улитке! Потом идет чистая двести тридцатая страница, – сказал журналист. – И вот еще две чистые страницы, с заголовком «Заключение», который так приятно писать тому, кто имеет счастливое несчастье сочинять романы!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Никогда еще герцогиня не была так красива; она вышла из ванны в одежде богини и, увидев Адольфа,
234
ОЛИМПИЯ,
сладострастно раскинувшегося на груде подушек, воскликнула:
– Как ты прекрасен!
– А ты, Олимпия!..
– Ты любишь меня по-прежнему?
– Сильнее с каждым днем! – ответил он.
– Ах, одни французы любить умеют! – вскричала герцогиня… – Ты очень будешь любить меня сегодня?
– Да…
– Иди же!
И движением, полным ненависти и любви, – потому ли, что кардинал Борборигано глубже растравил в ней гнев против мужа, потому ли, что она захотела показать герцогу картину еще большей страсти, – она нажала пружину и протянула руки сво-
– Вот и все! – воскликнул Лусто. – Экспедитор оторвал остальное, заворачивая мои корректуры; но и этого вполне достаточно, чтобы убедить нас в том, что автор подавал надежды.
– Ничего не понимаю, – сказал Гатьен Буаруж, первый нарушая молчание, которое хранили сансерцы.
– И я тоже, – отвечал г-н Гравье.
– Однако же роман этот написан в годы Империи, – заметил ему Лусто.
– Ах, – сказал г-н Гравье, – по тому, как разговаривает этот разбойник, сразу видно, что автор не знал Италии. Разбойники не позволяют себе подобных concetti.[50]50
Шуточек (ит.).
[Закрыть]


