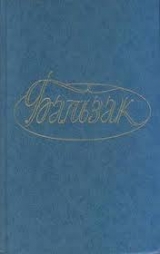
Текст книги "Луи Ламбер"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
О Инка! властелин и злополучный и несчастный!
В насмешку над моими опытами я был прозван Поэтом, но такие насмешки не могли меня исправить. Я продолжал рифмовать строчки, несмотря на мудрый совет господина Марешаля, нашего директора, который пытался излечить меня от моей пагубной застарелой болезни, рассказав в одной из проповедей о несчастьях малиновки, которая выпала из гнезда, попытавшись летать раньше, чем у нее выросли крылья. Я продолжал читать и стал самым бездеятельным, самым ленивым, самым задумчивым учеником младшего отделения, и, следовательно, меня наказывали чаще других. Это автобиографическое отступление должно сделать понятным характер размышлений, которые меня осаждали при появлении Ламбера. Мне было тогда двенадцать лет. Я чувствовал неясную симпатию к ребенку, с которым у меня было некоторое сходство в темпераментах. Я должен был, наконец, найти спутника по мечтам и размышлениям. Не зная еще, что такое слава, я был польщен, что буду товарищем ребенка, чье бессмертие было предсказано г-жой де Сталь. Луи Ламбер казался мне гигантом.
Наконец, настало долго ожидаемое завтра. За минуту до завтрака мы услышали на пустынном дворе шаги г-на Марешаля и новичка. Все головы тотчас же повернулись в сторону двери. Отец Огу, который разделял с нами муки любопытства, не засвистел, как обычно, чтобы прекратить шепот и призвать нас к занятиям. И тогда мы увидели этого пресловутого новичка, которого г-н Марешаль держал за руку. Учитель спустился с кафедры, и директор, следуя этикету, торжественно сказал ему:
– Милостивый государь, я привел к вам господина Луи Ламбера, он будет в четвертом классе и завтра придет на уроки.
Потом, тихо поговорив с учителем, он громко добавил:
– Где вы его посадите?
Было бы несправедливо потревожить из-за новичка кого-нибудь из нас, а так как была свободна только одна парта, рядом со мной, последним из поступивших в этот класс, то Луи Ламбер и занял ее. Несмотря на то, что занятия еще не кончились, мы все встали, чтобы посмотреть на Ламбера. Г-н Марешаль слышал наши разговоры, понял наше возбуждение и сказал с той добротой, за которую мы все его особенно любили:
– По крайней мере ведите себя хорошо, не мешайте заниматься другим классам.
Эти слова отпустили нас на отдых незадолго до завтрака, и мы все окружили Ламбера, в то время как г-н Марешаль прогуливался по двору с отцом Огу. Нас было примерно восемьдесят чертенят, смелых, как хищные птицы. Хотя мы все прошли через жестокие испытания поступления в коллеж, но никогда не давалось пощады новичку, и язвительный смех, вопросы, дерзости сыпались на голову неофита для его посрамления. Таким образом испытывались его привычки, сила и характер. Ламбер, то ли спокойный по натуре, то ли ошеломленный, не отвечал на наши вопросы. Один из нас заявил тогда, что новичок вышел из школы Пифагора [21]21
Пифагор(ок. 580 – ок. 500 г. до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист, ученый-математик, считал числа сущностью всех вещей, в музыке и математике видел основное средство воспитания человека.
[Закрыть]. Раздался общий смех. И на все время пребывания в коллеже Ламбер получил прозвище Пифагора. В то же время пронзительный взгляд Ламбера, отражавшееся на его лице презрение к нашему ребячеству, хотя презрение вообще было совершенно чуждо его характеру, спокойная поза, в которой он стоял, его видимая сила в полной гармонии с возрастом вызывали некоторое уважение даже в самых дурных из нас. Что касается меня, то я сидел около него и молчаливо наблюдал.
Луи был худеньким и хрупким мальчиком четырех с половиной футов ростом; его загорелое лицо, почерневшие от солнца руки свидетельствовали, казалось, о значительной силе мышц, а между тем он был слабее, чем бывают обычно в его возрасте. Через два месяца после его поступления в коллеж, когда пребывание в закрытом помещении сняло с него загар, как это случается с растением, мы увидели, что он бледен и бел, как женщина. Всем бросилась в глаза его крупная голова. Очень кудрявые волосы красивого черного цвета придавали невыразимое очарование его лбу, который казался огромным даже и нам, совершенно не интересовавшимся объяснениями френологии – науки, находившейся тогда еще в колыбели. Красота этого лба была необыкновенной, пророческой главным образом благодаря чистой линии надбровных дуг, словно вырезанных из алебастра, под которыми сверкали черные глаза; эти дуги сходились на переносице и, что бывает редко, казались идеально параллельными. Трудно было составить себе ясное представление о его лице, черты которого, кстати сказать, были довольно неправильными, очень заметны были только глаза, удивлявшие богатством и изменчивостью выражения и, казалось, отражавшие его душу. То светлый и поразительно проницательный, то нежный и неземной взгляд этих глаз становился тусклым, можно сказать, бесцветным в те минуты, когда Луи предавался созерцанию. Тогда его глаза походили на оконные стекла, в которых только что отражалось солнце, но вдруг погасло. Его сила и его голос имели такое же свойство, как и взгляд: то неподвижность, то изменчивость. Голос его то становился нежным, как голос женщины, которая нечаянно призналась в любви, то затрудненным, ломким, запинающимся, если можно выразить этими словами необычные оттенки. Что же касается его силы, то часто он уставал от самой легкой игры и казался слабым, почти калекой. Но в первые дни его жизни в коллеже, когда один из наших матадоров посмеялся над этой болезненной хрупкостью, делавшей его неспособным к бурным упражнениям, бывшим тогда в ходу в нашем коллеже, Ламбер схватил двумя руками конец одного из наших столов, состоявшего из двенадцати пюпитров, расположенных в два ряда, двумя скатами, оперся туловищем на учительскую кафедру, придержал стол ногами, поставив их на нижние перекладины, и сказал:
– Пусть десять человек одновременно попробуют его сдвинуть!
Я присутствовал при этом и могу засвидетельствовать фантастическое доказательство силы Ламбера: вырвать стол из его рук оказалось невозможно. Ламбер обладал способностью в некоторые мгновения концентрировать в себе необыкновенное могущество, собирать все силы и направлять их на одну какую-нибудь цель. Но дети, так же, впрочем, как и взрослые, привыкли судить по первым впечатлениям; они наблюдали за Луи только в первые дни после его приезда: он совершенно не оправдал предсказаний г-жи де Сталь и не совершил ни одного из тех чудес, какие мы от него ждали. После первого испытательного триместра Луи стал считаться самым обыкновенным учеником. Только мне одному дано было проникнуть в эту высокую душу, и почему бы мне не назвать ее даже божественной? Что может быть ближе к богу, чем сердце гениального ребенка? Благодаря общности вкусов и мыслей мы сделались друзьями и «фезанами». Наше братское единение было таким глубоким, что товарищи соединили наши имена. Их перестали произносить по отдельности, чтобы позвать одного из нас, нам кричали: «Поэт и Пифагор!» Имена других учеников тоже произносились вместе, как одно. Таким образом, я был в течение двух лет другом по школе бедного Луи Ламбера, и моя жизнь была в то время настолько тесно соединена с его жизнью, что для меня оказалось возможным написать историю его духовного развития.
Долгое время я не понимал поэзии и богатства, скрытых в сердце и в мозгу моего товарища. Мне надо было дожить до тридцати лет, чтобы наблюдения мои созрели и отстоялись, чтобы луч живого света осветил их заново, чтобы я понял значение явлений, неопытным свидетелем которых я был; я наслаждался ими, не объясняя себе ни их величия, ни механизма, я даже забыл некоторые из них и запомнил только самые яркие; но теперь моя память привела все в порядок, и я постиг тайны этого плодовитого ума, вспоминая о пленительных днях нашей юной дружбы. Только время дало мне возможность проникнуть в смысл событий и фактов, которыми богата эта никому не известная жизнь, подобная жизни многих других людей, потерянных для науки. Эта история важна только для выражения и оценки вещей чисто нравственного порядка, а если она полна анахронизмов, то, быть может, это не повредит ее своеобразному интересу.
В течение первых месяцев жизни в Вандоме Луи заболел такой болезнью, симптомы которой были незаметны для взора наших воспитателей, однако эта болезнь неизбежно должна была мешать проявлению его больших способностей. Привыкнув к свежему воздуху, к тому, что его образование пополнялось от случая к случаю, независимо от чьей-либо воли, окруженный нежной заботой обожавшего его старика, привыкнув думать под открытым небом, он с трудом осваивался с жизнью в четырех стенах комнаты, где восемьдесят молодых людей молчаливо сидели на деревянных скамьях, каждый за своим пюпитром. Его чувства были так обострены, что развили в нем исключительную душевную тонкость, и он очень страдал от жизни в большом сообществе. Портившие воздух испарения, смешанные с запахом всегда грязного класса, замусоренного остатками наших завтраков и ужинов, действовали на его обоняние, на то чувство, которое больше всего связано с мозговой системой и поэтому в случае поражения приносит незаметное сначала расстройство в мыслительные органы. Кроме этих причин порчи воздуха, были еще и другие; в комнатах для занятий находились ящики, где мы хранили нашу добычу: голубей, убитых к празднику, пищу, тайком унесенную из столовой. Наконец, в этих комнатах находился еще громадный каменный постамент, где все время стояли два ведра, полные воды, своеобразный водослив, где каждое утро, в присутствии учителя, мы поочередно ополаскивали лицо и мыли руки. Оттуда мы переходили к столу, где нас причесывали и пудрили женщины. Наше жилище, убиравшееся раз в день, перед нашим пробуждением, было всегда грязным. Кроме того, несмотря на большое количество окон и высоту дверей, воздух постоянно портили запахи парикмахерских принадлежностей, умывальника, ящиков, где хранились вещи каждого ученика, не говоря уже об испарениях наших сгрудившихся восьмидесяти тел. Этот humus коллежа, смешанный с грязью, которую мы все время приносили со двора, порождал зловоние, точно от навозной кучи. Отсутствие чистого, ароматного воздуха, которым он до сих пор дышал, перемена привычек, дисциплина – все угнетало Ламбера. Опершись головой на левую руку, облокотившись правой на свой пюпитр, он все часы занятий смотрел на листву деревьев во дворе или на облака на небе: казалось, он учил уроки; но, видя, что его перо неподвижно, а страница оставалась чистой, учитель кричал ему:
– Вы ничего не делаете, Ламбер!
Это «вы ничего не делаете» было булавочным уколом, терзавшим сердце Ламбера. Потом у него уже не было свободного времени, в перемены он должен был писать pensum'ы. «Пенсум» – наказание, тип которого варьируется в зависимости от обычаев каждого коллежа; в Вандоме «пенсум» представлял некоторое количество строчек, переписанных в часы перемен. И Ламбер и я были так завалены «пенсумами», что за два года нашей дружбы у нас не было и шести свободных дней. Если бы не книги, утащенные из библиотеки, которые поддерживали жизнь в нашем мозгу, подобное существование привело бы нас к полнейшему отупению. Отсутствие упражнений губительно для детей. Привычка особым образом держать себя на празднествах и приемах, усвоенная с малолетства, говорят, очень сильно действует на телосложение царственных особ, если им не удается помочь своему физическому развитию жизнью на поле сражений и охотничьим спортом. Если законы этикета и двора до такой степени воздействуют на мозг спинного хребта, что делают женственными тазовые кости королей, расслабляют их мозговую ткань и ведут к вырождению, разве не приносит ученикам глубочайший физический и моральный вред постоянный недостаток свежего воздуха, движения, веселья? Неужели система наказаний, обычная для коллежей, не привлечет внимания авторитетов в области народного просвещения, – ведь найдутся среди них мыслители, которые думают не только о себе.
Мы навлекали на себя «пенсумы» по тысяче причин. У нас была такая хорошая память, что мы никогда не учили уроков. Достаточно было, чтобы кто-нибудь из товарищей произнес отрывок по-французски или по-латыни или грамматическое правило, чтобы мы могли повторить его; но если, к несчастью, учитель решал изменить очередность и спрашивал нас первыми, мы часто даже не знали, что было задано: «пенсум» назначался, несмотря на наши самые остроумные объяснения. Во всяком случае, мы откладывали приготовление уроков до самого последнего момента. Всякий раз, когда мы хотели дочитать какую-нибудь книгу или погружались в мечты, уроки забывались, и это был новый источник «пенсумов». Сколько раз наши переводы были написаны за время, пока ученик первого класса, обязанный собирать их, войдя в класс, требовал их по очереди у каждого ученика! К моральным трудностям, которые переживал Ламбер, привыкая к коллежу, присоединялось еще не менее трудное испытание, через которое мы прошли все: надо было претерпеть множество бесконечно разнообразных физических страданий. Чувствительность кожи у детей требует тщательной заботы, особенно зимой, когда по самым разнообразным поводам им приходится переходить из ледяной атмосферы грязного двора в жарко натопленный класс. Таким образом, из-за отсутствия материнских забот, младших и маленьких просто пожирали болячки и трещины на коже, настолько болезненные, что во время завтрака приходилось делать особые перевязки, конечно, не особенно тщательно, так как уж слишком много было больных рук, ног и пяток. Многие дети вынуждены были предпочитать болезни лечению. Ведь им приходилось выбирать: то ли заканчивать приготовление уроков, то ли наслаждаться катком, то ли идти на перевязку, которая небрежно накладывалась и с которой они обращались еще небрежней. Кроме того, нравы коллежа ввели в моду насмешки над слабенькими, ходившими на перевязки, и ученики соревновались в срывании тряпок, намотанных на руки санитарами. Таким образом, зимой у многих из нас так болели пальцы и ноги, изъеденные болячками, что мы были не очень-то склонны учиться, и нас наказывали за то, что мы не учились. Очень часто наставник, обманутый притворными болезнями, не считался с реальными. В оплату за учение входило полное содержание учеников в коллеже. Администрация обыкновенно назначала торги на поставку обуви и одежды; отсюда этот осмотр каждые пятнадцать дней, о котором я уже говорил. Этот выгодный для администрации метод имел весьма грустные последствия для осматриваемого. Горе малышу, у которого была дурная привычка стаптывать или рвать ботинки или преждевременно пронашивать подошвы, то ли из-за походки, то ли из-за шарканья в часы занятий, когда ребенок повинуется свойственному его возрасту стремлению двигаться! В течение всей зимы несчастный испытывал злейшие страдания во время прогулки; во-первых, отмороженные места мучительно болели, как во время припадков подагры; затем крючки и шнурки, закреплявшие ботинки, лопались, стоптанные каблуки мешали проклятым ботинкам как следует прилегать к ногам ребенка; ему приходилось тащиться по замерзшим тропинкам или порою с трудом вытаскивать свою обувь из глинистой почвы Вандома; наконец, дождь, снег часто проникали сквозь незаметно распоровшиеся швы, плохо прилаженную бумажную затычку, и нога начинала пухнуть. Из шестидесяти детей не было и десяти, которые не испытывали при ходьбе какой-нибудь боли; и все же они следовали за основной массой, повинуясь общему ритму, как взрослые люди, которых заставляет жить сама жизнь. Сколько раз отважный паренек, плача от гнева, все же собирал остатки энергии, чтобы, превозмогая боль, двигаться вперед или вернуться в свое обиталище! Вот насколько в этом возрасте неопытная душа боится и смеха и сочувствия – двух видов насмешки. В коллеже, как и в обществе, сильный презирает слабого, еще не понимая, в чем состоит истинная сила. И это все еще пустяки. Никаких перчаток не полагалось. Если случайно родители, санитарка или директор давали самым хрупким из нас пару перчаток, шутники и старшие в классе клали их на печку, забавлялись тем, что сушили их, пока они не трескались; потом, если удавалось вырвать их у шалунов, они отсыревали и скореживались от небрежного обращения. Ни одни перчатки не выдерживали. Перчатки казались привилегией, а дети любят равенство.
Все эти разнообразные мучения должен был испытать Луи Ламбер. Как все люди, склонные к размышлениям, поглощенные мечтами, часто привыкают к какому-нибудь машинальному движению, он постоянно играл своими ботинками и очень быстро изнашивал их. Нежная, как у женщины, кожа на его лице, на ушах, на губах трескалась от малейшего холода. Его руки, такие мягкие и белые, делались красными и шершавыми. Он непрерывно простужался. Луи и впрямь донимали всевозможные болезни, пока он не приспособился к вандомским нравам. Долгий жестокий опыт всяческих бед заставил его наконец «думать о своих делах», как говорили у нас в коллеже. Ему пришлось заботиться о своем ящике, о своей парте, об одежде, о ботинках; не позволять красть у себя ни чернил, ни книг, ни тетрадей, ни перьев; наконец, пришлось научиться думать о тысяче деталей нашей детской жизни, которыми столь прилежно занимались эгоисты и посредственности, всегда получавшие награды за отличные успехи и поведение, награды, не достававшиеся многообещавшему ребенку, который под бременем почти божественного воображения страстно отдавался бурному потоку своих мыслей. Это еще не все. Между учителями и учениками постоянно шла борьба, беспощадная борьба, с которой в обществе можно сравнить только борьбу оппозиции против министерства при представительном правлении. Но журналисты и ораторы оппозиции, быть может, не умеют так быстро использовать какое-нибудь преимущество, так жестоко упрекать за любую вину, так едко насмехаться, как это умеют дети по отношению к людям, которым доверено их воспитание. Даже ангел потерял бы терпение, занимаясь этой профессией. Поэтому не следует слишком сильно винить бедного, плохо оплачиваемого, не очень проницательного наставника за то, что он иногда выходит из себя и бывает несправедлив. Под взглядом множества насмешливых глаз, окруженный ловушками, этот наставник иногда мстит за все свои промахи, которые дети чрезвычайно быстро замечают.
Не считая крупных проступков, для которых существовали другие наказания, ремень был в Вандоме l'ultima ratio patrum [22]22
Последнее средство отцов ( лат.).
[Закрыть]. Для наказания за невыполненные обязанности, плохо выученные уроки, глупые выходки было достаточно и «пенсума»; но оскорбленное самолюбие учителя отзывалось на нас ремнем. Из всех физических страданий, которым мы подвергались, самую сильную боль нам причиняла кожаная полоска шириной примерно в два пальца, которая обрушивала на наши слабые руки всю силу, весь гнев наставника. Подвергаясь этому классическому наказанию, виновный стоял на коленях посреди зала. Нужно было подняться со скамьи и стать на колени около кафедры под любопытными, часто насмешливыми взглядами товарищей. Для нежных душ эти приготовления были двойной пыткой, подобной путешествию от залы суда до эшафота на Гревской площади [23]23
Гревская площадь– площадь в Париже, на которой до Июльской революции 1830 года происходили публичные казни.
[Закрыть], которое совершал некогда приговоренный к смерти. В зависимости от своего характера одни кричали, плача горькими слезами, до или после удара, другие претерпевали боль со стоическим спокойствием, но в ожидании наказания даже самые мужественные едва могли подавить конвульсивную гримасу на лице. Луи Ламбер без конца подвергался этому наказанию из-за одной особенности своей натуры, которую долгое время он сам не замечал. Когда возглас учителя: «Вы ничего не делаете!» – грубо отрывал его от размышлений, он зачастую и вначале совершенно бессознательно бросал на наставника взгляд, исполненный какого-то яростного презрения, насыщенный мыслью, как насыщена электричеством Лейденская банка. Этот взгляд, несомненно, раздражал учителя, и, оскорбленный беззвучной эпиграммой, он стремился отучить ученика от этих молниеносных взглядов. Первый раз, когда учитель оскорбился взглядом, поразившим его, как молния, он сказал фразу, которую я запомнил:
– Если вы еще раз так взглянете на меня, Ламбер, вы получите ремень!
При этих словах все носы вздернулись, все глаза следили то за учителем, то за Ламбером. Замечание прозвучало до такой степени глупо, что мальчик снова бросил на учителя молниеносный взгляд. Так возникла ссора между учителем и учеником, навлекавшая на Ламбера частые наказания ремнем. И это заставило его понять подавляющую силу своего взгляда.
Бедный поэт с такими чувствительными нервами, иногда истеричный, как женщина, угнетенный хронической меланхолией, так же болеющий своим гением, как юная девушка любовью, которой она жаждет, еще не зная ее, этот мальчик, такой сильный и такой слабый, оторванный Коринной от просторов родных полей, чтобы попасть в матрицу коллежа, в которой каждый ум, каждое существо, несмотря на свои способности, свой темперамент, должно приспособиться к правилам, к форме, как золото вынуждено превращаться в монеты под прессом чеканки, Луи Ламбер выстрадал все, что могло задеть его тело или его душу. Он был прикован к скамье, закрепощен партой, избит ремнем, измучен болезнями, оскорблен во всех своих чувствах, сжат петлей бедствий, и вся его телесная оболочка мучительно страдала от бесчисленных тиранических требований коллежа. Подобно мученикам, улыбавшимся во время пыток, он ускользал в небеса, которые приоткрывала ему его мысль. Быть может, эта внутренняя жизнь помогла ему заглянуть в тайны, в которые он так верил.
Наше свободолюбие, наши незаконные занятия, наше кажущееся безделье, отупение, в каком мы жили, непрерывные наказания, отвращение к урокам и «пенсумам» создали нам неоспоримую репутацию никчемных и неисправимых детей. Учителя презирали нас, а товарищи, от которых мы скрывали наши незаконные занятия, боясь их насмешек, выражали нам самое отвратительное пренебрежение. Эта двойная недооценка была несправедлива со стороны учителей, но была совершенно естественной со стороны соучеников. Мы не умели играть в мяч, бегать, ходить на ходулях. В дни амнистии или если у нас случайно оказывалась свободная минута, мы не участвовали ни в каких развлечениях, принятых в это время в коллеже. Чуждые забавам наших товарищей, мы пребывали в одиночестве, меланхолически сидя под каким-нибудь деревом во дворе. Поэт и Пифагор были исключением, они вели жизнь за пределами общины учеников. Присущие школьникам проницательный инстинкт и обостренное самолюбие заставляли их чувствовать в нас душевную жизнь или более высокую, или более низкую сравнительно с их жизнью. Отсюда у одних была ненависть к нашей молчаливой аристократичности, у других – презрение к нашей никчемности. Эти чувства возникли между нами вопреки нам самим, и, может быть, я разгадал их только сегодня. Итак, мы жили, как две крысы, прячась в углу классной комнаты, где были наши парты, и мы были вынуждены там сидеть и во время уроков и во время перемен. Это исключительное положение должно было привести и привело к войне между нами и детьми нашего отделения. Почти всегда забытые всеми, мы существовали там спокойно, и такая жизнь нас наполовину удовлетворяла; мы были похожи на два растения или два украшения, не гармонировавшие с общем стилем комнаты. Но иногда самые насмешливые из наших товарищей оскорбляли нас, желая показать, что они могут безнаказанно злоупотреблять своей силой, а мы отвечали на это презрением; все это частенько кончалось тем, что на Поэта и Пифагора обрушивался град ударов.
Ламбер тосковал по дому много месяцев. Я не знаю, каким образом описать охватившую его меланхолию. Луи испортил мне множество шедевров. Так как мы оба разыгрывали роль «Прокаженного из долины Аосты» [24]24
«Прокаженный из долины Аосты»– роман французского писателя Ксавье де Местра (1763—1852), вышедший в 1811 году.
[Закрыть], мы испытали чувства, выраженные в книге господина де Местра, прежде чем прочитали о них в его красноречивом изложении. Конечно, какое-нибудь произведение может воскресить воспоминания детства, но ему никогда не удается заглушить их. Вздохи Ламбера прозвучали для меня гораздо более проникновенными гимнами печали, чем самые прекрасные страницы Вертера. Но, быть может, нельзя сравнивать страдания, которые причиняет справедливо или несправедливо осужденная нашими законами страсть, со скорбями бедного ребенка, жаждущего ярких лучей солнца, стремящегося в росистые долины, на свободу. Вертер был рабом одной страсти, вся душевная жизнь Луи Ламбера была порабощена. При одинаковом таланте очень трогательное чувство, основанное на самых искренних, а значит, самых чистых желаниях, должно превзойти жалобы гения. Часто, после того, как Луи долго созерцал листву одного из тополей на дворе, он говорил мне только одно слово, но это слово раскрывало необъятную мечту.
– К счастью, – воскликнул он однажды, – у меня бывают хорошие минуты, когда мне кажется, что стены класса рухнули и что я сам далеко, в полях! Какое наслаждение нестись по воле своей мысли, как мчится птица, увлеченная полетом! Почему зеленый цвет так распространен в природе? – спрашивал он меня. – Почему там так мало прямых линий? Почему в творениях человека так мало кривых? Почему только человек ощущает прямую линию?
Эти слова говорят о долгих блужданиях по широким просторам. Конечно, перед ним снова развертывались картины природы, он снова вдыхал аромат лесов. Он сам был живой трепетной элегией, всегда молчаливый, готовый претерпеть все; он всегда страдал, не имея возможности сказать: «Я страдаю!» Этот орел, который хотел насыщаться всем миром, жил в четырех узких и грязных стенах; так его жизнь стала в самом широком значении этого выражения жизнью идеальной. Полный презрения к почти бесполезным занятиям, на которые мы были обречены, Луи шел своей воздушной дорогой, совершенно оторвавшись от окружавших его вещей. Повинуясь свойственному детям стремлению подражать, я старался согласовать свое существование с его жизнью. Луи особенно сильно заражал меня страстью к тому полудремотному состоянию, в которое погружает тело глубокое созерцание, потому что я был молод и впечатлителен. Мы привыкли, подобно любовникам, думать вместе, сообщать друг другу наши мечты. Его интуитивные ощущения уже и тогда были так же остры, как прозрение мысли у великих поэтов, и часто приближались к безумию. Однажды он спросил:
– Можешь ли ты, как я, помимо своей воли, чувствовать воображаемые страдания? Например, когда я напряженно думаю о том, что я буду ощущать, если лезвие моего перочинного ножа войдет мне в тело, я начинаю чувствовать такую острую боль, как если бы я себя действительно порезал: не хватает только крови. Но это чувство возникает и охватывает меня внезапно, как шум, нарушающий глубокое молчание. Мысль может причинить физические страдания! Ну, что ты на это скажешь?
Когда он высказывал подобные мысли, мы оба погружались в наивные мечты. Мы пытались искать в нас самих неописуемые явления, относящиеся к возникновению мысли, которую Ламбер надеялся проследить в ее малейших проявлениях, чтобы когда-нибудь иметь возможность описать неведомый инструмент. Потом, после споров, часто очень ребячливых, из глаз Ламбера вырывался пылающий взгляд, он сжимал мою руку и в самых глубинах своей души находил слово, которым пытался выразить все до конца.
– Мыслить – значит видеть! – сказал он мне однажды, возбужденный одним из наших соображений по поводу самих основ психической организации человека. Все человеческое знание основывается на дедукции, на медленном движении от причины к следствию и от следствия к причине. В отличие от этого, стремясь к более широкому выражению, вся поэзия, как и всякое произведение искусства, проявляется в мгновенном охвате явлений.
Он был спиритуалистом; но я осмеливался противоречить ему, вооружившись его же собственными наблюдениями над чисто физической основой разума. Оба мы были правы. Быть может, материализм и спиритуализм выражают две стороны одного и того же факта. Исследования Ламбера о субстанции мысли заставляли его со своеобразной гордостью принимать жизнь, полную лишений, на которую нас обрекали леность и пренебрежение к школьным занятиям. У него было сознание собственной ценности, которое поддерживало в нем стремление мыслить и рассуждать. С какой нежностью ощущал я воздействие его души на мою! Сколько раз мы сидели на нашей скамейке, читая одну и ту же книгу и, не разлучаясь, забывали друг о друге, но в то же время чувствовали, что оба вместе мы погружены в океан идей, как две рыбы, плавающие в одних и тех же водах! Извне наша жизнь казалась растительной, но мы существовали только сердцем и разумом! Чувства и мысли были единственными событиями нашей школьной жизни.
Ламбер так сильно влиял на мое воображение, что я до сих пор чувствую это влияние. Я слушал его рассказы, погружавшие в атмосферу чудесного, с таким же наслаждением и жадностью, с каким и дети и взрослые поглощают сказки, в которых действительность принимает самые нелепые формы. Его страсть к таинственному и естественная в детском возрасте доверчивость заставляли нас часто говорить о рае и аде. Тогда Луи, объясняя мне Сведенборга, пытался заставить меня разделить его верования в ангелов. В самых ложных рассуждениях Ламбера встречались и тогда изумительные наблюдения над могуществом человека; именно они придавали его словам тот облик правдивости, без которого ничего нельзя создать ни в каком искусстве. Он рисовал романтический конец судьбам человечества, и это подогревало его склонность отдаваться верованиям, свойственным девственному воображению. Разве не в эпоху своей юности народы создают себе идолов и догмы? А сверхъестественные существа, перед которыми они трепещут, – разве они не воплощают в преувеличенном виде их собственные чувства, их потребности? То, что осталось в моей памяти от моих поэтических разговоров с Ламбером относительно шведского пророка, произведения которого позже я прочел из любопытства, может быть кратко сведено к следующему.
В человеке соединяются два различных существа. По Сведенборгу, ангел – это человек, в котором духовное существо победило материальное. Если человек хочет следовать призванию быть ангелом, он должен, как только мысль раскроет ему двойственность его бытия, стремиться развивать тончайшую природу живущего в нем ангела. Если ему не удалось обрести просветленное знание своего будущего, он дает возможность возобладать материальному началу вместо того, чтобы укреплять свою духовную жизнь, все его силы уходят на игру внешних чувств, и от материализации этих двух начал ангел постепенно погибает. В противном случае, если человек будет поддерживать свой внутренний мир необходимыми ему эссенциями, дух начинает преобладать над материей и пытается от нее отделиться. Когда это отделение происходит в той форме, которую мы называем смертью, ангел достаточно сильный, чтобы освободиться от своей оболочки, продолжает существовать и начинает свою настоящую жизнь. Наличие бесконечного числа отличающихся друг от друга индивидуальностей может быть объяснено только этой двойственностью бытия, они дают возможность понять и доказать ее. Действительно, расстояние между человеком, чей бездеятельный ум обрекает его на очевидную тупость, и тем, кого внутреннее зрение одарило известной силой, заставляет нас предположить, что между гениальными людьми и остальными может существовать такая же разница, какая отделяет зрячих от слепых. Эта мысль, бесконечно расширяющая мироздание, в некотором смысле дает ключ к небесам. Внешне кажется, что на земле все эти существа смешаны друг с другом, на самом же деле они разделены на различные сферы в зависимости от совершенства их внутреннего мира. В этих сферах все различно: и нравы и язык.








