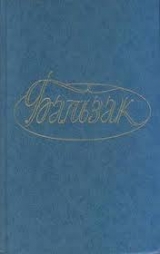
Текст книги "Луи Ламбер"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Оноре де Бальзак
Луи Ламбер
Луи Ламбер родился в 1797 году в маленьком городке Вандомского департамента Монтуаре, где у его отца был небольшой кожевенный завод. Отец хотел сделать сына своим преемником, но рано проявившееся у Луи стремление к науке изменило отцовские планы. А так как фабрикант и его жена обожали Луи, как обожают единственного сына, то они ни в чем ему не противоречили. Ветхий и Новый завет попали в руки мальчика, когда ему было всего пять лет; и эти две книги, в которых заключено столько книг, определили его судьбу. Мог ли он постичь своим детским воображением таинственную глубину Писания? Мог ли он следовать за полетом святого духа через миры? Или же он пленился только романтическим очарованием, насыщающим эти восточные поэмы? Или по-детски невинная душа его прониклась высокой благодатью, которой божественные руки освятили эти книги? Для некоторых читателей наше повествование будет ответом на эти вопросы. Во всяком случае, первое чтение библии имело одно следствие: Луи ходил по всему Монтуару в поисках книг; он получал их, потому что тайне детского обаяния никто не может противостоять. Отдаваясь всей душой занятиям, которыми никто не руководил, он достиг десятилетнего возраста. В эту эпоху заместителей призывников найти было трудно, многие богатые семьи нанимали их заранее, чтобы не оказаться без заместителя к моменту жеребьевки. Ничтожные средства кожевенников не позволяли им нанять человека для замены сына, поэтому они нашли, что принятие духовного сана – единственный дозволенный законом путь освобождения от рекрутского набора. В 1807 году они послали его к дяде с материнской стороны, священнику Мера, маленького городка, расположенного на Луаре около Блуа. Это удовлетворяло и страсть Луи к науке и желание родителей не подвергать его ужасам войны; любовь к исследованиям и раннее развитие давали надежду, что Луи сделает блестящую карьеру на церковном поприще. Пробыв около трех лет у дяди, довольно образованного старого ораторианца [3]3
Ораторианец– член религиозного общества Ораторианцев, основанного в Западной Европе в XVI веке и получившего свое название от ораторий – молитвенных домов. Ораторианцы имели много коллежей, пытались приспособить науку и философию к целям пропаганды католицизма.
[Закрыть], Луи уехал от него в начале 1811 года, чтобы поступить в Вандомский коллеж [4]4
Вандомский коллеж.– Здесь и далее Бальзак вспоминает свои ученические годы в Вандомском коллеже, где он пробыл с 1807 по 1813 год.
[Закрыть], куда он был помещен и где содержался на средства госпожи де Сталь [5]5
Г-жа де Сталь, Жермена (1766—1817) – французская либеральная писательница; автор романтических романов «Коринна» и «Дельфина»; выступала против диктатуры Наполеона, который изгнал ее из Франции. Госпожа де Сталь вернулась на родину лишь после падения Наполеона.
[Закрыть].
Ламбер оказался под покровительством этой знаменитой женщины благодаря случаю, или, вернее, провидению, которое всегда расчищает дорогу беспризорному гению. Но для нас, чей взгляд скользит только по поверхности человеческого мира, эти случайности, которых так много бывает в жизни великих людей, кажутся результатом вполне естественного явления: ведь для большинства биографов голова гениального человека поднимается над массой других голов, как красивое растение, и своим очарованием притягивает глаза ботаника, блуждающего по полям.
Это сравнение подходит к истории Луи Ламбера, проводившего в доме родителей все время, которое его дядя давал ему для отдыха; но вместо того, чтобы по обычаю большинства школьников предаться радостям чудесного far niente [6]6
Безделье ( итал.).
[Закрыть], притягивающего нас во всяком возрасте, он с раннего утра брал хлеб и книги и отправлялся читать и размышлять в лесную чащу, чтобы избежать наставлений матери, которой такие упорные занятия казались опасными. Инстинкт матери всегда безошибочен. С этого времени чтение для Луи стало чем-то вроде жажды, которую ничто не могло утолить; он поглощал книги любого рода и в равной мере питался сочинениями религиозными, историческими, философскими, физико-математическими. Он говорил мне, что испытывал несказанное наслаждение, читая словари, если не было под рукой других книг, и я ему охотно верил. Какой школьник не находил удовольствия в поисках возможного значения неизвестного ему существительного? Анализ слова, его общего смысла, его истории был для Ламбера источником длительных размышлений. Но они не были похожи на те инстинктивные размышления, с помощью которых ребенок привыкает к явлениям жизни, пытается понять моральную и физическую сущность бытия. Такая непроизвольная культура позже сказывается и в способности мыслить и в характере. В отличие от этого Луи с проницательностью дикаря постигал явления и объяснял их, раскрывая самые основы и одновременно делая выводы. Так, благодаря устрашающей игре, которую иногда позволяет себе природа, о чем свидетельствовала необычность такого существа, как Луи, он мог уже в четырнадцать лет легко формулировать идеи, глубина которых стала мне понятна много лет спустя.
– Часто, – говорил он мне, вспоминая о своих чтениях, – я совершал пленительные путешествия в бездны прошлого вслед за одним словом, как насекомое, примостившееся на травинке, плывущей по течению реки. Покинув Грецию, я прибывал в Рим, затем проходил через все последующие века. Какую прекрасную книгу можно написать, рассказывая о судьбе и приключениях одного слова! Конечно, оно получало различные оттенки благодаря событиям, которым служило; в зависимости от места действия оно пробуждало различные идеи; но разве не важнее рассмотреть его в трех разных отношениях: души, тела и движения? А наблюдать за ним, отвлекшись от его функций, его следствий, его воздействия, разве не значит утонуть в целом океане размышлений? Разве большинство слов не окрашено той идеей, которую они внешне выражают? Какой гений создал их? Если нужен великий ум, чтобы создать слово, то какой же возраст у человеческого языка? Сочетание букв, их форма, образ, который они придают слову, точно рисуют, по-разному у каждого народа, неведомые существа, живущие в наших воспоминаниях. Кто объяснит нам по-философски переход от ощущения к мысли, от мысли к слову, от слова к его иероглифу, от иероглифа к алфавиту, от алфавита к письменной речи, красота которой раскрывается в системе образов, расклассифицированных риторами и являющихся как бы иероглифами мысли? Разве древняя запись человеческих идей в зоологических образах не определила первые знаки, которыми воспользовался Восток, чтобы создать письменность на своих языках? И разве она не оставила по традиции кое-какие следы в наших новых языках, поделивших между собой осколки первоначального языка древних наций, языка величавого и торжественного, и величие и торжественность которого уменьшаются тем сильнее, чем больше стареет общество? Звуки этого языка так звонки и полнозвучны в иудейской библии, еще так красивы в Греции, но гаснут по мере прогресса наших сменяющих друг друга цивилизаций. Не этому ли древнему духу мы обязаны тайнами, скрытыми в человеческом слове? Разве не существует в слове «прав» нечто вроде волшебной прямоты? Не содержится ли в необходимом для него кратком звучании неясный образ целомудренной обнаженности, простоты истинного во всех смыслах? Этот слог дышит какой-то свежестью. Я взял как пример формулу абстрактной идеи, не желая объяснять эту проблему словом, которое сделало бы ее понимание слишком легким, как, например, слово «лёт», сразу действующее на непосредственное ощущение. И разве это происходит не с каждым словом: все они носят отпечаток животворящей власти, которой наделяет их человеческая душа и возвращает ей эту власть благодаря таинственному взаимодействию между словом и мыслью! Разве не говорят, что любовник пьет с губ возлюбленной столько же любви, сколько ей отдает? Одним своим внешним обликом слова пробуждают в нашем сознании образ тех созданий, которым служат одеждой. Как и для всех существ, для них есть только одна среда, где они могут действовать и развиваться. Но эта проблема, быть может, заключает в себе целую науку!
И он пожимал плечами, точно хотел сказать мне: мы и слишком велики и слишком ничтожны!
Страсть Луи к чтению могла быть полностью удовлетворена. У кюре Мера имелось две-три тысячи томов. Это сокровище он приобрел во время революции, когда громили соседние замки и монастыри. В качестве присягнувшего революции священника [7]7
В качестве присягнувшего революции священника.– В период французской буржуазной революции 1789 года священники обязывались принести присягу на верность республике и конституции; отказавшиеся от принесения присяги лишались права совершать богослужение.
[Закрыть]добряк мог выбрать лучшие произведения из драгоценных собраний, продававшихся на вес. В течение трех лет Луи Ламбер освоил все наиболее существенное в заслуживающих прочтения книгах из дядиной библиотеки. Поглощение мыслей путем чтения сделалось у него весьма любопытным процессом: его глаз охватывал одновременно семь-восемь строчек, а ум впитывал их смысл с той же быстротой, как и взгляд; часто одного слова в фразе было для него достаточно, чтоб впитать весь ее сок. У него была потрясающая память. Он так же ясно помнил мысли, приобретенные во время чтения, как и те, которые были подсказаны ему размышлением или собеседованием. Он обладал всеми видами памяти: он запоминал местность, имена, слова, вещи и лица. Он не только по желанию вспоминал любые предметы, но ясно видел их расположение, освещение, расцветку, как в тот момент, когда он на них смотрел. Эта способность распространялась точно так же на самые неуловимые оттенки познания. Он утверждал, что помнит не только расположение мысли в книге, откуда он ее взял, но даже свои настроения в те давние времена. У него был особый, неслыханный дар восстанавливать в памяти развитие мысли и всю свою духовную жизнь – от первой, воспринятой им идеи до самой последней, чуть расцветшей, от самой смутной до наиболее отчетливой. Его мозг, с ранних лет привыкший к трудному механизму концентрации человеческих сил, извлекал из этого богатого хранилища бесчисленное количество образов, восхитительных по своему реализму и свежести, которыми он и питался во время своих проникновенных созерцаний.
– Когда хочу, я опускаю на глаза вуаль, – говорил он мне на своем особом языке, которому сокровища его памяти придавали неожиданную оригинальность. – Внезапно я погружаюсь в самого себя и нахожу темную комнату, где явления природы раскрываются в более чистой форме, чем та, в которой они появились сначала перед моими внешними чувствами.
К двенадцати годам его воображение, возбужденное постоянным упражнением всех его способностей, необыкновенно развилось, и это позволяло ему получать такие точные представления о вещах, которые он познавал только через книги, что образ, запечатлевавшийся в его душе, не мог быть более живым и при непосредственном наблюдении. Он достигал этого, быть может, потому, что пользовался аналогиями, или потому, что был одарен вторым зрением, с помощью которого он охватывал всю природу.
– Читая описание битвы при Аустерлице [8]8
Битва при Аустерлице.– 2 декабря 1805 года под Аустерлицем в Моравии (Чехословакия) австрийская и русская армии потерпели поражение в сражении с Наполеоном.
[Закрыть], – сказал он мне однажды, – я увидел ее во всех подробностях. Пушечные залпы, крики сражающихся звучали у меня в ушах и заставляли все внутри сжиматься; я чувствовал запах пороха, слышал ржанье лошадей и голоса людей; я любовался равниной, где сталкивались вооруженные народы, как если бы стоял на возвышенности Сантона. Это зрелище показалось мне таким же устрашающим, как видения Апокалипсиса [9]9
Апокалипсис– одна из книг христианского «Нового завета», содержащая мистические «пророчества», рисующая ужасы и страшные бедствия, якобы предстоящие миру.
[Закрыть].
Когда он отдавал все свои силы чтению, то терял до некоторой степени ощущение физической жизни и существовал только во всесильной игре своего внутреннего мира, который необычайно расширялся; он оставлял, по его собственным словам, «пространство за собой». Но я не хочу предварять все фазы его интеллектуальной жизни. Помимо моей собственной воли, я нарушил порядок, в котором должен развернуть историю этого человека, перенесшего все свои действия в область мысли, как иные отдают всю свою жизнь действию.
К сочинениям мистического характера у него была просто непреодолимая склонность.
– Abyssus abyssum [10]10
Бездна бездн ( лат.).
[Закрыть]– говорил он мне.
Наш дух – бездна, и ему нравится погружаться в бездну. Дети, мужчины, старики – мы все увлекаемся тайнами, в каком бы виде они перед нами ни появлялись.
Эта склонность была для него роковой, если, конечно, можно судить о его жизни по обычным законам и измерять счастье других по собственной мерке или подчиняясь общественным предрассудкам. Эта склонность к потустороннему, или, по тому выражению, которое он часто употреблял, к mens divinior [11]11
Дух божественного ( лат.).
[Закрыть], возникла, быть может, под влиянием на его внутренний мир первых книг, прочитанных у дяди. Святая Тереза и г-жа Гюйон [12]12
Г-жа Гюйон, Жанна-Маряя (1648—1717) – автор религиозно-мистических сочинений.
[Закрыть]продолжили для него библию, он отдал им первые плоды своего созревавшего разума, и они приучили его к тем живым откликам души, проявлением и результатом которых становится экстаз. Эти изучения, эта склонность возвысили его сердце, очистили его, облагородили, возбудили в нем страсть к божественной природе, научили его почти женской утонченности, которая бессознательно возникает у великих людей; быть может, высшим проявлением духа является отличающая женщину необходимость самоотверженности, только перенесенная в сферу возвышенного. Благодаря этим первым впечатлениям Луи остался целомудренным в коллеже. Эта благородная девственность чувства неизбежно привела к усилению горячности в его крови и обострению возможностей его мысли.
Баронесса де Сталь, высланная из Парижа и удаленная от него на сорок лье, пожелала провести несколько месяцев изгнания в поместье, расположенном около Вандома. Прогуливаясь однажды, она встретила на опушке парка сына кожевенника, ребенка, одетого почти что в лохмотья и поглощенного чтением. Он читал перевод книги «Небо и ад» [13]13
«Небо и ад»– основное произведение шведского философа-мистика Эммануила Сведенборга (1688—1772). Сведенборг утверждал, что будто бы существует невидимый мистический мир, населенный ангелами, которые занимают промежуточное положение между людьми и божествами.
[Закрыть]. В этот период во всей французской империи только господа Сен-Мартен [14]14
Сен-Мартен, Луи-Клод (1743—1803) – французский философ-мистик. Воздействие философских взглядов Сен-Мартена на Бальзака проявляется в «Луи Ламбере» и «Серафите».
[Закрыть], де Жане [15]15
Жане, Жан-Батист (1755—1840) – французский поэт, увлекавшийся мистикой.
[Закрыть]и некоторые другие французские писатели, наполовину немцы по происхождению, знали имя Сведенборга. Крайне удивленная г-жа де Сталь с обычной резкостью, которую она намеренно подчеркивала в вопросах, взглядах и жестах, взяла книгу; потом, бросив взгляд на Ламбера, спросила:
– Разве ты понимаешь это?
– Вы молитесь богу? – спросил, в свою очередь, мальчик.
– Ну... конечно...
– А вы его понимаете?
Баронесса несколько мгновений ошеломленно молчала, потом она села около Ламбера и начала с ним разговаривать. К несчастью, моя память, вообще неплохая, не может сравниться с памятью моего товарища, и я совершенно все забыл из этого разговора, кроме первых слов. Эта встреча сильно поразила г-жу де Сталь; вернувшись в замок, она говорила о ней мало, хотя необходимость высказаться у нее обычно выражалась красноречивыми излияниями; но она была очень озабочена этим разговором. Единственный сохранивший воспоминание об этом событии живой свидетель, которого я спрашивал, чтобы узнать хотя бы несколько слов, вырвавшихся тогда у г-жи де Сталь, с трудом вспомнил, что баронесса сказала о Ламбере: это настоящий ясновидец. В глазах светских людей Луи не оправдал прекрасных надежд своей покровительницы. Временную благосклонность к нему рассматривали как женский каприз, как одну из фантазий, свойственных художникам. Г-жа де Сталь хотела отнять Луи Ламбера и у императора и у церкви, чтобы направить его к благородным целям, которые, по ее словам, были ему предназначены; она воображала его каким-то новым Моисеем, спасенным из воды. Перед отъездом она поручила одному из своих друзей, г-ну де Корбиньи, который в то время был префектом в Блуа, в положенное время поместить ее Моисея в Вандомский коллеж; потом она его, по всей вероятности, забыла.
Ламбер поступил в коллеж четырнадцати лет, в начале 1811 года, и должен был выйти из него, закончив курс философии, в конце 1814 года. Я сомневаюсь, чтобы во время обучения его благодетельница хоть раз дала о себе знать, и можно ли считать подлинным благодеянием то, что она три года оплачивала содержание мальчика, не думая о его будущем и заставив его сойти с того жизненного пути, на котором он, быть может, нашел бы свое счастье! Условия эпохи и характер Луи Ламбера могут вполне оправдать и беззаботность и щедрость г-жи де Сталь. Человек, выбранный посредником между нею и мальчиком, покинул Блуа в тот момент, когда Луи кончил коллеж. Последующие политические события оправдывают равнодушие этого человека к протеже баронессы. Автор Коринныничего больше не услышал о своем маленьком Моисее. Сто луидоров, данных ею г-ну де Корбиньи, который, мне кажется, умер в 1812-м, не были настолько крупной суммой, чтобы пробудить воспоминания г-жи де Сталь, восторженная душа которой повсюду находила себе пищу, а все интересы поглощали события 1814—1815 годов [16]16
События 1814—1815 годов– то есть отречение Наполеона I, первая Реставрация Бурбонов, период «Ста дней», когда Наполеон вновь вернулся к власти, и его вторичное отречение.
[Закрыть]. Луи Ламбер в эти годы был и слишком беден и слишком горд, чтобы разыскивать свою благодетельницу, путешествовавшую по всей Европе. Тем не менее он пошел пешком из Блуа в Париж, чтобы повидать ее, и, к несчастью, пришел в тот самый день, когда баронесса умерла. Два письма, написанные Ламбером, остались без ответа. Воспоминание о добрых намерениях г-жи де Сталь в отношении Луи удержались только в нескольких юных умах, пораженных, как и я, этой удивительной историей. Нужно было быть в нашем коллеже, чтобы понять, какое впечатление обычно производило на нас появление новичкаи то особое чувство, которое должна была вызвать история Ламбера.
Здесь необходимо дать некоторые объяснения по поводу основных законов нашего учреждения, наполовину военного, наполовину религиозного, чтобы рассказать о новой жизни, которой предстояло теперь жить Ламберу.
Перед революцией орден ораторианцев, посвятивший себя так же, как и иезуитский, народному просвещению, унаследовавший от него некоторые школы, обладал многочисленными учреждениями в провинции, из которых наиболее значительными являются коллежи: Вандомский, Турнон, Ла Флеш, Пон-Левуа, Соррез, Жюйи. В Вандомском коллеже, как, впрочем, и в других, воспитывалось, если не ошибаюсь, некоторое количество младших сыновей, предназначенных для службы в армии. Декрет Конвента об увольнении преподавательского состава очень мало повлиял на устав Вандомского коллежа. Когда первый кризис прошел, коллеж водворился в своем прежнем помещении. Некоторые члены конгрегации [17]17
Конгрегация– объединение католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; во время Реставрации были важнейшими проводниками политической реакции.
[Закрыть], разбредшиеся по окрестностям, вернулись назад и восстановили коллеж, сохранив старый устав, привычки, традиции и нравы, придававшие ему тот особый облик, которого не было ни у одного из тех лицеев, где мне довелось побывать после Вандомского коллежа.
Расположенный посередине города на речушке Луар, омывающей его здания, коллеж образует большую, заботливо отгороженную территорию, где находятся все здания, необходимые для такого рода учреждений, – часовня, театр, лазарет, булочная, а также сады и источники. В этот коллеж, самое знаменитое воспитательное заведение из всех имеющихся в центральных провинциях, поступала молодежь из провинций и колоний. Дальность расстояния не давала возможности родителям часто посещать своих детей.
Кроме того, правила запрещали отпуск на каникулы. Поступив в коллеж, учащиеся покидали его только по окончании курса. За исключением прогулок под наблюдением отцов-воспитателей, все было рассчитано так, чтобы в этом учреждении господствовала монастырская дисциплина. В мое время еще сохранилось живое воспоминание об отце-корректоре, а традиционный кожаный ремень с честью выполнял свою грозную роль. Наказания, изобретенные когда-то иезуитами, одинаково ужасные как в моральном, так и в физическом отношении, сохранялись полностью по старой программе. Письма к родным в определенные дни были обязательны, так же как исповедь. Таким образом, наши грехи и наши чувства были строго регламентированы. Все носило отпечаток монастырского распорядка. Я вспоминаю среди прочих остатков старых установлений инспекцию, которой мы подвергались каждое воскресенье. Мы надевали парадную форму, выстраивались, как солдаты, в ожидании двух директоров, которые в сопровождении поставщиков и учителей вели тройное обследование: костюма, гигиены, морали.
Двести – триста учащихся, которых мог вместить коллеж, были разделены по старинному обычаю на четыре секции, называемые маленькие, младшие, средние и старшие. Секция малышей включала так называемые восьмой и седьмой классы; секция младших – шестой, пятый и четвертый; секция средних – третий и второй; наконец, старшая секция изучала риторику, философию, специальную математику, физику и химию. Каждая из этих особых секций имела свое здание, свои классы и свой двор на большом общем участке, куда можно было выйти из учебных комнат и который доходил до столовой. Эта столовая, достойная старого монастырского ордена, вмещала всех учащихся. В противоположность правилам других учебных заведений нам разрешалось разговаривать во время еды, ораторианская терпимость позволяла обмениваться блюдами по нашему вкусу. Этот гастрономический обмен всегда был одним из самых больших удовольствий нашей жизни в коллеже. Если кто-нибудь из среднего класса, посаженный во главе стола, предпочитал порцию красного гороха десерту, потому что нам давали и десерт, тотчас предложение – «десерт за горох» – передавалось из уст в уста, пока какой-нибудь сладкоежка не принимал предложения и не посылал свою порцию гороха, и она передавалась из рук в руки, пока не доходила до предложившего обмен, и тем же путем отправлялся десерт. Ошибок никогда не бывало. Если возникало несколько предложений подобного рода, то они нумеровались, тогда говорили: «Первый горох за первый десерт». Столы были длинные, наши непрерывные передачи приводили все в движение; и мы разговаривали, и ели, и действовали с необычайной живостью. Болтовня трехсот молодых людей, приход и уход слуг, менявших тарелки, подававших блюда, приносивших хлеб, надзор директоров создавали из вандомской столовой единственное в своем роде зрелище, которое всегда удивляло посетителей.
Чтобы несколько скрасить нашу жизнь, лишенную всякого общения с внешним миром, всякого семейного баловства, отцы разрешали нам держать голубей и сажать сады. Двести – триста шалашей, тысяча голубей, угнездившихся вокруг каменной ограды, и около тридцати садов представляли зрелище не менее интересное, чем наши трапезы. Но было бы слишком скучно рассказывать все детали, которые делают из Вандомского коллежа особое учреждение, оставляющее массу воспоминаний в тех, кто провел в нем свое детство. Кто из нас, несмотря на все горести учения, не вспоминает с наслаждением диковинных сторон нашей монастырской жизни? Сладости, купленные втихомолку во время прогулок, разрешение играть в карты и устраивать спектакли во время каникул, мелкое воровство и вольности, порожденные одиночеством; еще ярче вспоминается военная музыка, последние следы военного обучения; наша академия, капеллан, отцы-учителя; наконец, наши особые игры, разрешенные или запрещенные: гонки на ходулях, скольжение по ледяным зимним дорожкам, стук наших галльских деревянных подошв и главным образом товары в лавочке, устроенной у нас на дворе. Эту лавочку содержал своего рода мэтр Жак [18]18
Мэтр Жак– персонаж комедии Мольера «Скупой», служивший своему хозяину Гарпагону одновременно и кучером и поваром; в переносном смысле – мастер на все руки.
[Закрыть]; у него, согласно проспекту, и дети и взрослые могли купить ящики, сапоги на деревянных подошвах, инструменты, голубей с ожерельями и мохноногих, требники (этот товар покупали редко), перочинные ножи, бумагу, перья, карандаши, чернила всех цветов, мячи, шарики – одним словом, целый мир увлекательных ребячьих вещей, заключавших все – от соуса из голубей, которых приходилось убивать, до горшочков, где мы хранили рис, оставлявшийся от ужина для того, чтобы позавтракать на следующий день. Кто из нас настолько несчастен, что забыл, как билось у него сердце при виде этой лавочки, открывавшейся периодически в течение воскресных каникул, где мы поочередно тратили отпущенные нам деньги; но так как средства, полученные от родителей на мелкие удовольствия, были очень скромны, нам приходилось выбирать между этими вещами, столь соблазнительными для наших душ. Молодая супруга, которой муж дарит двенадцать раз в год кошелек с золотом – роскошный бюджет ее прихотей, – мечтала ли так страстно в первые дни медового месяца о различных покупках, которые поглотят эту сумму, как мечтали мы накануне первого воскресенья каждого месяца? В ночных сновидениях мы за шесть франков обладали всеми сокровищами неистощимой лавочки; а во время мессы громкие ответы, которые нам приходилось давать на возгласы священника, прерывали наши тайные подсчеты. Кто из нас может вспомнить, что у него хоть раз осталось несколько су на покупки во второе воскресенье? Наконец, кто не подчинялся уже тогда социальным законам, то жалея тех париев, которых скупость или семейные несчастья оставляли без денег, то помогая им, то презирая их?
Если кто хочет вообразить себе уединенность большого коллежа с его монастырскими зданиями, в центре маленького города, четыре парка, в которых мы размещались по иерархии, тот ясно представит себе, какой интерес возбуждало в нас появление новичка, нового пассажира, попавшего на корабль. Никогда ни одна юная герцогиня, представленная ко двору, не подвергалась такой язвительной критике, какой подвергался поступивший новичок со стороны всего своего отделения. За нами присматривали поочередно через неделю два отца-воспитателя, и обычно в течение вечерней рекреации перед молитвой льстецы, привыкшие беседовать с одним из этих воспитателей, первые слышали слова: «Завтра у вас будет «новичок»!» И тогда внезапно крик: «Новичок! Новичок!» – начинал звенеть по всем дворам. Мы сбегались со всех сторон, собираясь толпой вокруг учителя, и тотчас забрасывали его вопросами: «Откуда он? Как его зовут? В каком классе он будет?»
Вокруг появления Луи Ламбера создалась сказка, достойная «Тысячи и одной ночи». Я тогда был в четвертом, среди младших. Нашими учителями были два мирянина, хотя мы их по традиции называли отцами. В мое время в Вандоме было только три настоящих ораторианца, которым это звание принадлежало законно: в 1814 году они покинули коллеж, который постепенно переходил в ведение государства, и обрели приют у алтарей деревенских приходов, наподобие кюре из Мера. Отец Огу, дежурный воспитатель этой недели, был довольно славный человек, но не обладал обширными знаниями; у него не было необходимого такта, чтобы понять различные детские характеры и назначать наказания, считаясь с их возможностями. Отец Огу весьма охотно начал рассказывать о поразительных событиях, благодаря которым у нас на следующий день должен был появиться самый необыкновенный новичок. Тотчас же все игры прекратились, все младшие молча столпились, чтобы выслушать историю Луи Ламбера, найденного г-жой де Сталь в лесу, словно осколок метеорита. Г-н Огу вынужден был нам рассказать и о г-же де Сталь: весь вечер я воображал ее ростом в десять футов; потом я видел картину «Коринна», где Жерар изобразил ее очень высокой и очень красивой; увы, идеальная женщина, созданная моим воображением, превосходила ее настолько, что настоящая госпожа де Сталь совсем померкла в моем сознании даже после чтения ее совершенно мужской книги «О Германии». Но Ламбер представлялся нам настоящим чудом: когда г-н Марешаль, заведующий учебной частью, проэкзаменовал его, то он, по словам отца Огу, даже колебался, не поместить ли его к старшим. Ламбер слабо знал латынь, поэтому пришлось оставить его в четвертом классе, но он, конечно, каждый год будет перепрыгивать через класс, и в виде исключения его должны были бы принять в академию.
Мы будем иметь честь видеть среди младших платье, отмеченное красной ленточкой, которую носили академики Вандома. Академики пользовались блестящими преимуществами: они часто обедали за столом директора и дважды в год устраивали свои литературные вечера, на которых мы присутствовали и таким образом знакомились с их произведениями.
Академик – это великий человек в миниатюре. Если любой вандомец будет совершенно искренен, он признается, что впоследствии настоящий академик настоящей французской Академии казался ему не таким удивительным, как ребенок-гигант, отмеченный крестом и драгоценной, неоценимой красной ленточкой нашей академии. Трудно было стать членом этой прославленной группы, не достигнув второго класса, так как академики должны были во время каникул по четвергам устраивать публичные собрания и читать нам повествования в стихах или в прозе, послания, трактаты, трагедии, комедии, а разумению младших классов подобное творчество считалось недоступным. Я долго помнил одну сказку под названием «Зеленый осел», по-моему, наиболее выдающееся произведение этой безвестной академии. Ученик четвертого класса – академик! Среди нас будет жить этот четырнадцатилетний ребенок, уже поэт, любимый г-жой де Сталь, будущий гений, по словам отца Огу; волшебник, способный разобрать тему или перевод за то время, как нас ведут в класс, и выучить все уроки, прочитав их один раз. Луи Ламбер спутал все наши мысли. Любопытство отца Огу, нетерпеливое стремление увидеть новичка, которое он проявлял, еще больше воспламеняли наше пылкое воображение.
– Если у него есть голуби, для него не хватит шалаша, нет нигде места! Тем хуже! – говорил один из нас, ставший впоследствии знаменитым агрономом.
– А рядом с кем он будет сидеть? – спрашивал другой.
– О, как бы я хотел быть его «фезаном»! – взволнованно восклицал третий.
На языке нашего коллежа слово «фезан» (в других местах говорят «копен») является трудно переводимым выражением. Оно означает братский раздел радостей и горестей нашей детской жизни, близость интересов, порождавшую ссоры и примирения, договор оборонительного и наступательного союза. Странно подумать! Никогда в мое время не случалось, чтобы «фезанами» оказывались два родных брата. Если человек живет только чувством, может быть, он боится обеднить себя, смешивая обретенную привязанность с естественной.
Впечатление, которое произвели на меня речи отца Огу в этот вечер, осталось самым ярким впечатлением моего детства, и я могу сравнить его только с чтением «Робинзона Крузо».
Позже, при воспоминании об этих исключительных переживаниях, у меня возникла, быть может, совсем новая мысль о различных эффектах, которые производят слова в различных умах. В слове нет ничего абсолютного, мы больше воздействуем на него, чем оно воздействует на нас; его сила в образе, который мы в нем видим или в него вкладываем; но исследование этого явления требует пространных и неуместных здесь рассуждений. Так как я не мог спать, то вел длительный спор со своим соседом по дортуару относительно исключительного существа, которое появится среди нас завтра. Этот сосед, Баршу де Пенхоэн, который впоследствии некоторое время был офицером, а теперь стал писателем большой философской глубины, не изменил ни своему предназначению, ни случайности, соединившей в одном и том же классе, на той же самой парте, под той же самой крышей тех двух единственных учеников, о которых Вандом слышит до сих пор; ибо в тот момент, когда была опубликована эта книга, наш товарищ Дюфор еще не вступил на общественную дорогу в парламенте. Недавний переводчик Фихте, комментатор и друг Баланша, уже занимался так же, как и я, метафизическими вопросами; он часто городил вместе со мной всякий вздор о боге, о нас самих и о природе. Тогда он претендовал на звание пиррониста. Ревниво стремясь играть свою роль, он отрицал способности Ламбера; а так как я только что прочел «Знаменитых детей», я засыпал его доказательствами, указывая на маленького Монкальма, Пико делла Мирандола, Паскаля [19]19
Монкальм, Пико делла Мирандола, Паскаль– крупные мыслители и ученые, выдающиеся способности которых проявились уже в очень раннем возрасте. Пико делла Мирандола(1463—1494) – итальянский гуманист, философ, поэт. ПаскальБлэз (1623—1662) – французский философ, писатель, математик, физик, установил закон распространения давления в жидкостях (закон Паскаля).
[Закрыть]– словом, на все рано созревшие умы. Все это были известные аномалии в истории человеческого духа и предшественники Ламбера. В то время я ужасно пристрастился к чтению. Отец мой хотел направить меня в политехническую школу, и потому он дополнительно оплачивал частные уроки по математике. Мой репетитор, библиотекарь коллежа, разрешил мне пользоваться книгами и не слишком следил за тем, что именно я уносил из библиотеки, из тихого убежища, куда во время каникул я ходил к нему брать уроки. Я думаю, что он или не умел давать их, или был очень занят каким-то серьезным делом, потому что он мне охотно позволял читать в урочное время, а сам работал, не знаю над чем. Таким образом, между нами был молчаливо заключен договор: я не жаловался на то, что ничему не учусь, а он молчал по поводу того, что я брал книги. Увлеченный этой несвоевременной страстью, я пренебрегал уроками, сочиняя поэмы, которые, конечно, не много обещали, если судить по одной знаменитой среди моих товарищей слишком длинной стихотворной строчке, которой начиналась эпопея об Инках [20]20
Эпопея об Инках– автобиографический эпизод, о котором упоминает в своих воспоминаниях сестра Бальзака, Лора де Сюрвиль. Инки– древнейший народ Мексики, уничтоженный испанскими завоевателями.
[Закрыть]:








