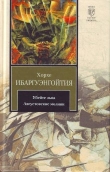Текст книги "Депутат от Арси"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Назначив в приданое Сесили-Ренэ пятьдесят тысяч франков ренты, супруги Бовизаж оставляли себе эти два наследства, тридцать тысяч франков ренты и дом в Арси. После смерти маркизы де Сен-Синь Сесиль, разумеется, могла бы выйти замуж за молодого маркиза, но цветущее здоровье этой женщины, которая в шестьдесят лет все еще была чуть ли не красавицей, подрывало в корне все надежды, если даже они и успели пустить ростки в сердцах Гревена и его дочери, как утверждали некоторые добрые люди, не скрывавшие своего удивления по поводу того, что даже такие достойные претенденты, как супрефект и прокурор, получили отказ.
Дом Бовизажей, один из самых красивых в Арси, стоит на площади дю-Пон, там, где улицу Видбурс пересекает улица дю-Пон, выходящая на Церковную площадь. Хотя при доме нет ни двора, ни сада, как у многих провинциальных домов, он все же имеет довольно внушительный вид, невзирая на свои безвкусные украшения. Низкая двустворчатая дверь выходит на площадь. Из окон нижнего этажа, что глядят на улицу, видна гостиница «Почтовая», а из тех, что обращены к площади, открывается довольно живописный вид на реку Об, по которой ниже моста уже ходят суда. На том берегу, за мостом, видна другая площадь, поменьше, где живет г-н Гревен; оттуда начинается дорога на Сезанн. И со стороны улицы и со стороны площади дом Бовизажей, аккуратно выкрашенный белой краской, производит впечатление каменного. Высокие решетчатые ставни, резные наличники на оконных рамах – все придает этому жилищу какой-то своеобразный характер, не лишенный известного благородства, которое отличает его от жалких домишек Арси, в большинстве случаев деревянных, но покрытых какой-то особой штукатуркой, затем чтобы дерево не уступало в прочности камню. Впрочем, дома эти не лишены некоторой простодушной наивности хотя бы потому, что каждый строитель или каждый владелец старался по-своему решить задачу, которую представляет собой постройка подобного рода. На обеих площадях, раскинувшихся одна против другой по обе стороны моста, можно видеть образцы этой характерной для здешнего края архитектуры.
Среди ровного ряда домов, что стоят на площади, налево от дома Бовизажей виднеется выкрашенная в темно-красную краску с зелеными ставнями и наличниками невзрачная лавочка Жана Виолета, внука знаменитого фермера из Груажа, одного из главных свидетелей в деле похищения сенатора; после 1830 года Бовизаж передал ему свое предприятие, свою клиентуру и, говорят, даже снабдил его деньгами.
Мост через реку в Арси деревянный. В ста метрах от этого моста, вверх по течению реки Об, виднеется другой мост – плотина с высокими деревянными сооружениями водяной мельницы о нескольких поставах. Пространство между городским мостом и мостом-плотиной, принадлежащим частному владельцу, представляет собой широкую запруду, по берегам которой стоят большие дома. В просвете между домами и над крышами виден холм; на нем высится замок Арси, с парком, садами, каменной оградой и вековыми деревьями, господствующими над верховьями Обы и над тощими лужками на левом ее берегу.
Шум реки, прорывающейся из-за плотины через мельничные колоды, пение колес, взметающих бурливую пену, плеск воды, низвергающейся водопадом, – все это придает оживление улице дю-Пон и представляет резкий контраст со спокойной гладью реки, которая чуть пониже течет между садом г-на Гревена, чей дом стоит у моста, на левом берегу, и пристанью на правом берегу, где разгружаются барки и лепятся у самой воды бедные, но живописные домики. Реку Об видно далеко, она бежит, мелькая между деревьями, которые то стоят одиночками, то сходятся стеной, – большие, маленькие, разнолиственные, самые разнообразные, в зависимости от прихоти хозяев, чьи владения тянутся по берегам.
Дома здесь так непохожи один на другой, что путешественник найдет среди них любые архитектурные образцы всех стран. Так, на северной стороне, на берегу пруда, где полощутся утки, виден дом совершенно южного типа, с покатой желобчатой черепичной крышей, как у итальянских домов; он стоит в глубине маленького садика, разбитого по самому краю обрывистого берега; в саду растут виноградные лозы, два-три деревца и виднеется увитая виноградом беседка. Этот дом напоминает какой-то уголок Рима, – там на берегу Тибра попадаются иной раз вот такие домики. Напротив, на той стороне пруда, стоит большой дом с выступающей крышей, с крытыми галереями, очень похожий на швейцарское шале, а в довершение сходства между домом и прудом расстилается широкий луг, обсаженный по краям тополями, и через него вьется дорожка, усыпанная песком. А там дальше массивные стены замка, который рядом с этими скромными жилищами кажется еще более внушительным, возвращают нас к пышному великолепию старинных домов французской знати.
Несмотря на то, что через обе прилегающие к мосту площади проходит дорога на Сезанн – прескверное шоссе в отвратительном состоянии, – и несмотря на то, что эта площадь – самая оживленная часть города, ибо на улице Видбурс помещается камера мирового судьи и мэрия Арси, – парижанин, попавший сюда, сказал бы, что это удивительно уединенная сельская местность. В этом пейзаже столько наивной простоты, что, например, на площади дю-Пон, прямо против «Почтовой гостиницы», красуется обыкновенный деревенский колодезь. Впрочем, примерно такой же колодезь красовался когда-то на великолепном дворе Луврского дворца.
Самая отличительная черта провинциальной жизни – это необычайная тишина, в которую погружен городок и которая царит всюду, даже в самой оживленной его части. Нетрудно представить себе, какое смятение вызывает здесь всякий приезжий, хотя бы он задержался в Арси всего лишь на несколько часов, с каким жадным вниманием следят за ним высунувшиеся из каждого окошка лица и с какой самозабвенной страстью неустанно шпионят друг за другом обитатели городка. Жизнь здесь подчинена таким монастырским строгостям, что, кроме как в воскресные и праздничные дни, проезжий не увидит ни души ни на бульваре, ни в Аллее Вздохов, ни даже на улице. Теперь всякому будет понятно, почему нижний этаж дома Бовизажей находился на одном уровне с улицей и площадью. Площадь заменяла ему двор. Сидя у окна, бывший чулочник мог одним взглядом окинуть сразу и расстилающуюся перед ним Церковную площадь, и обе площади у моста, и дорогу на Сезанн. Ему видно было, как к «Почтовой гостинице» подъезжают нарочные, как высаживаются путешественники. И наконец, в присутственные дни он мог наблюдать оживленную толкотню возле суда и мэрии. Поэтому Бовизаж не променял бы свой дом и на замок, несмотря на его барский вид, каменные стены и роскошное местоположение.
Войдя в дом Бовизажей, вы оказываетесь в просторной передней, в глубине которой виднеется лестница. Дверь направо ведет в большую гостиную, оба окна которой глядят на площадь, а налево – в роскошную столовую с окнами на улицу. В бельэтаже помещаются жилые комнаты.
Несмотря на богатство Бовизажей, вся их домашняя челядь состояла только из кухарки да горничной – деревенской девушки, в чьи обязанности вменялось глазным образом стирать, гладить и убирать комнаты, а не одевать барыню и барышню, которые, чтобы скоротать время, сами одевали друг друга. Расставшись со своим чулочным предприятием, Филеас расстался также и со своей лошадкой и шарабаном, стоявшим обычно на конюшне «Почтовой гостиницы»; он продал и то и другое.
Когда Филеас вернулся к себе домой, его жена, уже осведомленная о решении, принятом на собрании в доме Жиге, только что надела ботинки и накинула на себя шаль, собираясь пойти к отцу, ибо она не сомневалась, что г-жа Марион не преминет сегодня вечером посвятить ее в свои планы относительно Сесили и Симона. Рассказав жене о смерти Шарля Келлера, Филеас простодушно спросил: «Ну, а ты что скажешь, женушка?», показывая этим, до какой степени он привык во всем считаться с мнением супруги. Засим он уселся в кресло и расположился поудобней, ожидая, что она ему скажет.
В 1839 году г-же Бовизаж было сорок четыре года, но она так превосходно сохранилась, что вполне могла бы дублировать мадемуазель Марс. Если припомнить самую очаровательную Селимену на сцене Французского театра, это даст нам ясное представление о внешности Северины Гревен: те же роскошные формы, то же прелестное личико, та же четкость линий. Но только жена чулочника была маленького роста, и это лишало ее той величественной грации, того кокетливого изящества а ля Севинье, которыми великая актриса запечатлелась в памяти людей, видевших Империю и Реставрацию. Жизнь в провинции и некоторая небрежность в туалете, к которой мало-помалу привыкла Северина за последние десять лет, наложили отпечаток грубости на этот прекрасный профиль, на эти прелестные черты, а излишняя полнота изуродовала ее фигуру, отличавшуюся такой красотой форм в первые двенадцать лет замужества. Но все эти недостатки Северины искупались величественным, надменным и повелительным взором и какой-то особой манерой гордо закидывать голову. Волосы ее, еще черные, длинные и густые, были уложены высокой короной, и эта прическа удивительно молодила ее. У нее были белоснежные плечи и грудь, но все так расплылось и разбухло, что казалось, она с трудом может повернуть шею, ставшую чересчур короткой. И руки у нее были такие же полные и округлые, с красивой, но чересчур пухлой кистью, с маленькими, толстенькими пальчиками. Это было такое обилие пышущей жизнью и здоровьем плоти, что она выпирала даже из ее ботинок, тесно облегавших ее пухлые ноги. Большие серьги в виде колец, по тысяче экю каждая, украшали ее уши. На ней был кружевной чепец с розовыми бантами, платье в талию из тонкой шерстяной матерки в розовую и серую полоску, отделанное внизу зеленой каймой, и с расходящимися полами, из-под которых выглядывала юбка с кружевными оборками. На плечах – зеленая кашемировая шаль, расшитая пальмовыми листьями, конец которой сзади спускался до полу. Башмачки из коричневатой кожи были ей, видимо, несколько тесноваты.
– Я думаю, вы еще не успели проголодаться, – сказала она, бросив взгляд на Бовизажа, – и можете подождать полчаса. Отец уже пообедал, а я не могу есть спокойно, не узнав, что он обо всем этом думает и нужно ли нам ехать в Гондревиль?
– Иди, иди, душенька, я подожду! – отвечал чулочник.
– Ах, неужели я никогда не отучу вас от этой привычки говорить мне «ты», – сказала она, выразительно передернув плечами.
– Да ведь на людях этого со мной никогда не случается чуть ли не с тысяча восемьсот семнадцатого года.
– Вечно это с вами случается, и перед прислугой и перед дочерью.
– Как вам будет угодно, Северина... – грустно ответил г-н Бовизаж.
– Главное, не говорите Сесили ни слова о том, что решили эти избиратели, – добавила г-жа Бовизаж, глядя на себя в зеркало и поправляя шаль.
– Может быть, ты хочешь, чтобы я пошел с тобой к отцу? – спросил Филеас.
– Нет. Оставайтесь с Сесилью. Кстати, кажется, Жан Виолет собирался принести вам сегодня остаток долга? Ведь он должен вам двадцать тысяч франков. Вот уже три раза он оттягивает платеж и каждый раз на три месяца. Не давайте ему больше отсрочки. А не может заплатить, отнесите его вексель судебному приставу Куртелю: будем действовать по правилам, подадим в суд. Ахилл Лигу объяснит вам, как получить наши деньги. Этот Виолет, видно, достойный внучек своего дедушки. Я считаю, что он вполне способен ради наживы объявить себя несостоятельным! У него нет ни стыда, ни совести.
– Он очень неглупый человек, – сказал Бовизаж.
– Вы уступили ему клиентуру на тридцать тысяч франков и заведение, которое во всяком случае стоит не дешевле пятидесяти тысяч. А он за восемь лет выплатил вам всего десять тысяч...
– Никогда я ни с кем не заводил тяжбы, – отвечал Бовизаж. – По мне, уж лучше деньги потерять, чем донимать судом бедного человека...
– Человека, который насмехается над вами!
Бовизаж промолчал. Он не нашелся, что ответить на это жестокое замечание, и, опустив глаза в пол, стал разглядывать паркет своей гостиной. Быть может, постепенное ослабление умственных способностей Бовизажа, а также и его воли объяснялось тем, что он слишком много спал. Он неизменно укладывался спать в восемь вечера, вставал в восемь утра и, таким образом, вот уже двадцать лет спал по двенадцати часов в сутки, никогда не просыпаясь ночью; а если когда-нибудь и случалась с ним такая оказия, – это было для него целое событие, нечто совершенно необычайное, и он весь день только об этом и говорил. Примерно около часу уходило у него на одевание, потому что жена приучила его являться к завтраку не иначе, как чисто выбритым, вычищенным и тщательно одетым. Когда у него еще было торговое предприятие, он тотчас же после завтрака уезжал по делам и возвращался только к обеду. После 1832 года эти деловые поездки заменились визитом к тестю, к кому-нибудь из знакомых или прогулкой. Во всякое время года, в любую погоду, он ходил в сапогах, в синих суконных брюках, белом жилете и синем сюртуке, чего опять-таки требовала его жена. Белье его отличалось удивительной тонкостью и еще более удивительной белизной, ибо Северина приучила его менять белье каждый день. Привычка заботиться о своей внешности, которую редко кто соблюдает в провинции, способствовала тому, что Филеас считался в Арси образцом элегантности, точь-в-точь как какой-нибудь светский щеголь в Париже. Итак, всем своим внешним видом почтенный торговец вязаными изделиями производил впечатление важной особы, ибо супруга его была достаточно сообразительна и никто никогда не слышал от нее ничего такого, что могло бы позволить обывателям Арси догадаться об ее разочаровании или заподозрить ничтожество ее супруга, который своими любезными улыбками, предупредительными фразами и замашками богача заслужил себе репутацию солидного человека. Говорили, что Северина так ревнует его, что никуда не пускает по вечерам, а Филеас тем временем отлеживал себе бока и портил свой лилейный цвет лица, предаваясь блаженным сновидениям.
Словом, Бовизаж жил так, как ему нравилось, жена ухаживала за ним, обе его служанки служили ему исправно, дочка ластилась к нему, он считал себя самым счастливым человеком в Арси, да, пожалуй, и был им. Чувство Северины к этому ничтожному человеку не было лишено некоторой покровительственной жалости, с какой мать относится к своим детям; когда ей надо было отчитать его, проявить строгость, она старалась сделать это в шутливом тоне. Трудно было представить себе более мирное супружество, а то, что Филеас испытывал отвращение ко всяким светским сборищам, где он неизменно засыпал от скуки, так как не умел играть в карты и никому не мог составить партию, позволяло Северине свободно распоряжаться своими вечерами.
Появление Сесили вывело Филеаса из замешательства.
– Да какая ты сегодня красавица! – воскликнул он.
Госпожа Бовизаж тотчас же обернулась и бросила на дочь пронизывающий взор, от которого Сесиль вспыхнула.
– Что это вы вздумали так нарядиться, Сесиль? – спросила мать.
– Но ведь мы же сегодня собирались к госпоже Марион. Вот я и оделась, мне хотелось посмотреть, идет ли мне новое платье.
– Сесиль! Сесиль! – сказала Северина. – Хорошо ли это, обманывать свою мать? Я недовольна вами. Вы что-то задумали и скрываете от меня.
– А что она такое сделала? – спросил Бовизаж, любуясь своей нарядной дочкой.
– Что она сделала?.. Мы с ней об этом поговорим потом... – ответила г-жа Бовизаж, погрозив пальцем своей единственной дочери.
Сесиль бросилась к матери на шею и, обняв ее, стала ласкаться к ней, что для единственных дочек является верным способом доказать свою правоту.
Сесиль Бовизаж, юная девятнадцатилетняя особа, была в шелковом платье светло-серого цвета, с фестонами из темно-серой тесьмы; оно было сшито в талию; лиф с маленькими пуговками и кантом заканчивался спереди мыском, а сзади зашнуровывался как корсет. Эта имитация корсета изящно обрисовывала ее спину, бедра и бюст. Юбка с тремя рядами оборок ложилась очаровательными складками, и ее элегантный покрой свидетельствовал о высоком мастерстве парижской портнихи. На плечи была накинута хорошенькая кружевная косынка, а на шейке милой наследницы был повязан красивым бантом розовый платочек. Соломенная шляпка с пышной розой, черные ажурные митенки, коричневые башмачки завершали ее наряд; если бы не возбужденно-праздничный вид Сесили, эта изящная фигурка, похожая на картинку из модного журнала, казалось, должна была восхитить ее родителей. К тому же Сесиль была прекрасно сложена – среднего роста, удивительно гибкая и стройная. Ее каштановые волосы были причесаны по моде 1839 года, – две толстые косы, заплетенные у висков, спускались ей на щеки, а сзади были заколоты узлом. В этом свежем, здоровом личике с прелестным овалом было что-то аристократическое, чего Сесиль никак не могла унаследовать ни от отца, ни от матери. Ее светло-карие глаза были совершенно лишены того мягкого, кроткого и чуть ли не грустного выражения, столь свойственного молодым девушкам.
Но все, что было романтического и необычного в ее внешности, бойкая, живая, пышущая здоровьем Сесиль портила какой-то мещанской положительностью и развязностью манер, присущей избалованным детям. Однако супруг, способный перевоспитать ее и уничтожить все следы, которые успела наложить на нее провинциальная жизнь, мог бы сделать из этого сырого материала совершенно очаровательную женщину. Сказать правду, Северина так гордилась своей дочерью, что это чувство возмещало тот ущерб, который она наносила ей своей любовью. У г-жи Бовизаж оказалось достаточно мужества для того, чтобы хорошо воспитать свою дочь. Она приучила себя обращаться с ней с притворной строгостью и таким способом добилась повиновения и подавила те зачатки зла, которые обретались в этой натуре. Мать и дочь никогда не разлучались, и благодаря этому Сесиль сохранила то, что далеко не так часто, как мы думаем, встречается у юных девиц, – чистоту мысли, истинное простосердечие и живую непосредственность чувств.
– Ваш наряд внушает мне подозрения, – заметила г-жа Бовизаж, – может быть, Симон Жиге сказал вам вчера вечером что-то такое, что вы от меня скрыли?
– Ну что ж! – вмешался Филеас, – человек, который вот-вот получит мандат депутата от своих граждан...
– Мамочка, дорогая, – зашептала Сесиль матери на ухо, – он скучный, надоедает... Но ведь, кроме него, для меня никого нет в Арси.
– Ты правильно о нем судишь, но подожди, пока не выскажет своих намерений дедушка, – отвечала г-жа Бовизаж, целуя дочку, чье признание обнаруживало большой здравый смысл, но вместе с тем показывало, что мысль о браке уже успела смутить ее невинный покой.
Дом Гревена на углу маленькой площади за мостом, на правом берегу Обы, – один из самых старинных домов в Арси. Он сбит из теса, и промежуток между его тонкими стенами засыпан щебнем; сверх того он покрыт толстым слоем штукатурки и выкрашен серой краской. Несмотря на весь этот кокетливый грим, он все же напоминает карточный домик.
Сад Гревена разбит по берегу Обы и со стороны обрыва огорожен низкой каменной стеной, на которой стоят горшки с цветами. Все окна дома защищены плотными ставнями, выкрашенными в такой же серый цвет, как и его стены, а простота убранства этого скромного жилища вполне соответствует его непритязательной внешности. Входя в маленький, усыпанный щебнем дворик, вы видите в глубине его зеленую ограду, за которой начинается сад. Прежнее помещение конторы в нижнем этаже теперь превращено в гостиную, окна которой выходят на реку и на площадь. Здесь стоит старинная мебель, обитая совершенно вытертым зеленым утрехтским бархатом. Из прежнего кабинета бывший нотариус сделал столовую. Все здесь свидетельствует о глубокой философической старости, о мирном существовании, которое течет себе изо дня в день, как вода в лесном ручейке, и нередко вызывает зависть разных политических фигляров, разочаровавшихся в блеске и славе общественной жизни и бессмысленных попытках противостоять путям человечества.
В то время как Северина идет через мост, стараясь разглядеть издали, поднялся ли из-за обеденного стола ее отец, нам не мешает поинтересоваться характером, жизнью и взглядами этого старика, которому его дружба с графом Маленом де Гондревилем снискала уважение всего округа.
Вот простая и нехитрая история этого нотариуса, бывшего, можно сказать, долгие годы единственным нотариусом в Арси. В 1787 году двое молодых людей из Арси отправились в Париж с рекомендательными письмами к некоему адвокату в совете, по имени Дантон. Прославленный патриот был родом из Арси; здесь еще сохранился его дом и живет кто-то из его семьи. Этим можно было бы объяснить и то влияние, которое оказала революция на этот уголок Шампани. Дантон устроил своих земляков на службу к некоему прокурору в Шатэле, прославившемуся своей тяжбой с графом Мортон-де-Шабрианом из-за ложи на первое представление «Женитьбы Фигаро»; в дело вмешался парламент, который счел себя обиженным в лице своего прокурора, и выступил на его стороне.
Один из этих молодых людей был Мален, другой – Гревен. Оба – единственные сыновья у своих родителей. Отец Малена был владельцем того самого дома, где и поныне живет Гревен. Молодые люди питали друг к другу крепкую привязанность. Мален, юноша изворотливый, хитрый, честолюбивый, обладал даром красноречия. Честный, трудолюбивый Гревен нашел свое призвание в том, чтобы восхищаться Маленом. После того как разразилась революция, они вернулись к себе на родину, один был назначен адвокатом в Труа, другой – нотариусом в Арси. Гревен, смиренный слуга Малена, помог ему сделаться депутатом Конвента, а Мален, в свою очередь, сделал Гревена главным прокурором Арси. Член Конвента Мален пребывал в полной безвестности вплоть до 9 термидора; он всегда держал сторону сильного, помогая таким образом сокрушить слабого; но Тальен убедил его в необходимости свалить Робеспьера. Вот тут-то, во время этой страшной, парламентской битвы, и отличился Мален – храбрость его оказалась весьма своевременной. С этой минуты начинается политическая роль этого человека, одного из тех героев, чья деятельность протекает незримо. Порвав с партией термидорианцев, он примкнул к партии клуба Клиши [6]6
Клуб Клиши– роялистская контрреволюционная организация, собиравшаяся с 1795 г. в саду Клиши и разогнанная в конце 1797 г.
[Закрыть]и был выбран членом Совета старейшин. Сблизившись с Талейраном и Фуше, он вместе с ними участвовал в заговоре против Бонапарта, а после победы Бонапарта при Маренго стал, подобно им, одним из самых горячих его приверженцев. Выбранный трибуном, Мален одним из первых вошел в Государственный совет, участвовал в составлении Кодекса и одним из первых удостоился звания сенатора, получив при этом титул графа де Гондревиля. Такова политическая сторона его жизни, а вот сторона финансовая.
Гревен в Арсийском округе оказался как нельзя более деятельным и ловким посредником, содействовавшим обогащению графа де Гондревиля. Поместье Гондревиль принадлежало Симезам, старинному аристократическому роду, из которого многие погибли на эшафоте, а оставшиеся в живых наследники – двое молодых людей – служили в армии Конде. Поместье было продано с торгов как национальное имущество и заботами Гревена было приобретено для Малена на имя г-на Мариона. Гревен скупил для своего друга лучшую часть церковных угодий, проданных Республикой в департаменте Об. Мален посылал Гревену необходимые суммы для всех этих сделок, не забывая при этом и своего поверенного. Во времена Директории, когда Мален играл видную роль в советах Республики, все эти покупки были уже переведены на его имя. Гревен стал нотариусом, а Мален – государственным советником. Затем Гревен сделался мэром Арси, а Мален – сенатором и графом де Гондревилем. Мален женился на дочери поставщика-миллионера, а Гревен – на единственной дочке г-на Варле, лучшего доктора в Арси. Граф де Гондревиль имеет триста тысяч франков годового дохода, у него особняк в Париже и роскошный замок де Гондревиль. Одну из своих дочерей он выдал замуж за видного парижского банкира из дома Келлеров, а другую – за маршала, герцога Карильяно.
У Гревена – пятнадцать тысяч годового дохода и дом, где он мирно доживает свои дни, экономя на всем и делая сбережения. Он управлял делами своего друга, и тот продал ему этот дом за шесть тысяч франков.
Графу де Гондревилю восемьдесят лет, а Гревену – семьдесят шесть. Пэр Франции прогуливается у себя в парке, а бывший нотариус – в садике, принадлежавшем отцу Малена. И тот и другой ходят в толстых суконных сюртуках и копят денежки. Никогда никакая тень не омрачала этой дружбы, которая длится вот уже шестьдесят лет. Нотариус всегда признавал превосходство члена Конвента, государственного советника, сенатора и пэра Франции. Однажды, после Июльской революции, Мален, будучи проездом в Арси, спросил Гревена: «Хочешь получить крест?» – «А на что он мне?» – отвечал Гревен. Ни один из них никогда не отступался от другого, они во всем советовались и всегда поверяли друг другу свои дела, – один безо всякой зависти, другой без малейшего высокомерия или каких-либо обидных претензий. Малену всегда приходилось самому заботиться о Гревене, ибо вся гордость Гревена заключалась в графе де Гондревиле. Гревен был столько же графом де Гондревилем, насколько им был сам граф де Гондревиль.
Но вскоре после Июльской революции Гревен почувствовал, что он стареет, ему стало не под силу управлять графскими делами, да и граф начал замечать, что на нем тоже сказываются годы и пережитые политические бури, и его потянуло к спокойной жизни – и вот оба старика, по-прежнему уверенные друг в друге, но уже не столь нуждавшиеся один в другом, почти что перестали встречаться. Приезжая к себе в поместье или возвращаясь в Париж, граф по пути заглядывал к Гревену, а тот во время пребывания графа в Гондревиле навешал его раза два. Дети их никогда не встречались друг с другом. Ни г-жа Келлер, ни герцогиня Карильяно не имели никаких отношений с мадемуазель Гревен ни до, ни после ее брака с чулочником Бовизажем. Это пренебрежение, нечаянное или намеренное, очень удивляло Северину.
Гревен, будучи во времена Империи мэром Арси, старался услужить всем, и за те годы, что он пребывал на этом посту, ему удалось уладить и предотвратить множество всяких недоразумений. Его прямота, добродушие, честность завоевали ему уважение и любовь всей округи; к тому же всякий почитал в нем человека, пользовавшегося милостью, доверием и поддержкой графа де Гондревиля. Тем не менее, после того как его деятельность как нотариуса и всякое связанное с ней участие в общественных и в частных делах прекратились, жители Арси за какие-нибудь восемь лет совершенно забыли старика, и все только ждали, что не сегодня-завтра услышат о его смерти. Гревен, следуя примеру своего друга Малена, отошел от жизни, ибо жизнь его стала похожа на растительное существование. Он нигде не показывался, копался у себя в садике, подстригал деревья, следил, как принимаются овощи, как наливаются почки, и по-стариковски примеривался понемножку к состоянию трупа. Жизнь этого старца, перевалившего за семьдесят лет, отличалась строгой размеренностью. Подобно своему другу, полковнику Жиге, Гревен вставал на рассвете, укладывался спать в девятом часу и во всем проявлял умеренность и воздержанность скупца. Вина он пил очень мало, но вино это было отменного качества. Он не употреблял ни кофе, ни ликеров; единственное физическое усилие, которое он позволял себе, была работа по уходу за садом. Одевался он всегда одинаково в любую погоду: смазанные оливковым маслом сапоги на толстой подошве, грубые крестьянские чулки, серые суконные брюки на пряжке без подтяжек, синий жилет из тонкого сукна с костяными пуговицами и серый сюртук из той же материи, что и брюки. На голове он всегда носил круглый маленький картуз из норки и не снимал его даже дома. Летом картуз заменялся бархатной черной ермолкой, а вместо толстого суконного сюртука надевался тонкий, шерстяной, светло-серого цвета. Росту Гревен был пять футов четыре дюйма и отличался дородностью здорового, крепкого старика; это делало его походку несколько грузной, а у него и без того была привычка ходить медленно, присущая всем людям, которые ведут сидячий образ жизни.
С раннего утра он тщательно одевался и приводил себя в порядок; брился он сам, затем выходил в сад поглядеть, какая сегодня погода, шел взглянуть на барометр и сам открывал ставни своей гостиной. Затем он брался за лопату, перекапывал грядку, обирал гусениц или полол сорняки, и так у него всегда находилось какое-нибудь дело до завтрака. После завтрака он сидел часов до двух, не вставая с места, переваривая пищу, и думал о чем-нибудь, что придет в голову. Почти каждый день от двух до пяти его навещала внучка; иногда ее приводила служанка, иногда она приходила с матерью. Бывали дни, когда этот точно заведенный порядок жизни нарушался: старик принимал арендную плату и плату натурой; все взносы натурой тут же немедленно продавались. Но эти маленькие треволнения случались только в рыночные дни, раз в месяц. Что он делал с деньгами, этого не знал никто, даже Северина и Сесиль. На этот счет Гревен словно связал себя обетом молчания. Однако все чувства старика к концу жизни сосредоточились исключительно на его дочери и внучке. Их он любил больше, чем свои деньги.
Этот чистенький семидесятилетний старичок с круглой физиономией, высоким облысевшим лбом, голубыми глазами и седой головой отличался удивительной цельностью натуры, что удается сохранить людям, которым никто и ничто в жизни не становилось поперек дороги. Единственный его недостаток, таившийся очень глубоко – Гревену никогда не представлялось случая его обнаружить, – было страшное злопамятство, обидчивость, которую Мален никогда не задевал. Если Гревен оказывал услуги графу де Гондревилю, у него никогда не было повода упрекнуть Малена в неблагодарности; Мален ни разу не обидел, не оскорбил своего друга, которого он знал в совершенстве. Они и теперь говорили друг другу «ты», как в юности, и так же горячо трясли друг другу руки при встрече. Ни разу сенатор не дал почувствовать Гревену разницу в их положении, он всегда старался предупредить желания своего друга детства и не упускал случая предложить ему все, хорошо зная, что тот удовольствуется немногим. Гревен, любитель классической литературы, поклонник чистоты стиля, отличный администратор, обладал серьезными и глубокими познаниями в законоведении; он много потрудился для Малена в этой области: и именно его работа и положила начало славе графа де Гондревиля в Государственном совете как составителя Кодекса. Северина была очень привязана к отцу. Она сама с дочкой чинила его белье; они вместе вязали ему чулки на зиму, заботились обо всех его нуждах, не упуская из виду ни одной мелочи, и Гревен знал, что их чувства к нему лишены всякой корысти: потеряв его, они не утешились бы и миллионным наследством. Старики очень чувствительны к бескорыстной ласке. Каждый день, уходя от отца, г-жа Бовизаж и Сесиль заботились о его обеде на завтра и всегда посылали ему самые ранние фрукты и овощи.