Трансформация огня
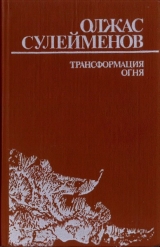
Текст книги "Трансформация огня"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
РОГА
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВОСЬМОЕЭто осень, жизнь растений
бедна и печальна…
РИСТАЛИЩЕ
…Все было так же. Хор-ахте спал.
Сидели скуны, и каждый ждал,
когда проснется великий Ра,
поднимет чашу и меч
с ковра.
Не дождались —
преступник встал.
– Ишкузы, слушайте
речь вора.
I
Я вас привел сюда. Вспомните:
верблюды ревели. Тугими горбами трясин.
Песчаные вихри в пустынях,
как рощи, росли.
В тени ураганов
на пыльных от ветра конях
все восемь уранов
сквозь вопли нумеров прошли.
Покрытые пылью ударов
бессильных мидян
искали страну легендарную
и не нашли…
Возьмите таблицы
и каждое слово проверьте,
любое созвучье —
сретение жизни и смерти,
молчит верблюжонок,
ревет обезумевший волк,
и каркает птица
над круглым пустеющим полем.
Ишкузы,
откуда приходит в Ассирию осень?
Ответьте,
откуда летят наши бедные гуси?
Они возвратятся весною, озера их спросят,
о чем их весною пытают озера,
ишкузы?
Озера степные, поросшие мелкой осокой,
глубокие ночью
и плоские в полдень озера.
О ком они спросят,
соленые от позора?
Ответьте, Кос-оги.
Они возвращаются, гуси,
они пролетают
над мрачными спинами
сгорбленных гор Улу-тау,
перо
на скалу опустилось,
растаяли
гуси,
о чем их спросили ущелья?
Ответьте, кыр-гузы!
Там ваша
родина —
красная глина в буранах,
жесткие травы
с шелестом гнутся от ветра,
она не корова —
худая волчица
в бурьянах,
но есть пи прекраснее мать,
чем своя,
ответьте!
Я тысячи копий с седла метнул,
я тысячи стрел в тела окунул,
одну, визжащую,
как ответ,
стрелу мою
с силой в меня вернул
нежданный ветер.
Всего одну…
Там предков могилы,
там Сар-кене
в скалы впечатался на
коне,
вернемся, как гуси,
пока не трудно.
Вернемся, ишкузы,
как пальцы на струны.
Прорвемся,
и нет на земле преград,
которые сдержат
движенье назад.
Это не просьба, но повеленье,
силу имеющее. Последнее.
II
Скуны!
Стариком не буду,
раз младенцем не был,
молодым и сильным
я уйду на небо,
я вам предлагаю
так казнить меня —
дайте мне лавину скифов
и огня!
Я пройду сквозь толпы
персов,
как сквозь лес,
затрещат их кости,
как сухие сучья.
Слушайте!
И если прекратится треск,
значит, уничтожено
племя сучье.
Не нравится слово?
Другое услышь —
я введу свое племя,
как пламя в камыш,
города их запляшут
другими огнями,
их дороги, как бабы,
взревут под конями.
Ослепленные челками кони
храпят подо мной.
Ночь сегодня!
Согласен с вами,
значит, утром —
веду вас в бой.
Стук мутовки —
пахтают кумыс,
молодцы доят кобылиц,
Ишпака опять на коне.
перс визжит на моем копье.
Будьте же готовы к славе, люди,
тех, кто скачет с нами,
она любит,
обнимайтесь,
колотитесь лбами,
я вас не прощаю,
но я с вами.
III
Он смотрел не на них,
он смотрел в равнодушное солнце двери,
в громадный квадратный белок,
в котором, словно зрачок кошачий,
чернела стройная
женщина.
Он говорил, глядя в это Око:
– Я принял правду ваших слов,
вы приняли мою.
Не прекратить удары языка
в сухое нёбо.
Вы защищаетесь, я – нападаю.
По закону Язу, хан Уходящий
оставит наследного хана,
все скифы – мои сыновья,
и я выбираю любого
из избранных.
Того, кто быка победит на ристалище
самого злого,
тому я невесту обязан найти.
Вот моя мысль.
А вот мое слово —
войди!
На алой кошме невесты
ее посадите,
и пусть достойный
ее выбирает.
Слабый пусть умирает,
а сильный пусть
остается
и ей достается.
Пусть из рабынь она первая будет
царицей.
Будет!
Она благородна душой и сложением
полным.
Я призываю вас, судьи, свершить
преступленье,
которое – подлость,
в сравненье с моим униженьем,
но когда доброта обесценена,
грех – это подвиг.
Уйди!
IV
Он замолк. Опустело Око.
Оглянулся.
Взгляд его увяз в морщинах
лица Хор-ахте,
он рванулся.
И все посмотрели туда же.
На высоком торе,
облитом черным ковром,
неподвижен, как лень,
старейший Хор-ахте
второй день
сидел, погружен
в омут раздумий.
Глаза его не открылись ни разу.
Но губы его шевелились. Он пел.
И чаша в руке
проливала дрожащую
воду воспоминаний.
…Он забыл ее, очень давно это было.
У Нила.
Пили кони медлительную воду
разлива.
Олива…
И на зеркале вод возникали
воронки дыханья.
Он был Ханом.
Уносилось в рога океана багровое
солнце.
Весомо.
И она, чья спина трепетала
под взглядом его,
уносила под ребрами
сладкое чадо его.
V
Пел старик о зеленой тростинке,
пел, седой, развивая жилы,
его голос высокий качался,
как цветок
на старой могиле.
Он забыл то лицо и талию,
как ее обнимал
и так далее,
только голос
уныло помнил
до деталей
веселую полночь.
Как собаки тогда брехали!..
Ишаки, гогоча, брыкались,
и сухая трава под телами
извивалась
и вырывалась…
Не забылось…
Завылось…
Дрогнуло…
Сердце вора шершавым тронуло,
Ишпака, потерявшись от жалости,
раздирал свои губы сжатые.
Думал, всхлипывая: Хор-ахте,
что ты делаешь, вран порхатый!
Лучше б каркал, вгрызаясь в падаль,
лучше б с торя на жертву
падал,
погружал свои когти
в печень,
не до песен мне…
VI
…волк, воющий над вялой розой.
Смеются жертвы – поздно!
Может, рано?
Пой, не стесняйся,
вой, мой глупый воин,
пусть улыбнутся умные бараны.
Достоинство —
в бою забыть себя
и поразиться вражескому горю.
Чем я могу помочь тебе,
судья,
я, так недавно видевший
нагою
свою судьбу?
Судью не успокою.
Кричи!
Героев множество воспето,
умеющих сражаться
и сражать,
но есть ли женщины,
достойные разжать
клинками красоты
уста седых поэтов?
Кричи!
…Он плыл в воспоминаньях,
он был
с той дивной, робкой
дочерью Коровьей.
Он засудил.
И глаза не открыл.
Но твердокостный Уч-ок, наводящий ужас
на врагов,
на всякий случай
помочился кровью.
V
По закону Язу,
если судья запел,
никто не мешать не обязан.
Закон Сар-Кене
любое предусмотрел,
ибо всякий закон
правителю
богом подсказан.
И скуны кивнули:
1) вернуться на землю свою.
И скуны кивнули:
2) казнить Ишпака в бою.
И скуны кивнули:
3) пусть нового хана назначит.
Плечами пожали:
4) ну и рабыню, значит…
Разобрали свои тамги и вышли.
Расставляя ноги, подался в степь Уч-ок,
забыв второпях
одну стрелу из трех. Ее подобрал Кос-ок.
Хор-ахте[32]32
Не в честь ли древнеегипетского бога по имени Хор-ахте назван судья?
[Закрыть] пел, уже раскачиваясь. Никто
не понимал.
Он пел на древнеегипетском.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Ишпака велел свалить лучших жеребцов,
верблюдов и баранов
из своих стад.
Выдоить целое озеро кумыса
из своих кобылиц.
Наполнить кирпичные чаны ассирийским
вином
из кувшинов своих.
В этот день
голодного поймаешь —
накорми,
а голого увидишь – разодень.
Отряды ловят на дорогах нищих.
Купцов, послов, лазутчиков и прочих
арканами хватают и ведут
к ристалищу и у костров сажают
на шелковых коврах и угощают.
И пусть не скажут, что последний пир
Ишпака
скудным был, игрище – скучным.
На холмах, окружающих долину,
в тени дерев раскидистых сидели
ишкузы и с подносов мясо ели,
куски макая в чашу с жидкой солью,
окрашенной зеленым чесноком
и красным перцем.
И ели так, чтобы баран вставал
на все четыре лапы в тесном чреве.
Тогда его топили в кумысе…
Бросали жребий все вожди уруков.
Кость пала белой стороной двоим.
Те двое молча обнялись и снова
швырнули кости.
Вскрикнул Ики-пшах!
И сел Косог на место побежденным.
Скун Таг-арты, вождь рода Ики-пшак,
который без щитов в толпу врывался,
не дав врагам пересчитать друг друга,
поднялся во весь рост
и крикнул сына.
Взревели ики-пшаки на холмах
и вмиг сады угрюмые срубили,
чтоб видеть не мешали им арену.
Бежал он, раздеваясь на ходу,
остался в кожаной короткой юбке.
И добежал
и радостно дышал,
лицо его волнением сияло,
жемчужина, что не имеет ценности,
пока она на дне
в зеленом панцире.
Но если вдруг найдут ее,
и выйдет
и явится глазам —
ей нет цены!
– О скун-торе,– промолвил Таг-арты,—
благослови на подвиг Безымянного,
не проливал он молока старух
и по лицу не бил седобородых.
Он хочет имя мужа получить
и стать отцом великого народа.
Позволь ему…
Хан Ишпака кивнул
и поднял красный плат,
чтоб выводили
Быка.
II
Держали с двух сторон
на бронзовой цепи
три скифа справа
и четыре слева.
Дойдя до середины, они разом
с рогов сорвали цепи,
разбежались.
Бык не догнал,
стал у скалы,
послушать,
о чем кричит
мальчишка безымянный
на сером камне,
голос возвышая,
размахивая родовым оружьем.
– Я сделаю тебя коровой,
бык,
перечеркну рога твои мечом,
священный враг.
О, ты еще силен?
Когда ты ударяешь рогом в камень,
из камня серого, как из мешка,
на землю сыплется мука,
о бык.
Мальчишка прыгнул со скалы,
на спину
быка,
ударил по бедру —
и прянул
в песок ристалища,
вскочил и прямо,
клянусь,
как лев рогатый,
прыгнул бык.
– У! – взвыли ики-пшаки.
Увернулся.
– И! – раздалось с холмов.
Он улыбнулся.
И поднял нож
и обманул быка.
Он не вонзил в загривок,
издевался,
плашмя прижав к рогам,
он упирался
спиной вперед перед быком он ехал,
урук, его подбадривая, ухал.
Рога с мечом соединились:
– Уй!
Бык двигался, набычившись,
как пахарь,
мальчишка пятками песок пахал,
он оставлял
две борозды глубокие
и потом крупным сеял. Он устал.
Но не сдавался,
не ломал спины,
весь устремлен вперед, хоть двигался назад,
а бык не отвлекался —
пер к скале.
Разноязыкая толпа шпионов,
послов, купцов и нищих
надрывалась
при виде перечеркнутых рогов.
Вопили галлы:
– Ви!
Им вторили арамы:
– Аль-ви!
– Хо-ви! – собачились эллины.
Надсаживался кто-то:
– Ви-та! Ви-та![33]33
Соединение рогов (у, в) с чертой (и) давало священный знак «убитые рога» («не бык»), в эпоху матриархата – основной символ бога-женщины. Название бога-женщины (жизни, любви, рождения), распространяясь по миру, обрастало артиклями: семит, аль; греческ. хо; индо-евр. то, та (аль-ви, хо-ви, ви-та, фи-та). (И ш п.).
[Закрыть]
…Вино потягивая, ждал Косог,
когда припрет соперника спиной к скале
священный враг.
…И сломаются руки,
не выдержав тяжести мощи быка,
меч вдавится плоскостью в грудь,
сокрушая ребра,
и за ним
в кровавое месиво
влезут рога.
– У! – оседала толпа.
Таг-арта посерел, как скала.
Оборвал до плеча рукава.
Замер в безмолвном крике.
Бык возвращался, стряхивая с рогов
розовые кишки
Безымянного мальчика.
И две борозды обнюхивал,
вздымал песок дыханьем.
III
Скун Арт-ага,
чей род вдохновенный Косог,
просивших пощады не сек,
бежавших домой не рубил,
поставил пустую чашу у ног,
встал и приблизился к хану,
ладони крестом на груди
сложив.
– О Скун-торе Уходящий.
Благослови сына моей женщины
безымянного Кози Кормеша на великую
смерть.
Да пусть из спины его выйдут
два острых ножа бычьих.
Да будет он жертвой тебе,
о Бык Уходящий.
Кивнул Ишпака не глядя.
…Косог Безымянный остался в кожаной
юбке и в куртке с короткими рукавами.
Широкие плечи его ушей не касались.
Он был не жемчужиной нежной,
он панцирем был зеленым.
Жемчужина украшала
багровыми пятками
камень.
Косог со скалы обращался,
и крик его был негромким:
– Я сделано тебя коровой,
бык.
В рога твои я вдену красный
щит.
Я вышибу багровый диск
копьем,
нож погружу между рогов
опасных.
Белел песок арены, бык чернел,
к скале не шел
боялся вида крови.
Сходило
солнце между двух холмов,
как бы в рога багровый диск
садился.
Под крики обнадеженных кос-огов
широкоплечий юноша спускался,
тупым копьем в щит красный колотя.
Бык не бросался.
Он сопел и ждал,
когда закончатся его мученья.
Придут, наденут цепи, уведут.
Заходит солнце, время водопоя…
Косог швырнул
ногой в глаза
песок,
взмахнул щитом и вдел его в рога.
Ослепший бык тряс головой,
метался.
Холмы ревели, заходясь:
– Корова!
Следил Кози Кормеш
и поудобней
копье в ладонь укладывал.
Бык бился.
Щит его мучал, как осколок кости,
в зубах застрявший, он ревел протяжно,
глазами бил о лапы,
плакал бык.
(И слезы прятал Ишпака,
ослаб он.)
Копье, ни разу воздуха не клюнув,
как лебедь над водой,
шло над ареной,
ударило,
и выпал круглый щит.
Косог в прыжке,
не дав быку понять,
проник клинком крестообразным
в шею,
между рогов
всей тяжестью повис
на рукояти,
в мясо погружая,
холодной бронзой сердце
остужая…
Колени подломились у быка,
кровь хлынула из носа,
и рога
в песок вонзились.
– Ту!– холмы взлетели.
И солнце скрылось,
и на темном небе
возникла ярко новая звезда.
IV
Косог, шатаясь, встал,
пошел к щиту,
поднял,
к быку лежащему вернулся,
присел и вырвал
длинный нож
с фонтаном.
Глаза быку обмыл горстями крови.
В четыре взмаха голову отсек.
И на щите нес голову и гнулся,
так тяжела была та голова.
Косоги пели, стоя на холмах,
молчали ики-пшаки, восседая
на срубленных оливах,
Таг-арта
шел от скалы,
за ним тащилась женщина,
хватая руки мертвые,
свисавшие
с плеча неутомимого вождя.
V
Косоги разжигали на арене
костер.
За хвост
быка к огню тащили,
острили ствол оливы
и совали под хвост быку,
распарывали брюхо…
Он поднимался к Красному навесу.
Щит с головой сложил к ногам невесты,
стал на колено, тяжело дышал,
гул бычьей крови
восставал в ушах.
…В крови четвертый палец
окунула
и красное поставила пятно
между бровей своих…
А он сказал.
– Отныне ты, Шамхат, моя корова,
несущая цвет солнца меж рогов,
начертанных богами на лице
твоем
опущенном.
Он задыхался.
Устал он, поднимаясь по холму.
– Отныне бык ты мой,—
она сказала.—
Я жду тебя в шатре,
мой муж рогатый.
Иди за титулом,—
она сказала,—
ты беден именем,
а я богата.
…Теперь не голос,
тело все дрожало,
когда он нес тяжелый щит с рогами
к навесу голубому. Он боялся —
Преступник шел к Преступнику
за славой.
Он подошел и положил поднос
к ногам
своим.
Приблизился, склонился,
поцеловал плечо и руку.
Сказал:
– Ушедший хан. Я победил.
Твой бык был поражен
моим стараньем.
Признай. Надень достоинства быка
на голову мою
и дай мне имя.
Хан долго поглядел в его глаза,
укрытые броней ресниц,
сказал он:
– Ты был неправ. Но ты его свалил.
Он снял с себя тяжелый шлем с рогами,
косог пал на колени.
– Заслужил.
Когда-то брал его у Хор-ахте…
Он так же не хотел, но я хотел…
Возьми рога и титул
Пер-Им-Торе.
А имя твое будет
Арты-ту.
С колен своих меча он поднял тяжесть.
– Ты поведешь мою орду к восходу,
когда я в битве первой упаду.
Он палец обмакнул в крови быка
и красный крест между
своих бровей
провел.
И приказал вождям уруков:
– На символе вселенной поднимите,
пусть Тенгри-хан
усыновит его.
Вожди подняли белую кошму,
косог на ней лежал,
дышал от счастья.
VI
"Пусть то, что ты делаешь ныне,
смешно и постыдно,
но если великая страсть —
украшение чувства,
тебя захватила и бродит,
как вихрь в пустыне,
и если сегодня ты счастлив,
то завтра – искусство.
Всю силу, все солнца —
в сегодня,
ведь завтра не будут
все праздники жизни отпущенной
сразу – без буден,
судьба одноцветная —
это кошма без узора,
ты высшую храбрость познал —
не бояться позора".
КАЗНЬ
По жребию ее одели в одежду женщин рода ики-пшак.
Толпа вождей по холму поднималась к белой юрте,
там ждет Корова Нового Быка,
И сказал юный косог,
горя предвкушением одиночества
брачного,
послушаем, что он сказал у порога,
счастливый:
– Предложь, Ушедший Хан,
ей наказанье,
слова твои да будут
прорицаньем,
она готова свет любой принять,
не оскорбляя блеском отрицанья.
II
…Великолепны были эти бусы
из темного с прожилками агата,
непосвященному могло казаться —
то круглые глаза слепых красавцев,
любимых смертью
юношей Арраты,
нанизанные на витую нить,
зловеще ее горло украшали,
но ядра бадахшанской бирюзы
в праще серег серебряных
прощали
того, кого не стоило
винить.
Движенья – украшение души,
едва заметные,
подчинены дыханью,
невидимы,
как ветра колыханья,
что охлаждает щеки, возбуждая
воображенье будущего хана.
Спокойный взгляд
из-под густых ресниц
способен был дробить
скалу гранита,
Алку грудную густо усыпали
граненые крупицы лазурита,
лучи ломались —
грудь ее дышала.
"В пустыне жаркой
молятся не Солнцу,
подобию его —
луне угрюмой,
в пустыне снежной
молят не луну,
подобие ее
нас наслаждает.
Все будет снова",—
думал Ишпака,—
"Кем родилась?
наложницей?
жена ли?"
Запястья стройные
(нежна ль рука?)
браслеты из сердолика
сжимали.
Был бронзовыми убран зеркалами
широкий пояс,
облегчавший грудь,
и два ножа,
сходящихся углами,
не позволяли глубоко вздохнуть.
На рукояти выдавлено слово —
«Невинность»,
на другом ноже —
«Вина».
Таила блеск в футлярах тростниковых
средь мирных драгоценностей
война.
О, ярче золота и минерала,
когда придет пора,
сверкнут клинки!..
Всех украшений
стоит блеск кинжала,
когда он – продолжение руки
такой, как эта…
"Не повторить тебя,
ты совершенна.
О, если б хоть один изъян увидел,
я жизнь бы сохранил
для завершенья
гармонии твоей.
Я не в обиде.
Все будет снова.
Может, чуть иначе
ресницы колесниц на лицах…
ночи…
увидишь степи наши,
где бездонны
озера..."
– Будь, Шамхат,
себе подобна.
III
– Возьми ее, как равный,
исполняй
ее желанья.
Даже тени стройной
не позволяй чужой ноге коснуться.
Желаний мужа
будь и ты достойна.
Косог послушно голову склонил.
Обряд ему надоедал.
Желал он.
Шелк одеяла взгляд его манил.
Сейчас уйдут.
Опустят полог.
Ждал он.
– Укрась четвертый палец его знаком
кольцом серебряным.
И ты надень.
Соедините руки,
чтоб столкнулись
два круга.
И не разнимайте их.
Пусть над пожатьем вашим
станет слово,
название Восьмерки Небной —
сег'с[34]34
Знак 8 – был у нас символом любви, и потому в огуз. языках название восьмерки – «сегс» означает и «половой акт» (И ш п.).
[Закрыть].
Любовь – два круга белых —
айн-аль-айн,
любовь прощает
восемь преступлений.
Шамхат не поклонилась,
но сказала,
не будет тайной,
что она сказала.
– По праву первой ночи должен ты
вкусить вина девичьей красоты.
Обязан первым пробовать
отраву,
О Уходящий Хан,
используй право,—
ока сказала.
Бороды кивнули.
Вожди родов, услышав голос правды,
свои тела в пространство окунули,
когда закон вершится,
судьи рады.
IV
Огни светильников вовсю горели,
с камнями расставаться не хотели.
Упал со звоном пояс на ковер,
и в зеркалах мелькнули блики тела.
Весь мертвый блеск
с себя она срывала,
Теперь лишь скромность
стыд ее скрывала.
Пригнувшись, вышел
молодой косог,
и войлок полога укрыл порог.
V
Ретроспекция
—Жар пестрого базара,
рабыня на помосте.
Дулат слова бросает,
как циферные кости:
– Ее тамга – два круга,
два глаза, как два солнца,
две ягодицы,
груди,
как два горба верблюда.
Эй, не глядите мимо,
не обманитесь, люди.
Два круга, как два блюда
с ломтями
блуда.
День в ночи превращает,
в неверье обращает,
и кто не знал, познает,
что значит расстоянье
меж двух кругов единых!
Познайте тайн дивных.
…Познайте дивных тайн,
рабыне Айн-аль-айн[35]35
А й н-а л ь-а й н – др. семит, название знака любви – Два круга (И ш п.).
[Закрыть].
VI
И случилось то, о чем ишкузы тихо
поют, наполняя глаза горьким
светом.
О, этих женщин вправду не поймешь,
их искренность
лишь обрамляет ложь.
– Бери, если уверен,
что возьмешь.
Власть упустил!
Меня ты упустил.
Ты так любил,
Теперь ты не дрожишь.
Уходишь от меня,
исполнен сил.
Жизнь отдаешь!
Ты мной не дорожишь.
…Рабы не имели страсти
и не достигли власти.
В несчастных я пробуждала,
если не страсть,
то страсти.
И не свободу —
волю
в души их насаждала,
этим прекрасным телом
веру их наслаждала.
Я не умею править,
но наделяю правом
первой счастливой ночи
тех, кто продолжить хочет
дни
в неразумном счастье,
тех, кто достоин участия.
Ты же, увы, не сможешь
не утомиться властью…
VII
Он разрывал ее руки,
как ткани.
Она, как раба, отбивалась руками,
кусалась, мычала,
впивалась зубами досады,
визжала,
как нежный джейран
в тигриной засаде.
Сдавил ее горло
и в рот ей вогнал крик,
он белел из открытого рта,
словно мраморный клык,
и скользил по броне боевой,
защищающей сердце.
И когда он расчистил путь к цели,
когда он руками пчелы
раздвигал лепестки ее ног,
чтобы жалом звенящим
ударить в нектар вожделенный,
случилось то, о чем ишкузы тихо поют,
наполняя глаза
горьким светом вопроса.
VIII
Читатель мой, мужайся,
мы из шатра не выйдем,
что было – не увидим,
что не было – увидим.
Кто видывал такое —
цветок пчелу ужалил
и навсегда покоя
лишил пчелу?
– Ужели?
Светильники пылали,
косог за стенкой плакал,
и возле сердца плавал
ай крови:
«Айналайн!»
Верблюдов нагружали,
гнедых коней седлали.
Костры в степи тушили
смущенные мужчины.
Плясали в реве копий
под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны,
стелились в ноги ткани
дымящихся ночей,
лицом к лицу с друзьями,
мечом к мечу с врагами,
взовьется пыль погони!..
…Летели сквозь Персию злые,
веселые кони.
I
Шел дождь.
По шлемам войлочным.
По латам кожаным.
Домов тележных
раскисали кошмы.
Густы у небосклона персов стаи.
Сошлись кибитки в круг —
и кошем стали.
А стрелы вяло падали
из луков,
стрельба не получалась у косогов,
не гнулись луки – тетива тянулась,
судьба ишкузам
криво улыбнулась.
Уверенные луки
не стреляли!
Оракулы ишкузов
растерялись.
Трезубцами по лужам провели,
а что они прочли,
никто не спрашивал.
Но вот выносят знамя рукопашной.
II
"Мы садились на пегих коней,
к животам прижимали руки,
и молилась орда
перед ней,
проносили хоругви, хоругви.
В центре белый каганский флаг,
волчеглавый и солнцегрозкый,
а на левый и правый фланг
уплывали знамена
красные.
Этот видел их,
видел тот
каше крепкое красное знамя,
красное-красное,
как восход,
потревоженный табунами.
До закатных стран донесли
цвет восхода.
Они узнали,
что закаты румийской земли
были цвета восточного знамени.
Жен румийских собой напоив,
возвратимся мы стариками,
станут драками наши бои,
реки горные —
арыками.
Мы вернемся в свои ковыли,
поредеют густые сотни,
и в пределы родной земли
пусть ворвутся
пустые седла".
Ур![36]36
У р! – клич, дословно «Бей!». (И ш п.).
[Закрыть]– привстали на стременах,
Ур!– поправили малахаи,
Ур!– и двинулись племена
жнецов немилосердных на пахарей.
III
Две ощетинившиеся толпы,
грязь поднимая,
медленно —
навстречу.
Оракулы, поглаживая лбы,
глаза закрыв,
предсказывали
сечу.
Они шептали:
"Копья затрещат,
ножи вонзятся в горла храбрых персов.
Дождь скроет подвиги
сынов ишкуза".
Пророчество сбылось —
войска сошлись.
Сливались две толпы,
как два ежа,
ломались копья,
застревая в ребрах,
и крики разрывали
горла храбрых
быстрей ножа.
Все в этой битве
было, как сказал
оракул.
Кони на дыбах
хрипели.
Хан Ишпака —
халат на голом теле,
камча в руках
и бешенство в глазах.
"Закрыв лицо рукой,
сейчас я струшу,
мне жаль людей,
которых я не встречу.
Поэт, опомнись!
Чтоб не рвались струны,
прижми рукой,
продолжи пенье
речью!
Я предок чей-то,
мне нельзя без славы.
Хотелось мне попасть
в твои скрижали,
я сильным быть хочу —
не помнят слабых!.."
…Он рвался в гущу,
но его отжали.
Дулат —
(он тоже смертник…
жар… помост…)
ударом чью-то голову украсил
и обернулся радостно:
«Помог!»
И —
не вернулся в степи:
жизнь утратил.
Раньше тела,
не успев заплакать,
жизнь упала,
задирая платье,
в грязь…
"Раба последняя,– подумал.
– Может, ветер на нее подул?"
Братья на шершавых камнях шей
с визгом
правят лезвия мечей.
Жить!
(свергался) Жить!
Скакун высок!
Пал Дулат ударенный
в висок
острой палицей…
«Теперь меня!»
Навстречу сивый перс
метнул коня.
Х(рапит)[37]37
Странно, каким образом в повесть 7 в. до н.э. попал современный кинотермин «рапид», т.е. замедленная съемка. Искусствоведы должны обратить внимание на этот факт, который невозможно объяснить голым отрицанием. (И ш п.).
[Закрыть].
Плывет из рук его копье.
Бунчук тягуч. Лоснится острие.
"Сегодня всем везет —
живым и битым,
может, вы не рубитесь,
а спите?
Вырубайте из меня героя,
долотом секи меня до крови,
убирать пером с пути
не гоже.
На калам его копье
похоже.
В стихах хотя бы бытие продолжить.
Страстей своих увидеть продолженье!..
Не суждено".
Упрямое копье
плывет, придать
ненужное движенье.
"Зажмурься, хан.
Закрой лицо рукой.
Прими копье под ребра.
Оно сбросит.
Ты скрючишься,
зажав кишки,
и струсишь,
и будешь прав.
Прав, как никто другой".
– Меж коньих ног,
в грязи кровавой сидя,
он даром время не терял,
кричал.
Кто хочет – у оракула спросите,
чего желал вождь свергнутый —
«Спасите?»
Живот пробитый
на руках качал.
Валился набок,
сдвинутый конем.
Мы не забудем, Ишпака,
клянемся!
Оставим его ненависть
при нем,
пырнем,
добьем копьем
и отвернемся.
Он сделал все, что мог.
Помог не маг.
Мы смяли персов,
те бежали с воем.
Оракулы торчали на холмах.
Предсказывали результаты боя.
Они кричали:
«Персы побегут!»
Когда уже мидяне не бежали —
они горой на Ишпаке лежали.
Их за ноги попозже сволокут.
И кровью хан потел
под грудой тел
и, жизнью исходя,
сказать хотел.
О чем?
Убит в нем перс,
теперь он в силе.
Белок из глаза бил
фонтаном синим.
Свершилось то, чего он ждал, Шамхат.
Пусть ночь падет,
пока еще закат.
Живучий гад.
А ну, еще разок.
Попали, в общем, правильно.
Он сдох.
Оракул скажет: "Горе не беда.
Теперь нам не бояться наказанья.
Мы предсказанье
делали тогда,
когда уже сбывалось предсказанье.
Ложь не прощали нам,
на нож – за ложь,
нам нечего рассчитывать на милость,
пусть будет то,
что все равно свершилось.
Так уж пришлось,
видать,
так уж пришлось…"
Итак, Ишпака удалился в обитель воздаяния
покорять несветлую землю.
Может быть, его настоящая родина там.
Тем его озера с осокой и горы высокие.
Ушел, потеряв шапку, бога и жизнь,
но сохраняя нечто, что приобрел.
То, чего не имел ни один скиф.
Что же он приобрел? – спросят любопытные.
На это нет ответа.



