Трансформация огня
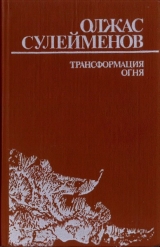
Текст книги "Трансформация огня"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
… увидеть мир таким,
каким он уже не будет…
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЯТОЕ
I
"Плечом к плечу с друзьями!
Мечом к мечу с врагами!
Нет крыши, кроме тени,
язык во рту – заноза,
вырви его, Тенгри,
дай слух —
язык не нужен.
Плясали в реве копий
под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны!
Стелились в ноги ткани
дымящихся ночей —
плечом к плечу с друзьями,
мечом к мечу с врагами,
хан Ишпака, ты чей?"
Сознание,
сознание толкало его в грудь,
но ветер, дувший в спину,
не дал ему свернуть,
твердил он: «Помню, помню!..»
А голоса поют.
"Зовут меня на подвиг,
а в рабство отдают…"
И голоса умолкли,
когда вошел он в мир
ее прохладной мохли,
увидел —
пир.
О нет, не ошибаюсь —
там кубки не гремят,
над горлами сшибаясь,
кинжалы не звенят,
там пьяных не выносят,
виновный не бежит,
тостов не произносят —
она лежит.
II
Она лежала у дальней стены
в полутьме, и одинокая муха,
жужжа, искала паутину в углах.
Жало света (из дырки в крыше) дрожало,
в белеющее бедро вонзенное, и
любому невежде бы показалось – то плоть
излучала сияние в небо.
И сказал он, когда пот жары на челе
стал холодным,
и сказал он, когда очи привыкли к сверканию
тела,
и сказал, задыхаясь от бега,
умевший толпу поднимать смыслом слова.
…Ничего не сказал он.
III
Она спит.
Она смотрит крутыми избытками тела,
молоко выпирает из мяса
двумя кулаками,
он глазами лакал расстоянье
до куполов белых
поперхнулся, моргнул,
о, поверьте, и вы бы лакали.
Он гортань усмирял,
он стеснялся
залаять – неловко!
В этом деле нужна не степная,
иная сноровка,
надо взвыть потихоньку,
как эта зеленая муха,
чтоб жужжаньем звериным не рвать
паутины слуха.
Чтобы жало вонзало
и спать у стены не мешало,
чтобы тело дрожало во сне
и зрачок наслаждало.
Он гортань усмирял оглупевшую
музыкой мысли,
над шершавыми звуками
гневные зубы повисли:
– Кто поклонился раз,
тот не горбат!
Мужское дело мне доверь,
Шамхат.
IV
От слов таких и камень бы проснулся,
а если б не проснулся —
пошатнулся.
Слова срывали кожу, как парчу,
она почувствовала
слов камчу.
Во сне дух расстается с естеством,
совокупляя символ с веществом.
Два лотоса со дна сознанья всплыли,
не солнца в лотосах —
миндалины в них были.
И отделились линии письма
от острия калама книгописца.
По телу пробежали тени сна
и унеслись на крыльях.
– Дай напиться!
Это она сказала, показав
рукой пленительной
на чан с водою.
. . . . . . . . . . . . .
Он зачерпнул, подал, не расплескав,
она пила, как лань
на водопое,
по горлу сладко пробегали
волны,
с другого берега
глядели волки.
Отставив чашу, села поудобней,
укрылась виновато:
– Слушай, воин.
Я знаю, будущее не простит,
но настоящее неумолимо,
дано мне тело
наслаждать других,
но что мне делать,
если нет других!..
Ты бесконечен,
я кратка,
как миг,
ты долговечнее шумерских книг,
зачем горой таблиц, в огне каленых,
над мышью слабой,
о титан, возник.
Из чувств твоих
познаю только
тяжесть,
кто не прочтет, тот
знак не почитает,
слова твои, начертанные, дарят
читающим – века,
невежду – давят,
и отнимают малое, что есть,
о, не гневись,
не угнетай местью,
поверь, в железных латах
твоя честь,
копье в руках безжалостных
и меч,
а я прикрыта лишь
ладонью чести.
Ужель побед тебе не достает,
склонился мир
нагой перед тобою,
возьми его,
он под твоей стопою,
ты можешь насладить себя любою,
копье твое разить не устает,
мою нору не заслоняй горою.
Оставь мне крохотного права миг
любить того, кто под ударом сник.
Хоть бей по голове таблицами
невежду,
умрет, но не поймет он
смысла книг,
как ни желал бы!..
…Усладить тебя
мечтала б я,
о доля моя злая.
Нам не дано!..
Богов своих любя,
обет последний Шамашу дала я!..
V
– Ты иноверец,– молвила Шемхат,—
ты веришь в Тенгри[27]27
Т е н г р и (Дингир, Тингр) – древнешумерский бог-солнце.
[Закрыть],
в молнии и Лело,
вот если б
твои книги
поломать…
Тогда б другое дело.
(Обнаглела!..)
Открою шею,
обнажу свой срам…
Верь Шамашу —
и наслажденье дам!
Дыханьем флейту страсти обжигая,
мелодию Иштар тебе сыграю,
рождаясь каждый миг
и умирая,
верь Шамашу, неверный…
Я желаю…
Мир покорил – рабыню покори,
я умолкаю в страхе.
Говори!
Не унижай молчаньем,
говори!
Отчего над горлом,
словно волк,
тишина твоя?
О, говори!
Облако над хижиной, как войлок,
исчерченный орнаментами молний,
это бога Тенгри лик горит,
защити,
сгораю,
говори!
VI
"Ишпака, очнись!
Не совершай поступка,
не искушайся! – голосил в нем Тенгри.—
Дороже бога стала проститутка,
не богом покупай,
бери за деньги.
Я помогал тебе в твоих дерзаньях,
выигрывал любые состязанья,
с врагами Тенгри
ты,
опомнись, воин.
На что тебе!..
Ты большего достоин.
Не богохульствуй,
а возьми, как брал,
распни на ложе жестком,
наслаждайся!
– Ох, помоги мне, Тенгри,
бог и брат…
– Эй, самка, как тебя, Шамхат, отдайся.
Кому сказал!!
…Не слышит глас она,
ничтожное подобие Ишторе,
страсть в веру нас ведет,
гласит История.
Стоит, лучами Шамаша обласкана.
И шевелит она ветвями взглядов,
увешанных плодами обещаний,
упругими плодами обещаний,
налитыми плодами обещаний,
проклятыми плодами обещаний,
кто говорил, что знаки над вещами!..
Безжалостные знаки обещаний,
уверенные знаки обещаний.
Кто говорил, что избежал несчастий,
когда тебе такое обещали!..
Какие праведники избежали
бесчестия,
когда им обещали
на место рая ненависти —
ад
любви Шамхат!..
VII
Ишпака.
Я сломаю
крылья ветру,
если ветер – перс,
я сломаю книги Тенгри,
если Тенгри – перс.
Что мне бог!
Не бог он вовсе,
а пенек в лесу,
даже перса
ему в жертву
я не принесу!
Если Шамаш мне подмога
повалить тебя,
значит, нет сильнее бога
в небе и степях,
преклоню пред ним колено,
испуская вой,
а другое преклоняю,
дева, пред тобой.
В жертву Шамашу верблюдов
белых приношу,
воскуряю в его имя
лен и анашу,
разломаю на пороге
пополам чуряк,
разве Тенгри помешает,
если я – дурак.
Дай
наполню твои груди
жирным молоком!..
– Будь ты проклят,– плюнул Тенгри
из-за облаков.
VIII
… И Шамхат носком коснулась
жертвенной крови,
оглянулась,
улыбнулась
краешком любви
и пошла в святую рощу,
не меняя вид.
Ишпака – за ней,
нагружен
хворостом обид.
"Где твоя былая сила,
гордый Ишпака?
Эта баба превратила
хана в ишака,
перс, унылый скотоложец,
обратал ее.
Неужель твой нож короче,
чем его копье?
Этой сладкой ассирийке —
финик и чеснок!
Дай ей поле и арыки,
но лежать у ног!..
Унижаться, унижая
кочевой народ!..
Нашу славу – ей в подметки,
и наоборот.
Добывали славу,
дорожили ею,
баба не жалеет,
я ли пожалею!
Я твой летописец, Ишпака-монарх.
– Что ты понимаешь в женщинах, монах?..
Я сирийцев грозных
страстью изводил,
он входил ребенком,
старцем выходил,
шел, вихляясь, кашлял,
пёрся в никуда.
Так бывало с каждым
раз – и навсегда!
Египтян приволит яростный Дулат,
и не понимает, мой палач и брат,
отвергаю сотни,
уточняю – сто.
Кто мне нужен сёдни?
Спрашиваю:
кто?
Кто мне нужен, знайте,
ныне и всегда —
эта в узком платье!
Отвечайте —
Да!
Запирайте двери,
окна – заволочь!
Занавесьте солнце,
объявляю ночь!
Пусть никто не видит,
как за ней бреду,
не нашел управы,
а на вас найду…
Над каждым из сущих
зреет в небе звезда…
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
I
Она прошла рощу (оливковую),
присела в тени дерева (лаврового),
шелковым рукавом отерла с лица влагу,
это были слезы.
Замкнулся круг и начался второй.
Очертанье ноги проступало
сквозь тонкие ткани,
она гладила камень,
румяна ползли по щекам,
она камень ласкала
палящим бедром,
ногами
и шептала слова,
адресованные векам.
– Конницу в рай не пускают.
Ты будь одинок.
Ты войди в мое лоно,
словно в сады Адама.
Ты с мотыгой войди,
землепашцем,
оставив клинок…
(Хан слабел от ее красоты,
превращаясь в Адама).
Ты взрыхлишь мое черствое чрево
мотыгой своей
и поймешь —
не в горячий песок
семена заборонил,
запрокину лицо,
выгнусь радугой после дождей,
дам потомство обильное,
сильное,
вечное.
Понял?
Она сделала многое —
хан позавидовал камню,
она сделала все,
и никто не завидовал хану,
и сказала она:
– Стань же персом,
возьми его имя,
и я буду с тобою,
как с ним,
Я буду с двоими.
II
Ишпака.
Ну что же, перс,
позавидуй мне,
я не был так радостен на войне.
Тебе привычнее
под конем,
а мне привычнее на коне.
Обрек на удачу меня
мой рок,
я в жизни не ведал таких
морок,
меня, покорителя городов,
Шамхат не пускает
на свой порог.
(Косая челка над узкой щелкой —
надменный вид,
а проще – долго
забытым волком
на небо выть…)
Быть любимой и не любитъ,
как страшно женщиной в мире быть.
Я в женщинах
воинов слабых знал,
как побежденных, их презирал.
Шамхат, как истина, мне дорога,
я счастлив, перс,—
я нашел
врага.
III
– Высокое веко, крутая бровь,
внутри человека
играет кровь.
. . . . . . . . .
Над пропастью тонко
вьется тропа,
это над пастью
бьется губа.
. . . . . . . . .
Он понял немногое,
понял он —
в ложе пустое свое влюблен.
. . . . . . . . .
Поэту поверишь ли, Суд Великий,—
он меч удержал
и не взял мотыги.
Он чести кочевника не уронил,
поверишь ли,
семя свое сохранил.
Что бога ругал,—
ну а кто не ругает?
В сретениях чувств
не такое бывает.
Ногами не бил,
не касался руками,
а слово
лишь слабого убивает.
Он стыд испытал,
а это важнее.
Молчанье узнал
в искупающем гневе,
он был одинок,
словно перс, в этом
мире,
один на земле он,
как Тенгри на небе.
Перс тайны оставил ему.
И он принял,
он пропасть гортани
не перепрыгнул,
словами гремел,
тишину поражая,
молчанье вселенной его окружало.
Поэту поверишь ли, Суд Великий,
он меч удержал
и не принял мотыги,
начертаны мудрость в нем,
он не понял —
себя не читают
шумерские книги.
Он в зеркале медном искал отраженья.
Оно отразило его
Отреченьем.
Себя не нашедший в горнилах
победы,
быть может, отыщет
в золе поражений…
Но что замышляет коварный
Дулат?
IV
– Полз муравей,
червя влача безумно,
росла трава над муравьем
бесшумно,
незримо миру
распадался камень.
Пророк, тот миг останови руками.
Стой, муравей.
Трава, замри на миг.
Останови
свои метанья, блик,
лишь мысль – червя хвост —
от боли бьется,
уходит время вспять,
что остается?
Хан отдыхал в прохладе тишины:
– Я вижу сон:
земля благоуханна…
Покойна в Дома праха
тень жены,
вдовы двух воинов —
раба и хана…
Я возвращался. Шел сквозь города,
все было так,
как было бы всегда,
не будь того,
чего не должно быть.
Что это значит —
«времени испить?»
И коброй на хвосте
стоял вопрос,
ответом на него —
другой вопрос.
Уполз в пески вопрос,
упал ответ…
Познав тоски овал
и многогранность бед,
обвал прозрений
и сомнений кактус.
Я наконец спросил себя:
«Ну, как ты?»
И коброй на хвосте стоял вопрос,
ответ спешил,
он, извиваясь, полз
из марева времен,
дополз, устал,
лежал он перед коброй,
сух и прост.
V
…Завшивевшая змеями башня могильника.
Что от ног твоих гладких осталось?
Суставы…
От рук твоих тонких,
крылатых в злости?!
От бедер пьянящих —
берцовые кости.
Горсть позвонков и звенящих ребер —
от гибкого стана…
А где твои лотосы?
А где твои розы,
тугие на ощупь,
куда они делись?—
Осыпались в ночи…
Какое бесцелие нас породило?
К чему ты стремился,
то сникло и сгнило,
зачем предрассудков позорных оковы,
ужели не хватит
позора такого,
которого каждому не избежать!
Мы к свету стремимся,
чтоб тенью лежать,
чем выше растенье,
тем тень его дальше.
Не лучше ль упавшими
пальмам рождаться!
Не лучше ли людям по глинам стелиться,
понять кратковременной радости
горе,
у тех, кто не падал,
спокойные лица.
Но те, кто не падал,
не знают покоя.
Они не поймут,
не поверят в такое,
что ты могла
движением бровей
прощать преступника,
казнить народы.
Смеялись поколения червей,
и испарялись почвенные воды,
и разрушались кость твоя и плоть,
и трещины избороздили свод
могильника…
Прощайте, о Шамхат,
вот до чего вас доведет
упрямство…
VI
Ишпака отряхнул со штанов прах
и пошел, волоча за собою
угловатую тень,
солнце билось в оливах,
смеялось, кривлялось, как Тенгри.
«Кто был прав?»
А Шамхат?
Волочилась за ним,
словно белая тень,
по дороге,
сбивая прекрасное мясо колен,
умоляя вернуться!..
(Никак не поймешь этих женщин,
нарушают поступками
стройность трагических песен.
Удивленья достойны
подобные метаморфозы.)
Уходил он, оставив Шамхат
в покоряющей позе…
VII
Ишкузы!
Я поведу вас туда,
где не бывали вы!
Я увлеку вас в рай
сквозь пелену листвы,
вырубим сад Адэм,
вытопчем мед травы.
Я побывал в раю,
и побывайте вы.
Чтоб не слабели те,
кто
сидит на конях,
те, кто из века в век
стражу несет
на краях,
пусть не обманут вас
тайны чужих жрецов,
вещности нет в раю —
понял в конце концов.
Был я сильней других,
стал красивей других,
стал я мудрей других,
стал ли счастливей их?..
Ему казалось, что он летел в седле,
а он трижды стоял в себе.
Ему казалось,
что он уходил от нее,
но если бы он мог понимать холодным
жреческим разумом,
что начался второй круг проклятия перса,
неотделимый от нижнего…
VIII
О Дулат, человек бессилен
прервать развитие знака,
круг неба нельзя оторвать от звена
Земли,
как Землю со всеми морями,
хребтами, Или,
нельзя оторвать от корней
одинокого Злака.
Угрюмый Дулат из-за дерева вышел:
– Пошли…
Она поднималась,
и плечи ее содрогались.
Дулат с отвращением вывел коня.
и, как труп,
обмотав попоной суконной,
ругаясь,
вскочил на коня
и бросил ее
на круп.
Земля – это круг,
перечеркнутый
тонким крестом.
Четыре дуги в центр глядят
с четырех сторон.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
I
Белый Шатер с черным верхом
стоял в раскаленной от зноя степи
в излучине Тигра, близ Харрапы.
Судейский шатер —
шестикрылое гнездо.
Изнутри он устлан круглым
белым ковром ики-из с черным мягким
крестом во всю площадь.
В центре ковра,
скрестив свастикой ноги,
сидел подсудимый.
Ждал судий – старейшин восьми многомужих уруков,
в тот день
угнетающий зной
делал Белый шатер с черным верхом
единственным местом прохлады.
На дне углубленного Тигра
едва ли приятнее рыбам,
их потные лица не гладит
невидимый ветер
проклятий.
…Они входили, пригнувшись,
садились у стен по кругу,
четыре – слева от торя[28]28
Т о р ь – возвышенное, почетное место у дальней стены, против двери, чтобы свет падал на лицо почетного (торе).
[Закрыть],
четыре садились справа,
не кланялись скуны[29]29
С к у н – вариант. «Сигун»– букв, «самец», «рогатый».
[Закрыть] друг другу,
но кланялись молча хану,
прежде чем сесть,
колени скрестив,
и прежде чем сесть,
на колени свои положив
тяжеленные руки,
скуны многомужих уруков
клали перед Ишпакой
имена родов – железные тамги[30]30
Т а м г а – герб, эмблема рода.
[Закрыть].
Все восемь вождей пришли
простить преступнику восемь
тяжелых его проступков.
Ни у одного урука тамгою не был Щит.
Девятым внесли Его,
старейшего из старейших.
Верховный судья Хор-ахте
обязан был не прощать
девятого преступленья.
Оно могло быть и первым,
преступнику не поклонился,
к ногам Ишпака не бросил
угрюмых достоинств своих.
Держал он чашу и меч,
недвижно сидя на торе.
II
Их было восемь судий,
молчавших, словно львы,
их кровь ревела в жилах.
Лишь Хор-ахте мудрейший
спал, смежив веки,
в собственной тени,
и тихо кровь его журчала
в дряблых венах,
напоминая – полдень
и арык.
Но знал хан Ишпака —
он тих,
как тигр в джунглях.
Нога его хрома, но ум проворен.
Глаза его тесны, но лоб просторен.
И стоя перед ним,
любой честнейший воин
считал себя презренным
жалким вором.
Когда глаза он разжимал
со скрипом,
заржавленное веко
дыбил бровью,
преступники валились наземь
с криком,
храбрейшие из них мочились кровью.
О, не встречайтесь с этим взглядом жутким,
сочившимся сквозь дебрь витых морщин,
так ночью на оленя смотрят джунгли,—
все видящий,
незримый миру джин.
…У коновязи всхрапывали кони,
и конь Ишпака был обеспокоен.
Не ел травы густой.
Обеспокоен.
III
Похрапывал Хор-ахте.
Вопросы задавали скуны.
Был вопрос Тарака,
он испытал:
– Что, светел нынче день?
(Дочь его из молока и меде
пришла на память
и не взволновала.)
– День как день – ответил Ишпака,
он запоминающе вгляделся в скуна —
твердый лоб, уверенные скулы,—
может быть, еще удастся встретиться
в той земле несветлой,
а пока
был вопрос второй,
послушаем его.
– Разве ты не видишь – в небе звезды?
И Луна?
(хотя светило солнце).
– День как день,– ответил хмуро хан,
если вам не нравится светило —
погасите,
это в ваших силах.
Бахус[31]31
Б а х у с – жрец, шаман (И ш п.).
[Закрыть] может вызвать ураган
и задуть огонь,– ответил он —
кто преследует, тот и силен.
(Печень колотилась ему в спину,
Ишпака был сильно разозлен.)
– Солнца луч блистает в небе синем,
страх не помогает
даже сильным,
честь моя,
как вываренный чай,
но и ту придется выручать.
Я сегодня настроеньем плох,
но я воин,
не возьмешь врасплох
даже ночью,
бей при свете дня,
о судья, испытывай меня!..
IV
Послушаем, что сказал Кыр-куз.
– Прекратим преследование
и предадимся разговору.
Закон Шатра: судья к судье,
вор к вору.
Считаю так:
нас – много, ты – один,
но мы – рабы,
ты все же господин.
За взятку ты рубил
ключицу нам,
мог бросить под коней,
в загоны к львам,
но —
персом стал,
мотыгу в руки взял,
ударил по земле
и так сказал:
огонь костра я запер в печь,
сказал?
пространство стенами огородил,
сказал?
я превратил мотыгу в меч,
сказал?
не Тенгри,
пес меня родил,
сказал?
Ты слышишь, замолкли кони?
Тихо и пусто в степи,
молчит, пристыженная,
словно у всех ишкузов
родились дочери
стриженые!
А города персов сияют,
пляшут огнями,
будто в каждом их доме
жен
наших грубо обняли.
И они отдаются им,
жены наши!
С кого нам спрашивать,
хан великий?
Да, солнце светит
на наш позор,
враг не скрывает свои улыбки.
Хор-ахте всемогущий, я назвал проступки
Ишпака,
Один из них прощаю…
V
И поднял нож вопроса
Ики-пшак.
Его лицо лоснилось смуглой костью
и излучало черное спокойствие.
– Водой речей ответных
не отмоешь
ты имени запятнанного, хан.
Пусть будет чистой
влага омовенья,
но не клянись быть честным до конца.
Закон Шатра известен:
отвергай
все обвиненья,
лги, но защищайся.
Пока ты говоришь —
тебе мы верим.
Разрушь плотину,
пусть бурлит вода.
Мы обвиним тебя за преступленья,
не за слова твои —
ты не поэт.
Мы обвиним тебя не как лесного
зверя,
о нет.
Мечи – у нас,
тебе вручаем щит,
возьми его,
используй свое право
и в океане размышлений плавай,
и пусть не загрязнится водоем.
– Пред вами безупречный
не стоял,
закон Шатра гласит:
хвала – известна,
хула – невидима.
Давайте честно!
Все подвиги мои в ночи
сокрыты,
бесчестье бьет в глаза Суда,
как солнце.
Б а л т а.
– Ты родился мужем —
не ребенком,
не лежал в собольих ты пеленках,
ты из чрева вылез
с грозным кличем,
степняки сказали: «Быть величью».
Не сосал грудь суки,
разгрызал губой,
молоко отдаивал
вместе с кровью,
иноверцев видел
только под собой,
это вдохновляло нас,
не скрою.
Ты слюной в пустынях
жажду утолял.
Пусть же скиснут груди
скифских матерей,
если не додали
то, что не добрал,
ты родился зверем,
стал слабей людей.
Ты владел тяжелым
правом первой ночи!
Свадеб избегаешь
прячешься, как вор,
иль копье погнулось?
Или меч короче?..
Муж народу нужен,
а не вол.
Если обессилен,
то закон всесилен —
мы тебя задушим,
новый бык нам нужен.
Отвечай, не мучай,
Ишпака, будь мужем!..
(Океан раздумий
превратился в лужу.)
Мы тебя спросили:
признаешь бессилье ?
Хор-акте, могучий, мы вину назвали.
Мы ее простили.
VI
Твердокостный Уч-ок,
за силу бедер и редкостное слабоумие
известный книгам под прозвищем
Безголовый, прослышав речь Балты,
пришел в оживление.
Он хватил ладонью по колену,
чем боль себе не мало причинил.
Послушаем, что он сказал,
в речах могучий:
– Пах-пах!
Зловещий зной палит тебя.
Ты сух и тонок,
не терпи,
пожар твой может согревать
невестам лучезарный пах,
одну же
может он спалить,
дай выход скотству,
не терпи.
Я б не хотел на месте быть
той девы робкой,—
не терпи!
("И я б замены не хотел
такой", – подумал грустно хан)
Не воздержись! Веди нас в бой,
мы ринемся тебе вослед,
на спину глядя, как на свет,
ты знаешь, в битвах я какой!
Спроси жену мою,
она
в меня, как в волка,
влюблена.
Я все простил тебе, о хан.
– Ты можешь лишь одно простить.
Один проступок.
– А какой?
. . . . . . . . . .
"Он восхищен мной,—
мнил Уч-ок
и шевелил волос пучок.—
А может быть, судьбой своей?
А может быть, женой моей?!"
Эй!!
VII
И молчанья толпу
раздвинул плечами
скун рода Тилик.
Показал он, вздохнув,
словно крякнув с досады,
свой острый язык.
– Ты не принял слов дружбы,
не принял пощады,
ты духом велик.
Ты огнем закален,
как страница печальных
наших глиняных книг.
Этот мир завоеван,
но разве лишь в этой
вселенной живем.
Ты уйдешь от нас раньше,
тот мир покоришь,
за тобою пойдем.
В той несветлой земле
снова грозным вождем
мы тебя изберем.
А пока подождем
и рассыплемся просом,
сгнием под дождем,
разбредемся по землям,
по разным дорогам уйдем.
Разберем свои тамги,
народ наш лишится письма.
Что же скажет Хор-ахте?..
…Тот спал, и довольно весьма.
По закону Язу,
не положено судий будить,
если он не проснулся от слов,
знать, слова не важны,
если он не проснулся от воплей ослов,
ослы не нужны,
если тигры его не разбудят,
и они не страшны.
По закону Язу,
отложили на день приговор,
нет решения, значит,
пока ты по-прежнему – вор,
совершай преступления,
завтра – один ответ.
Что свершить?
Посоветуй веселому хану,
поэт.
…Выходили неслышно,
садились на тихих
коней,
разъезжались, копытом
не тронув прибрежных камней
и камчи не подняв,
чтобы ржанием не разбудить,
и тебе, Ишпака,
из шатра опустевшего
надо
уходить.
I
Хор-ахте грозно спал,
на торе сидя,
с коленей грозди рук свисали мрачно,
с губы его презрительно тянулась
серебряная нить,
как с морды жвачной.
Хан в белый свет двери квадратной
вышел,
и, разминая ноги, подошел
к коню, похлопал по груди
и выше.
Спустился к Тигру.
Заструился шелк
слепящего широкого потока,
как будто ждал его
недвижно, долго.
Хан усмехнулся добро
и похлопал
по ласковой упругой коже:
"Топай!
Спеши, гони свою волну
к Евфрату,
задумчивому илистому брату,
сливайтесь в племя мутное
углом".
Распахнуты врата прекрасной Евы
и города Ашшура, Вавилон
вместились (или вышли!)
в Бабье Лоно.
Лежит Арем, раскинув
ноги рек,
восьмиэтажный столп
вонзился в угол —
лар Аполлона,
(одного из этих пугал
являл ему на Крите
Архий – грек).
Кыр-кузы называли – Аму-дарья,
разбросанные, словно ноги,
воды,
косоги нарекли – Сыир-дарья,
разбросанные, словно роги,
воды.
II
"Теперь я знаю все —
в пустыне горькой
мне нужен виноград,
который давят,
который,
перезрев на солнце ярком,
сознанье символов любви
нам дарят.
Спокойствием ума
сейчас обязан
я
виноградным лозам,
тяжелым гроздьям,
ногам лохматым,
что давили их
в корыте каменном,
кричащим сокам,
кувшинам полным, что хранили их,
руке своей,
что подняла высоко
сосуд, налитый
темным знаком солнца,
и горлу остуженному.
За правду!
За то,
что в виноградниках
обильных
мне нужен мрамор
пряный.
Эй, горбатый!
Наполни-ка еще один кувшин".
III
Поэт.
Мой долг напоминать тебе такое,
что, успокоив,
вновь лишит покоя.
Мне отвратителен гранат и
финик липкий —
прекрасен виноград
на лозе гибкой.
На эту тему стих:
"Не будь он так прекрасен,
то вид его в давильне
под ногами
был бы не так ужасен,
согласитесь.
Все лучшее, что солнцем
создается,
ногам невежды все же
достается.
И это некрасиво,
согласитесь".
Ишпака.
Мы с Понта холодного
рвались в Элладу,
нам ветви олив изодрали
халаты,
из дыр виновато
глядела на Грецию
вата.
Врывались, как Ларры,
и землю,
как кожу коровы, распяли,
и били копытами в бубен
Эллады.
Проспали
глухие историки
этот поход знаменитый,
но мы не забыли,
как били по бубну копыта.
Все восемь
великих колена
ударили в камень,
на скалах
тусканы эмблемы свои
высекали,
турканы и турши
сознанье оставили там.
Сгибались, как лозы,
колонны
под гроздьями тамг.
…Я чудо увидел,
войдя в один атриум белый,
над ярким бассейном
плясал
не по-зимнему спелый,
весь в трепете света,
янтарный, как брызги Евфрата,
лавиной,
каскадом
кипел над водой виноград.
И я потянулся —
он всех виноградников
стоил,
и я обманулся:
решенье загадки простое —
из мрамора желтого
сделаны лозы и грозди.
А мрамор,
известно любому,
не слаще, чем кости.
Но тот виноград веселился
в ночах моих длинных,
тогда я не понял
великой загадки эллинов:
"Что может прекраснее быть,
чем природа?"
Потом же,
спустя много лет,
отвечаю:
«Прекрасней – подобье».
И спорю:
"Все лучшее, что создается под солнцем,
в сердцах остается,
в ночах наших светит
бессонных".
IV
Поэт.
И прежде ты страстно желал
не ее,
а подобье.
Подобьем ручьев на пустыню
нисходят потопы.
Звено одинокое
лучше звенящих цепей,
пусть правдоподобие
будет прекраснее
правды.
Бог создал индея Абрахма
подобным себе,
клянусь, тот индей
благороднее бога Абрахма.
Я слышал, несчастный,
по пестрым базарам Арема,
шатается странный торговец
с товаром гаремным,
нет золота ныне такого,
которое стоит
рабыни его смуглотелой,
никто не достоин
купить невеселую гроздь,
она бесподобна.
Брось мертвые знаки,
садись на коня,
здесь недолго.
V
Базар.
…Мощный скиф, расставив ноги,
кричал с помоста:
– Все семь частей ее тела
округлы,
ни вен, ни костей не видно.
Кто мужем ей хочет быть?
Ночами – невинна
к тому же.
Труса героем сделает
в ложе тесном,
скопца – мудрецом,
жреца ассирийского – честным.
К чему беднякам драгоценные
перстни?
Невинна.
Я вижу стада голодных скопцов,
а щедрых купцов
не видно!
(Толпа хохотала до колик, до драки
кольями.)
Певцу выставляю корчагу сикеры,
кто воспоет золотистые брови,
которые с сердцем героя вровень.
Ну, кто единственный,
а кто – первый?
VI
Взошел на помост бесплечий красавец,
весь рыжий.
С лицом изможденным от боли в паху —
от грыжи.
Держась за больное место двумя руками,
лицом повернулся к восходу
и спел, не лукавя:
"Женился бы пышною свадьбою
хоть на корове,
о, если бы были на ней
золотистые брови".
Скиф добрым пинком проводил скотоложца
с помоста,
ушел он, руками держась
за второе
больное
место.
– Задел он корову святую, скот,
корову, несущую диск в рогах,
это песня врага!
Лучше отдать башмачнику нищему
полный сосуд,
те, кто не любит коров,
пусть!..
Толпа избивала неверного,
рук не хватало
ему за места хвататься,
толпа хохотала.
VII
Башмачник, известный базару
веселым нравом,
отбросив костыль,
сплясал на помосте
на правой,
и, стоя, как аист,
жрал, сунув в сикеру нос,
корчагу, как кость обглодал,
и упал под помост.
Его затолкали пинками
поглубже и стали
глядеть на нее,
других представлениев ждали.
Она, вся укрытая
черным сукном
попоны,
торчала на солнце,
дыша лошадиной вонью.
Скиф глянул на север,
рванулся рукой к акинаку.
И —
врезались в гущу толпы
воспаленные кони.
Скиф славно работал —
по битве истосковался,
он сбил одного
и троих,
уклонялся,
смеялся.
Ишкузы жалели его,
не стреляли из луков,
они отошли от помоста,
и он со стуком
вонзил акинак
окровавленный
в доски.
Баста!
– Я знал, Ишпака,
ты настигнешь.
Я сдался. Властвуй.
Хан тронул коня:
– Я ее покупаю. Дулат.
Горсть тенгриев желтых
ударились под ноги
скифу,
один отскочил от меча,
покатился,
исчез.
Наверное,
в щель закатился,
наверное,
сгинул.
Ее подвели, подсадили в седло.
Ишпака
глядел на Дулата с тоскою
собачьей.
– Эй, воин…
Садись на коня,
я прощаю…
Помял ты бока
моим молодцам…
– Ни-че-го, Ишпака,
ты не понял?!
VIII
Дулат.
Глаза мои плачут,
не золото мне было нужно,
убить я ее не могу,
я ведь знал —
ты придешь.
Но слово есть слово,
я клятвою связан ложной,
ее не нарушил,
я верил, что ты поймешь.
Но ты не осел,
ты хуже, отец ишкузов!
Любимый мой друг,
я верен тебе всегда.
Ты звал, и я шел,
истекая,
не зная куда!..
Верни меня в степи родные,
хочу туда,
где солью Балхаш умывал,
где плыл Каратал,
я все эти годы
ночами во снах
умирал
на родине нашей,
я снами
года коротал.
Верни нас домой,
и забудем, что было
тогда!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оседала пыль, поднятая умчавшимися конями.
Базар вылез из щелей и, ломаясь, бросился
на пустой помост, где ярче крови желтели
круглые тенгрии.
Под помостом в пыли лежал на спине
одноногий
башмачник, храпел, заливая слюной
подбородок и шею.
Узкая полоса света из щели
рубила лицо,
грохотало над ним деревянное небо.
И светилась в пыльном луче
золотая монета,
прилипшая к грязному поту
между бровей.



