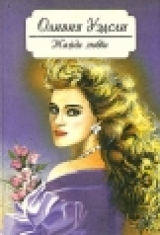
Текст книги "Жажда любви"
Автор книги: Оливия Уэдсли
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Беличье личико выжидающе смотрело на Сару.
– Я и хотела бы, да не могу, – прошептала Сара, – у меня нет готового письма, дорогая Кориан.
– Может быть, так и лучше, – сказала Кориан после минутного размышления. – Моя старуха мать всегда говорила мне: никогда не пиши мужчинам, ничего не пиши, особенно...
Сара усмехнулась.
– И моя мать того же мнения. Она всегда проповедует: ни одного написанного слова; делайте, что хотите, говорите, что хотите, но делайте это осторожно и никогда, никогда не переписывайтесь с мужчинами, особенно с женатыми. Тогда вас будут уважать, даже если вы недостойны уважения.
– Ваша мамаша не очень-то интересуется вами, по-видимому, – бесцеремонно заметила Кориан. – Даже странно, что вы никогда о ней не упоминаете. Держу пари, что вы не очень-то расположены друг к другу.
– Некоторые матери недостойны этого имени, – с горечью сказала Сара. – Материнские обязанности для них обуза, и они не уклоняются от них окончательно только из боязни общественного мнения.
– Этого нельзя было сказать про мою старуху, хотя она и выпивала. Впрочем, она пила, как настоящая леди, исключительно ликеры или брэнди и знала в них толк; пива она никогда не употребляла. И по виду она была настоящая леди, в перчатках и с вуалеткой. Ей пришлось уйти из балета, когда она растолстела; брэнди – ужасная вещь в этом отношении.
Кориан умолкла, погрузившись в воспоминания.
– Ее похороны, по самому первому разряду, стоили мне полугодового заработка. Честное слово! Четыре лошади, дюжина факельщиков с белыми перьями, все соседа присутствовали на погребении. Так обидно, что она не могла всего этого видеть, ей бы, наверное, понравилось! Однако вернемся к нашим собственным похоронам! Я зачинила все ваши вещи и раздобыла для вас более или менее приличные простыни, мыла пока хватит, а что касается горячей воды, пожалуйста, до десятого не давайте этой старой свинье Агнессе ни копейки, потом заплатите ей опять, а если она не будет носить, совсем не платите. Главное – не обнаруживайте слабости вашего характера и не уступайте. Как только люди замечают, что кто-нибудь слабохарактерен, они сейчас же садятся к нему на шею. Поэтому берегитесь и давайте им должный отпор.
– Постараюсь, – обещала Сара не без иронии.
– Смейтесь, смейтесь, вы прекрасно знаете, что я говорю правду. Все ваши «пожалуйста» и «очень вам благодарна» не доведут вас до добра с этими свиньями. Они считают такое обращение доказательством слабости характера и стараются использовать эту слабость. Это обычное явление. Можно было бы многое сказать по поводу преимуществ, которые выпадают на долю вежливого человека, – я что-то не вижу этих преимуществ. По-моему, гораздо правильнее поведение такого рода: видишь вот это, сделай то-то – тогда получишь! Чувство благодарности свойственно очень немногим, одному из миллиона, и еще меньше людей, которые умеют ценить это чувство в других. Я думаю, что гораздо легче быть щедрой, доброжелательной и даже воздержанной, чем благодарной. Честное слово!
В этот последний вечер Кориан впервые поцеловала Сару.
– Я не люблю целовать женщин, – сказала она при этом.
Сара не смыкала глаз в эту ночь; освобождение Кориан вызвало в ней целую бурю бесплодных сожалений, и глубокое отчаяние, которое она с таким трудом преодолела, овладело ею с прежней силой.
Ее снова подстерегало одиночество, этот страшный враг, за спиной которого грозно стояли время и тишина.
Наконец рассвело, и Сара увидела сквозь узкое тюремное окно кусочек серого, тоскливого неба.
Кориан крепко спала; пепельные волосы, которые значительно потемнели за это время, до половины закрывали ее лицо, а губы казались в полумраке совсем черными.
Скоро ее не будет.
В коридоре послышался повелительный голос надзирательницы, будившей арестанток.
Кориан проснулась.
– Я выхожу сегодня, – закричала она, сияя от радости, но в ту же минуту вспомнила о Саре.
Она бросилась к ней и нежно обняла ее за шею.
– Вам будет легче, если вы выплачете свое горе. Только не смотрите на меня такими ужасными глазами. Вам осталось всего четыре месяца – ну что такое четыре месяца? Они пролетят, как стрела. А когда вы выйдете отсюда, будет уже лето. Подумайте только – лето, и мы все придем вас встретить, и через пять минут вы забудете, что сидели в этой проклятой тюрьме. Полно, полно...
Она прижимала к себе Сару, чувствуя, что счастье, ожидающее ее через несколько часов, испорчено горем, которое оно приносит Саре.
– Кажется, выходить из тюрьмы хуже, чем оставаться в ней, по крайней мере, на этот раз, – сказала она со вздохом, вызывая своим замечанием улыбку на губах Сары; но за этой улыбкой последовали рыдания; Сара плакала, как маленькая девочка, с таким же жалобным отчаянием, припав к Кориан, которая утирала ее слезы и успокаивала ее, в первый раз в жизни испытывая бескорыстное сострадание.
Если бы ей разрешили, она бы осталась; но подобная жертва была неосуществима.
– Я осталась бы, – сказала она Саре в последнюю минуту, – и вы никогда не заметили бы, что я сожалею о своем поступке, даже если бы по временам мне и было тошно.
Слезы успокоили Сару, и даже радостное восклицание, с которым Кориан выскочила из камеры, не произвело на нее слишком тяжелого впечатления.
Она села писать Жюльену.
«Пока мы любили друг друга и были вместе – ничто на свете не могло нарушить моего счастья. И даже теперь, в минуты душевного подъема, я близка к этому состоянию, но, увы, дорогой, такое возвышенное настроение духа бывает не часто, и любви приходится уступать место другим чувствам. Чувство одиночества – самое ужасное из них! Я не пожелаю его даже злейшему врагу! Начинает казаться, что для того, чтобы не сойти с ума, надо каким-нибудь образом подчинить это одиночество своей власти. Вам хочется наброситься на него с дикой злобой и бить его кулаками. До тех пор пока тюремное заключение будет вместе с тем и одиночным заключением, тюрьма не приносит результатов, которые от нее ожидают; сводить людей с ума – плохой способ наказания, обнаруживающий преступную близорукость. Отсидевший одиночное заключение делается еще хуже, чем был прежде.
Предположим, что он вор и приговорен на год одиночного заключения. Такого человека можно считать дефективным, по сравнению с другими людьми, уважающими закон, он слишком алчен и восприимчив к дурному. И вот этого человека обрекают на целый год (причем это делается как будто ради его пользы) на одиночество и молчание. Его испорченная натура борется с ужасом одиночества и только укрепляется в своих низменных стремлениях. Это и понятно. Потому что вместо того, чтобы постараться заменить его вредное мировоззрение полезным, его деспотически оставляют с самим собой. Тюрьма не должна быть проявленьем только насилия. Преступники имеют право на свет, чистый воздух и общение с другими людьми, с такими, которые могли бы оказать на них благотворное влияние. Отнимите у преступника свободу, развлечения и комфорт, но не лишайте его общения с благородными душами, которые могли бы воздействовать на него своим примером».
Сара остановилась. Письмо не походило на любовное послание, но ей стало легче, когда она его написала.
Затем следовала коротенькая приписка:
«В камере очень холодно, и у меня на сердце тоже. Я хотела бы, чтобы вы согрели меня; мне недостает вас, как солнца! Даже трудно представить себе отсюда, что на дворе весна. Около моих окон растет крошечный миндаль, и я все время слежу за ним; недавно на нем появилось несколько почек. Милое, энергичное, маленькое деревце! Помните ли вы тот миндаль, который рос у нас на дворе, и первые дни нашей любви? Впрочем, может быть, вы не обратили на него внимания, зато я всегда любовалась розовыми лепестками, которые вырисовывались на фоне голубого неба. Мы делаемся такими чуткими, когда любим. Все кажется нам прекрасным, и мы готовы весь мир заключить в свои объятия».
Другое письмо:
«Вы даже не можете себе представить, дорогой мой, как я тоскую по духам, по камину, пламя которого отражалось бы в моих кольцах, по всем мелочам домашнего обихода! Женщины, в сущности, дети. По крайней мере, такова я. Для меня думать – это представлять, и когда я представляю себе, что обедаю дома, мне кажется, что я умру от нетерпения. Чистые салфетки, чистая скатерть, серебро и вкусная, вкусная еда, которая так и тает во рту! Еда! Я уверена, что все люди падки до вкусной еды, что бы ни говорили о низменности вкусовых ощущений эстеты. Этих эстетов следовало бы посадить на месяц на плохое питание и посмотреть по истечении этого срока, нашли бы они тему об еде по-прежнему вульгарной.
И еще я хочу вымыться, мыться без конца, привести в порядок мои волосы, мне так хочется, – я знаю, что это мелочное желание, – но мне все-таки так хочется быть чистой, надушенной и хорошо одетой. Не вините меня за такой материализм! Я не могу говорить о своих более возвышенных стремлениях, это меня слишком волнует...»
Еще письмо:
«Не помню, писала ли я вам, что имею право на одну книгу в месяц. На этот раз у меня томик Бальзака с тремя рассказами, из которых последний, «Покинутая женщина», кажется мне одним из лучших произведений этого рода. Нет равного ему по силе сарказма и пафоса, глубине психологии и красоте слога. Ведь в самом деле человек выигрывает на расстоянии. Полнота обладания – мираж: когда к ней приближаешься, страсти ослабевают. Дорогой, неужели наступит время, когда вы «устанете» меня любить? Жизненный опыт как будто подтверждает неизбежность этого. Но меня лично всегда возмущал афоризм: «Нельзя желать того, чем обладаешь». Разве люди принадлежат когда-нибудь друг другу всецело, и разве даже самая тесная близость не предполагает еще большей близости? Что касается меня, то я предпочитаю, чтобы вы разлюбили меня сразу, чем чтобы я вам надоела. Надоесть кому-нибудь – что может быть ужаснее! Это самое унизительное из всех состояний, пагубное по своим последствиям, потому что оно отнимает у женщины душевную энергию, желание совершенствоваться и даже нравиться. Говорят, что страдания облагораживают человека, но только не страдания попранной любви! Эти страдания уничтожают веру в себя и все лучшие качества человеческой души.
Но вы, воплощенная правдивость, вы обладаете всеми достоинствами и вы мой, мой единственный – это самое главное!»
Еще письмо:
«Мой ангел-хранитель!
На дворе весна. Скоро (впрочем, нет, я скажу скоро, когда останется всего несколько минут), скажем – в непродолжительном времени, наступит час свободы.
Где мы с вами встретимся?
Я предвижу, что вы скажете, что это будет неблагоразумно, но если бы все-таки вы оказались к этому времени в Париже! Случайно... Это будет в конце июля. Ведь вам могло бы быть и неизвестно, что я выйду в это время. Во всяком случае, я постараюсь как можно скорее уехать в Тунис и, конечно, уже никогда не вернусь из рая на землю. Не знаю почему, но сегодня мне все время хочется вспоминать, какого цвета ваши волосы. Я знаю, что они белокурые, но термин «белокурые» имеет столько особенностей и индивидуальных оттенков. Вернее сказать, что ваши волосы цвета спелых колосьев, освещенных солнечными лучами. А какие они густые! Мне ли не знать этого! Бобрик, настоящий бобрик! Взглянуть бы на вас утром! Вероятно, лохматый-прелохматый и такой милый! Нет, лучше не думать...»
Еще письмо:
«Я не докончила письма, это и неудивительно. Но я и не жалею, что написала такое нелепое письмо. Бывают дни, или, вернее, вечера (если говорить точнее), когда я чувствую вас около себя. Я слышу ваш спокойный, низкий, властный голос, который так нравится женщинам и сила которого именно в его спокойствии; я чувствую прикосновение вашей манжеты, и мне представляется, что я черчу своим пальцем на вашей правой руке мои инициалы – клеймо, чтобы все знали, что вы мой, потом черчу ваше имя и включаю все в очертания сердца. Какие глупые фантазии, но как приятно им предаваться! Ведь влюбленные всегда глупы. Это удел тех, которые остаются детьми на всю жизнь или, через любовь, снова превращаются в детей. Вспомните только наши идиотские разговоры, все те бессмысленные вещи, которые мы говорили друг другу! Однако я готова отдать жизнь за возможность возобновить эти разговоры. То, почему влюбленные всегда говорят на своем особом языке, для меня вполне понятно: это изолирует их от остального мира.
Милая Кориан прислала мне сегодня шоколаду; на бумаге, в которую он был завернут, она написала: «И на воле не сладко! Вам осталось всего два месяца и три недели. Скоро можно будет считать неделями. Будьте тверды в вопросе о горячей воде. Мне вас очень недостает, несмотря на то, что я недолюбливаю женщин. Да благословит вас Бог, Кориан».
К бумаге было приклеено несколько марок, и когда я их отлепила, то под ними оказалась еще маленькая приписка, очень мелко написанная: «Без марок письма не пойдут, а тюремная прислуга так ленива, что не пожелает сходить за марками, даже если вы ей пообещаете пять франков. Так вот на всякий случай...»
Не правда ли, как трогательно и деликатно? Но я не смею писать вам, хотя у меня и есть теперь марки, эти волшебные маленькие кусочки бумаги, которые обладают даром передавать поцелуи... Писать вам было бы неблагоразумно с моей стороны, и я не буду...»
Последнее письмо:
«Я, кажется, заболеваю, дорогой. Это меня нисколько не огорчает, потому что меня переведут тогда в больницу, а я этого очень бы хотела. Мне даже жалко, что я не заболела еще раньше – время прошло бы скорее! Теперь мне остается всего шесть недель. Не думайте, что очень больна, нет: просто маленькая лихорадка и головная боль. Ее бы облегчили прикосновение прохладных рук и опора любящих объятий. Тот кусочек неба, который мне виден в тюремное окошко, сверкает чистой лазурью. Я мечтаю о том, как я буду целовать первые цветы, которые увижу. Думаю, что моя лихорадка – результат томительного ожидания. Я чувствую себя ужасно усталой – мне кажется, что я соскальзываю в царство сна и погружаюсь в забвение. Вероятно, солнце свело меня с ума: оно стоит все на одном и том же месте: на стене камеры... Я прекрасно понимаю, что все это – нервы».
Какова бы ни была причина этого состояния, но оно перешло в беспамятство, и Сару отправили в больницу.
Немедленно явился Лукан. Он добился свидания с тюремным доктором, завел с ним дружеские отношения и даже оказал ему какую-то небольшую услугу.
Этот врач решил, что Лукан любит Сару. Возможно, что он был недалек от истины.
Во всяком случае, Лукан забросил всех своих пациентов и окончательно обосновался в квартире тюремного врача, чтобы иметь возможность самому лечить Сару.
– Я предвидел это, – сказал он однажды своему хлопотливому, но неопытному коллеге, который так и не поверил, что даже такая знаменитость, как Лукан, может предсказывать болезни.
– На основании чего, г-н Лукан, на каком основании?
– Рано или поздно это должно было случиться. Это было неизбежно для женщины ее организации.
Он часами просиживал у постели Сары, прислушиваясь к ее слабому голосу, которым она выдавала свои тайны.
Из-за этого он выхлопотал для нее отдельную комнату.
Он о многом догадывался и сам, но всегда считал свои догадки слишком фантастичными.
Теперь, держа в своих руках бессильную руку Сары, он думал о том, как она должна была любить этого человека. Только безумная любовь способна на такую жертву!
А когда она жаловалась на одиночество и гнет безмолвия, ему хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать.
– Черные чудовища преследуют меня, – шептала Сара, – они подкрадываются ко мне и душат меня, они не дают мне ни минуты покоя...
Потом эти «черные чудовища» превращались в зловещие облака, которые клубились в воздухе и от которых тоже не было спасения. Лукан только теперь понял весь ужас одиночного заключения, даже на один год. Один год! Совсем короткий срок! Но он превращается в вечность для таких нервных субъектов, как Сара.
– Дни уже не дни, – бредила Сара, – день – бесконечность, и он тянется, тянется...
Когда она стала поправляться, он пустил в ход все свое влияние и добился в конце концов того, чего хотел: за две недели до срока он усадил Сару в автомобиль, в котором ждала ее Гак, укутал мехами, пожелал счастливого пути и вернулся в Париж.
Франсуа управлял машиной.
Сара прильнула к Гак и жадно оглядывалась по сторонам: поля, дома, грохот автомобиля, настоящего автомобиля!
Она ухватилась за плечо Гак.
Неужели это правда? Неужели это правда?
Дыхание ее стало прерывистым, слезы градом струились по ее лицу.
– Ваши испытания пришли к концу, дорогая моя, – настойчиво и успокоительно твердила Гак.
В конце концов Сара уснула, прижавшись к ней.
Гак с грустью наблюдала за своей госпожой. Как она исхудала! Ресницы казались слишком тяжелыми для бледных век, пронизанных синими жилками.
– Испытания кончены, – еще раз повторила Сара для своего собственного успокоения.
Автомобиль остановился. Лукан все обдумал заранее, не упустив из виду ни одной мелочи.
Сара провела свою первую свободную ночь в квартире одного из его друзей, который был в отсутствии и прислуга которого ничего не знала и была воплощенной деликатностью.
Гак наслаждалась.
Она ухаживала за Сарой с таким вниманием и искусством, перед которым побледнело бы даже искусство рабов римских патрициев.
Она расчесала и надушила ее волосы, потом связала их широкой лентой и сделала прическу, которая всегда казалась ей самой подходящей.
Она едва удержалась, чтобы не позвать Франсуа посмотреть Сару в постели.
– Все-таки не годится, – решила она с сожалением.
Но как только Сара уснула, она спустилась вниз, чтобы побеседовать с Франсуа.
Вильям, который тоже проделал путешествие в своей корзиночке, присутствовал при их разговоре.
– Ну, как дела, мадемуазель?
– Мерси, мсье, – любезно ответила Гак, немилосердно коверкая французские слова.
– Завтра мы будем уже в Боне, в четверг, если все будет благополучно, – в Бурге, а в пятницу – дома, в Латрез. Вы одобряете мой план, мадемуазель?
– Вполне, только не надо ехать слишком скоро.
– Само собой разумеется. Впрочем, вы сами убедитесь, как благотворно подействует на миледи горный воздух.
– Будем надеяться, – с сомнением вздохнула Гак.
– Какое у вас доброе, чувствительное сердце, мадемуазель!
– Благодарю за комплимент, мсье, – с достоинством ответила Гак.
А так как Франсуа продолжал смотреть на нее с нескрываемым восхищением, она смутилась и инстинктивно почувствовала, что наступило время, когда ей понадобится весь ее женский такт; но вместе с тем она почему-то не хотела прийти ему на помощь.
Чтобы выйти из затруднительного положения, она направила свое внимание на Вильяма, уверенная, что маленькое животное выручит ее в этих исключительно романтических обстоятельствах.
Вильям был снят с колен Франсуа, где ему было так удобно, и подвергся длительным ласкам Гак.
Он терпеливо вынес это бурное выражение любви, потом мягко, но решительно высвободился из объятий Гак, подошел к Франсуа и положил лапу ему на колени; Вильям понимал затруднительность положения и сочувствовал Франсуа.
– Как ты думаешь, Вильям, какого она о нас мнения? – спросил Франсуа.
– Самого хорошего, – воскликнула со смехом Гак.
– Ну, а если и я... впрочем... – Франсуа ужасно путался, но выражение, с которым он говорил, было красноречивее всяких слов, – ну, а если и я, Эмили.
– Убирайтесь, – прошептала Гак, делая последнюю попытку обратить на себя внимание Вильяма, но Вильям, хотя и не отличался чувствительным сердцем, был, во всяком случае, джентльменом: он вскочил с места и убежал.
Франсуа подвинулся к Гак.
– Я и так убрался, милочка, – сказал он нежно, – мне некуда больше идти, кроме этого направления.
И он неожиданно обнял ее за шею.
– Вот это направление, дорогая.
Возвратившийся Вильям был поражен тем равнодушием, с которым его встретили.
Вильям вообще отличался глубоким сознанием своего собачьего достоинства.
После приветливого тявканья, имевшего целью привлечь внимание этих двух существ, которые были обязаны о нем заботиться, он не стал больше настаивать и преспокойно отправился в комнату Сары.
Дверь оказалась открытой; Вильям не вытер лапы о половик: если другие не исполняют своих обязанностей, и он вправе пренебречь своими.
Он вспрыгнул на кровать, хладнокровно взглянул на грязные следы, которые оставили его лапы на шелковом одеяле, уткнулся в него носом и закрыл глаза.
Гак получит выговор за эти пятна; Вильям чувствовал, что он отмщен.
ГЛАВА XXIII
В силки поймал я птиц мечты
И пенье слушал их;
Их крылья ярки, как цветы
Пределов неземных,
Которые, как звезды рая,
Меня влекут к себе, сияя.
Фредегонд Шов
Латрез – крошечная деревушка в горах Верхней Савойи. Чтобы добраться до нее, надо миновать город Клуз, залитый солнцем и окруженный горами, ленивые загорелые обитатели которого целыми днями безмятежно дремлют под тенью виноградных лоз. Только после этого начинается настоящий подъем по дороге, на которой едва умещается автомобиль (беда, если навстречу попадаются стада коз или таборы басков) и где воздух освежает и возбуждает, как пенистое вино.
Они не успели обогнуть и первого склона, как Сара уже почувствовала себя лучше.
«Как хорошо!» – невольно подумала она, и это была первая ясная мысль о том, как хороша жизнь, с тех пор как она вышла из тюрьмы.
По мере того как она поднималась все выше и выше, с ее души спадали путы тоски, и постепенно сглаживались больные места.
Она могла мечтать о счастье и даже предъявлять жизни известные требования.
Вглядываясь в густую зелень деревьев и кустарников, она снова ощущала пробуждение своего «я», гармонически сливавшегося с пробуждением окружающей природы.
Прошлое похоронено в прошлом, и даже воспоминание о нем растворяется в потоках света и радужных надеждах.
В этом ослепительном свете ярче всего горит ее любовь к Жюльену.
Ничто не помешает им теперь соединиться; ее страдания пришли к концу, и при мысли об этом ею овладела какая-то непонятная физическая слабость.
Щебетание птички, заливавшейся в придорожных кустах, снова наполнило ее душу ликованием.
Сколько счастья ее ожидает! Грядущее будет сплошным праздником.
– Как хорошо, Гак, не правда ли, как хорошо? – с сияющими глазами обратилась она к своей спутнице.
– Ничего себе, – не спеша ответила Гак, – хотя Новый Парк все-таки лучше.
Сара засмеялась, и ее мысли невольно перенеслись в Англию. Ей вспомнилось, как совсем молоденькой девочкой, лет пятнадцати или шестнадцати, она каталась верхом в этом Новом Парке; сквозь изумрудную сетку нежной листвы пробивались ослепительные лучи солнца, и она могла целыми часами молча любоваться этим зрелищем; ей казалось, что вот-вот из-за ветвей деревьев появится сказочный принц и увезет ее в свое волшебное царство. Промчались годы – и скоро она действительно встретится с принцем своих юных грез в другой, не менее волшебной обстановке.
Она решила немедленно запросить по телеграфу адрес Жюльена, а затем телеграфировать ему самому, извещая его о своем приезде.
Только маленькая передышка в Латрез, потом на автомобиле в Марсель, там через море в волшебную страну ее мечтаний.
Она старалась представить себе Тунис на основании того, что читала о нем перед отъездом Жюльена: белый город, бирюзовое небо и зеленоватое, сверкающее на солнце море.
Мимолетное, но яркое видение свободной, счастливой жизни.
Кафе, туземные рынки, арабы и евреи, узкие улицы, узкие дома, которые точно таятся не только от нескромных людских взоров, но даже и от солнечных лучей.
Автомобиль сделал крутой поворот, и показалась деревня, всего несколько домов с красными крышами, над которыми возвышался белый, уединенный замок.
Автомобиль миновал школу, приютившуюся около домика священника, который стоял на пороге, с детским любопытством следя глазами за проезжавшими.
– Я совсем не устала, – сказала Сара Гак. – Я останусь в саду, пока вы раскладываете вещи. Когда все будет готово, приходите за мной.
Она отдала Гак свое пальто и пошла по направлению к маленькому озеру, густо обсаженному деревьями; листва едва пробивалась, но легкая тень от нее все-таки лежала на круглом маленьком столике.
Сара присела на ветхую скамеечку. Птицы весело порхали в лазури небесного свода; откуда-то неслось самодовольное кудахтанье курицы, олицетворяя собой мирную деревенскую жизнь. Сара даже засмеялась от удовольствия, – так хорошо ей было здесь под теплыми лучами солнца.
Ее взгляд случайно упал на миндальное дерево, кратковременное цветение которого напоминало о кратковременности всего земного, и она опять вспомнила тот миндаль, под которым целовалась с Жюльеном. Ей стало грустно, хотя она и старалась не поддаваться унынию, которое так долго держало ее в своей власти.
Прошлое кануло в вечность; она должна бодро смотреть в будущее и вспоминать это прошлое без особой горечи, потому что она искупила свою вину.
Трагические события понемногу изгладятся из ее памяти, не столько с помощью всесильного времени, сколько благодаря тому разнообразию, которое вносят в жизнь такие мелочи, как еда, туалет, переписка с друзьями.
Жизнь никогда не стоит на одном месте.
Она почувствовала, что может спокойно и критически оглянуться назад. У нее не было другого выхода для искупления своей вины, хотя, может быть, наказание и оказалось слишком жестоким.
Шарль был так настойчив, она уступила ему из тщеславия и потому, что чувствовала себя одинокой.
Эти две ничтожные причины вызвали трагическую развязку и смерть Шарля.
Ей пришло на ум, что большинство любовных драм начинается именно с таких ничтожных, тривиальных мелочей.
Она опустила голову; сияние дня не радовало ее больше; в ней заговорила совесть, и она честно осудила свое поведение.
Ведь она прекрасно знала, что Шарль и Жюльен ревнуют друг к другу, знала и все-таки не прекратила своей игры...
Как часто мы понимаем зловредность наших поступков, только когда они порождают зло. Она знала это и раньше и все-таки не остановилась на скользком пути.
Большинство женщин поступали и поступают так...
Тщеславие – преобладающая черта характера женщин, особенно тех женщин, которые нравятся мужчинам; и она была тщеславна до тех пор, пока не испытала истинной любви.
Она глубоко вздохнула.
Тщеславие и то жестокое милосердие, которое не позволяет женщине оттолкнуть влюбленного в нее мужчину...
Как объяснить все это Жюльену? Ей казалось, что она не сможет этого сделать, даже если бы захотела, и она с ужасом думала о том, какое отталкивающее впечатление должны были бы произвести ее оправдания на постороннего слушателя.
Но прошлого не вернешь – это печально, но неизбежно; раскаяние имеет смысл только тогда, когда оно ведет к искуплению, а она уже и так сторицей заплатила за свой грех. Она встала с места и постаралась отогнать от себя эти грустные мысли.
Перед ее глазами снова пронеслась ужасная картина, яркость которой затемнялась до сих пор ее личными страданиями: ужасное выражение лица Жюльена, торжествующий, неприятный голос Шарля, шум их борьбы, последний победоносный возглас Жюльена. И все-таки она была непоколебимо уверена, что Жюльен не хотел убивать Шарля – он не имел этого преступного намерения и, значит, был невинен в его смерти.
Гак, которая, наконец, пришла за ней, ужаснулась выражению ее лица и постаралась скрыть свою тревогу преувеличенной суровостью:
– Вы в состоянии вывести из терпения даже ангела, миледи! Столько времени просидеть здесь одной; немудрено, что вы ни на что не похожи!
Сара притянула к себе руки, которые заботливо укрывали ее.
– Я все думаю, думаю, Гак. Мне хотелось бы знать: одинаково ли преступны преступные поступки человека. Мне трудно выразиться точнее, но мне кажется...
– Я понимаю, что вы хотите сказать, мисс Сара, – решительно прервала ее Гак, – и уверена, что мы не в одинаковой степени отвечаем за наши грехи. Этого и не должно быть. Мне кажется, что нам зачтутся в полной мере только те из них, которые предумышленны. Если же вы совершаете проступок под влиянием момента, не успев даже отдать себе отчета в том, что вы делаете, то этот проступок не должен слишком тяжело ложиться на вашу совесть. Если бы на земле существовали только такого рода преступления, всем жилось бы гораздо лучше, так как это значило бы, что на свете не существует низких и лживых людей. Потому что ложь всегда предумышленна. Я не говорю о тех людях, которые лгут по вдохновению, – они не имеют отношения к данному случаю. Поверьте, дорогая мисс Сара, если бы мы все следовали завету моей матери и считали до десяти, прежде чем поддаться злому чувству, на свете почти совсем не было бы убийц. – Гак прикусила себе язык при этом ужасном слове, которое невольно вырвалось из ее уст, покраснела, потом побледнела, не зная, как поправить свой промах, и, наконец, залилась слезами.
Сара, не отрывая глаз от гладкой поверхности маленького озера, крепко пожала ей руку.
– Вы облегчили мою душу, Гак, – тихо прошептала она.
Гак всхлипнула в последний раз и с бесконечной преданностью взглянула на свою госпожу.
– Идите домой; надеюсь, вы не собираетесь ночевать здесь... – заворчала она, как только к ней вернулся дар слова.
Позднее, передавая Франсуа свой разговор с Сарой, она мрачно сгустила краски, коря себя за свою опрометчивость.
Но Франсуа нежно погладил ее руку.
– Дорогая моя, – сказал он, улыбаясь, – вы всегда были и будете замечательной женщиной.
– Оставьте ваши французские комплименты, – прикрикнула на него Гак, которой всегда чудилась насмешка в его лукавой улыбке.
Два дня спустя после этих событий Гак разыскивала Франсуа с приятным и гордым сознанием, что козыри у нее в руках и что она сможет огорошить его из ряда вон выходящей новостью.
Франсуа как раз чистил свою машину и был совершенно поглощен этим любимым занятием.
Глаза Гак горели торжеством, тем торжеством, которое мы испытываем, когда в нашей власти нарушить душевный покой другого сообщением ему новостей, в сущности безвредных и нас лично не касающихся, но все-таки исключительных по своему значению.
– Подождите, Франсуа, – сказала она.
– Я всегда к вашим услугам, – галантно ответил Франсуа, с сожалением отрываясь от машины и откладывая в сторону тряпку.
– Только на минутку, – усмехнулась Гак. – Дело в том, Франсуа, что мы на днях уезжаем отсюда.
Франсуа посмотрел на нее недоверчиво, и его забавно раскрытый рот вполне вознаградил Гак за ее старания.
– В Африку, – невозмутимо докончила она.
– Боже мой! – вскричал Франсуа.
– Только и остается сказать, – согласилась Гак, – прямо не понимаю, что взбрело ей в голову.
– Жажда приключений, по-видимому, – предположил Франсуа.
– Ну что ж! – сказала Гак, с приятным сознанием, что ей удалось нарушить покой мирного труженика, – поживем – увидим.








