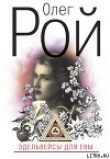Текст книги "О чем разговаривают рыбы"
Автор книги: Ольга Гуссаковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Рассказы
Своя земля
Бессонным весенним вечером к берегу подошел запоздалый катер. За ним по чуть зеленоватому морю тянулся треугольный след, кружили чайки. Катер привалился боком к привычно заскрипевшему причалу. Чайки отстали.
Сначала с катера сошли, люди знакомые. Мальчишки, сидевшие на облитых пеной камнях, разочарованно встали, но тут один из них крикнул:
– Смотрите, еще кто-то приехал!
По сходням осторожно, точно не доверяя берегу, сходил высокий костистый мужчина. В руке он нес огромный фанерный чемодан с тусклыми жестяными углами. За ним, опустив голову, устало плелась женщина с ребенком на руках.
– Чужаки, чужаки! – крикнул тот же мальчишка, и вся стайка ребят вспорхнула с камней.
Берег опустел. Только вдалеке, у рыбозавода, покачивались на воде пустые кунгасы. Чайки ныряли в волны, а море все светлело, наливаясь прозрачным блеском северной белой ночи. Скоро птицы стали почти невидимыми. Небо и море слилась в одну прозрачную мглу, зато темнее, резче выступили камни на берегу и – далеко за линией прилива – спящее село, где только в одном-единственном окошке огонек слабо сопротивлялся белой ночи. Там ждали моториста с катера. Еще с минуту повозившись, погремев чем-то на палубе, он сошел на берег. Приезжие безучастно сидели на камнях. Он подошел к ним:
– Что же вы тут, ночевать думаете? Это вам, не Сочи! К утру так морозом прихватит – пальцы зазвенят. Идемте ко мне пока, что ли…
…Анна поправила на постели лоскутное застиранное одеяло. Дочка спала. Ей и невдомек, в какие края завезли ее родители. Сунула ладошку под щеку, спит. А ведь даже и кроватку для нее принесли чужие люди. Странные люди. Анна таких нигде не встречала. Молчаливые, степенные, с узкими прорезями глаз на смуглых скуластых лицах. А имена у всех русские, и сами они себя зовут русскими, только говорят странно: «юськие». Принесли и стол, две табуретки, старую, но береженую посуду. И жилье нашлось – целый дом. Беленая, как на юге, мазанка на обрыве, возле самого моря. Сказали, тут раньше чужак один жил, охотник, да умер, а больше никому его дом не приглянулся: от села далеко, да и не любят здесь люди жить в одиночку.
Никифор, Аннин муж, быстро подмазал стены, починил крышу, вставил стекла. За долгие годы скитаний привыкли устраиваться быстро. Теперь ушел в правление насчет работы.
Далеко отсюда, в Биробиджане, рассказали Никифору про то, как здешние рыбаки гребут сетями рубли. И вот – в который уж раз? – сорвался, не утерпел…
Анна смотрела в скупое оконце. Прямо за ним – бугристые, истоптанные грядки брошенного огорода. Не земля – одни каменья: неужели и на них что-то растет? Чужая, бесплодная и непонятная земля. На Орловщине трава бы в рост вымахала на такой грядке, а тут – редкие красноватые кустики да под камнями ползучий мокрец. Дальше – камни все больше, все круче, и вот вырастает из них гора и на ней корявые деревья вроде елок, а ветви у них все в одну сторону протянуты – тепла просят.
Но уж лучше смотреть туда, чем на море. Никак не привыкнуть, что берега у него нет. Глаза напряженно ищут знакомую темную полоску, там, где у самого горизонта тонет в море облако. Но ничего не видно – только море и небо, и нет между ними черты. И оттуда, из светлой, сине-зеленой бездны, бегут и бегут к берегу шумные волны. Набегая, каждая грозит: «Я вас-с-с!» А потом, откатываясь, шуршит галькой: «Ужо уш-ш-ш!..»
Анна с трудом отвела глаза от окна. Надо затопить печку, сварить обед, в чем-то согреть воды и постирать белье. В Приморье хороший был бачок, удобный. Бросили. И сколько всего вот так разбросали всюду. Искали лишь одно – деньги, да, видно, не суждено им с Никифором удачи – денег тоже нет. Дверь надсадно заскрипела, отворилась. На пороге, чуть боком, стояла женщина. А у нее из-за плеча, встав на цыпочки, тянулась девочка лет двенадцати. Скуластое, как и у всех, лицо женщины сияло застенчивой доброй улыбкой и было очень красивым. Анна даже позавидовала густому вишневому румянцу, зимней белизне зубов. Сама-то вылиняла, как ношеное платье. А волосы какие! Косу и не схватишь у затылка рукой. И девчушка под стать матери, только волосы с рыжинкой, как сосновая кора под солнцем. И глаза светлее. Больше. Еще краше матери будет.
Женщина плавно поставила на стол миску с кусками рыбы и темно-зеленым крошевом. Все остро пахло морем.
– Отведай-ста нашей вкусноты, ай, непривычная ты, дальняя. Меня Дарьицей звать. Вместе работать придется. Куда тебе, окромя фермы, идти? Вот я и пришла, знакомы будем. Это Танюшка, дочка моя. А у тебя кто?
Говорила она непривычно мягко, и слова от этого делались ласковыми. Танюшка тем временем бочком пробралась к кровати, посмотрела на спящую девочку.
– Мам, деука! А как звать?
– Мариной… Маринка.
– Малинка, Малинка масенька! – Танюшка даже повернулась вокруг себя, словно танцуя.
Анна не знала, как встречать гостей: нет ведь ничего и угостить нечем. Она бестолково заметалась по комнате.
Дарьица остановила ее:
– Чего егозишь? Не надобно нам неча. Ты как жить-то думаешь? К нам али еще куда пойдешь?
– Не знаю… как муж скажет. Он – хозяин. Не приглянется ему, так, может, и вовсе жить у вас не придется. Шебутной он у меня.
Дарьица вздохнула коротко.
– Ну, ин знаешь. Мы от дедов тутошних, нам выбирать не для ча – все свое.
Уже с порога обернулась:
– А ежели надумаешь, так у нас ясли в колхозе.
Даже во сне Анна перебирала сети. Ячея за ячеей тянулись куда-то серые километры капроновых неводов. С сухим треском лопались под руками пузырьки водорослей, похожие на спелый желтоватый виноград. Пахли больницей упругие полосы морской капусты, скользили студенистые серые комья медуз. Другой работы не нашлось. Никифор наотрез отказался пустить ее на ферму.
– Только и не хватало – с поганым зверьем водиться. Еще заразы наберешься! Да и какой твой заработок? Сиди, сети чини.
Дверей у сарая нет. Вместо них словно большое окно в солнечный весенний мир. Там берег моря, волны, пронизанные иглами солнечного света, далеко у горизонта – темные сейнеры. На одном из них – Никифор.
А на берегу с Маринкой играет Танюшка. Только никак ей, Маринке, не угодить. Принесла живого маленького краба – Маринка в слезы; набрала мокрых ракушек, похожих на розовые лепестки, – и те Маринка бросила. Белоголовая девчушка боится всего – моря, камней, чаек.
Анна на минутку отложила скользкие, тяжелые сети, выпрямилась. Нестерпимо болела спина. А две сморщенные, похожие на сухие корни старухи работали, даже не поднимая головы. Свое и старому рук не ломит, подумала Анна. Она снова склонилась над сетью и вдруг увидела, что соседка переложила к себе поближе Аннину снасть. Поймав Аннин настороженный взгляд, старая женщина заулыбалась:
– Ты иди… Ребенка пригляди, солнышку порадуйся, я и одна управляюсь.
Анна упрямо мотнула головой:
– Нет уж, бабушка, раз взялась – сама и сделаю. Чужого хлеба век еще не ела.
– Да что там – чужого? Все ведь у нас свое, наше, никого ты не объешь. Смотрю я на тебя да дивуюсь: чего-то ты больно колючая? Али жизнь не задалась?
– Отчего не задалась? Как у всех.
Но вот и старухи зашевелились, начали собираться по домам. В дверном проеме белая ночь медленно гасила дневные краски. По берегу гурьбой прошли резчицы с рыбозавода, лица их словно расцветали в бледном свете немеркнущей зари. Танюшка давно уже уложила Маринку спать, да и ее позвали домой. Следом за женщинами прошли несколько рыбаков в тяжелых негнущиеся робах. Смолкли голоса людей.
Теперь говорили только берег и море. Берег шелестел стебельками почти невесомых тонких трав, шуршал галькой, звенел ручейками, догонявшими море. Море медленно уходило от берега, бормоча в тумане среди скал, и даже до рябило волн. Течение бережно уносило от берега сорвавшуюся лодку и растрепанный белый островок из спящих чаек.
Анна медленно шла по тропинке к дому. С горы еще раз оглянулась на море. Где-то там, в непонятной дали, – Никифор. Сердце сжалось: ведь не было еще такою, чтобы так далеко уходил от нее. Уводят, уводят его деньги. Как сорвали с родного обжитого моста в тяжелый неурожайный год, так и несут словно не по земле – над землей, как осенний жухлый лист. В море ушел. На месяц. А ведь было время – дня не мог прожить без нее. Неужели это он, сегодняшний, шептал когда-то: «Хмелюшка моя, без вина я от тебя пьян!» И это она, не другая, была счастливее всех на земле? А может, и не любил, помстилось только? Что же теперь перезабыл свои ласковые слова?
Кто-то чужой был возле ее дома. Анна остановилась, подняла голову. На завалинке ее дома сидела Дарьица. Маринка спала, прикорнув у нее на руках.
– Боится деутка-та твоя. Дом один – плохо, ты одна – плохо. Айдате к нам. Когда еще мужик твой вернется…
У подножья сопки стояли рубленные дома. Каждый, как богатая изба, – из мерных вековых бревен, с широким крыльцом, со светелкой. На задах кудрявились высокие гряды огородов в узких деревянных бортах. Темнел зеленый стрельчатый лук, удобно разлеглись на бортах светлые листья редиски, чуть всходили синеватые тугие ростки картошки, и над всем этим поперек и вдоль тянулись веревки с мелкой вяленой рыбой. Ленивые куры, безнадежно поглядывая вверх на сухие рыбьи хвостики, долбили клювами радужную чешую, осыпавшую камни.
Дом у Дарьицы был краше всех – кондовый, из широких лиственничных бревен. В тихом холодеющем воздухе от них, шел крепкий лесной запах. Лиственница пахла особо – остро свежо и чуть грустно, но у Анны закружилась голова: так и увидела вдруг забытый, затерявшийся в памяти дом на Орловщине. Такие же бревна исходили смолистой слезой, когда Никифор строил избу. Только пахли они сладко-боровой елью, новогодним праздником. И еще счастьем. А теперь – где он, этот дом, цел ли? И ответить некому… Дарьица посторонилась в дверях:
– Проходи-ста, гость на порог – дом с прибылью, так у нас говорят.
В светлых, не по-деревенски широких сенях висели сети, пахло морем. Дверь в горницу загораживала чудная занавеска из цветных шкурок – словно пушистый легкий ковер. Сухая темная рука откинула занавеску. На пороге стояла Аннина напарница по работе;
– Вот и добро, что пришли! А у нас и самовар на столе. Тебя ведь Анной звать? – А я – Феклушка. Вот уж седьмой десяток так кличут.
Дарьица быстро пристроила Маринку на широкой кровати рядом с Танюшкой. Анна села у широкого стола, опустив на колени руки, и слова не могла сказать – так остро, до того, что сердце заходилось, чувствовала: вот и пришла домой. И ничего больше не надо…
Из соседней горницы вышел высокий ладный парень со странным лицом – узкоглазый и смуглый, а брови и волосы, как зрелые хлеба, и глаза голубые, яркие.
– Что ж, бабоньки, приумолкли? Встречайте гостью. Ты бы, Дарьица, раздобрилась на маленьку, а? Такой случай.
Та только косой махнула, полыхнули темные глаза:
– Ладно уж, будь по-твоему. И что вы, мужики, за народ? Ко всему у вас один случай… – но она не сердилась: все это было от счастья. Она словно прятала его от сглаза за своей воркотней.
Никифор приехал через неделю. Высокий, нескладный, в чужой коротковатой робе. Встал на пороге:
– Собирайся, домой пойдем! Ишь что надумала – днями у людей гостеваться!
Анна сжала руки, опустила глаза, чтобы он не видел рвущийся из них крик: куда, к какому дому ты меня ведешь?! Тихо попрощалась с Дарьицей, с Феклой, погладила по голове Танюшку. Уходили в прошлое дни, домовитое пение старого самовара, Феклины сказки о лесных и морских дивах, вся неторопливая жизнь этих людей.
Никифор шагал по тропинке, пинал ногами камни. Они звенящими ручейками стекали с дороги к обрыву, к морю. Где-то далеко внизу будили эхо.
– Рубли, говорил, сетями тащат! Сам бы вот и таскал, паразит, чем людей с места манить! Пуп от этих сетей трещит, а рубли где?! Черти их видели, а не я! А эти-то еще смеются, под руки лезут.
– Не смеялись они, Никиша, помочь поди хотели, – тихо, с укоризной сказала Анна.
– Ты еще полопочи мне, заступница! – Рука Никифора сжалась в кулак. Но он не ударил. Такая бесконечная усталость была на ее бледном, когда-то красивом лице, так беззащитно смотрели голубые, как линялое осеннее небо, глаза, что он только сморщился, как от горького, и неловко, сам не зная зачем, протянул палец дочке. Маринка сейчас же затеребила его мягкими ручонками. Анна молчала. Только по морщинке у рта медленно сползала тяжелая слеза.
– Феклуша, скажи мне, а ты счастливо с мужем жила? – Анна смотрела на темное от ветра и времени лицо старой женщины. Солнце золотило обрывки водорослей на сетях, ласково гладило лицо. Анна уже привыкла к работе и теперь могла даже говорить, не бросая дела.
Феклуша покачала головой:
– А всяко, милая. Жизнь наша от моря: и приласкает, и бедой обожжет. Не по сердцу он мне был, да выдали, не спросили. А оно и ладно вышло. Не любила я его крепко, да зато тихо прожила. Коль большого добра не ждешь, так и малому рада. Вот Дарьица моя ино живет. Любит она своего Тимофея – все сердце прикипело к нему, а он ведь мужик, ему и невдомек. Ушел в море на десять ден, и знатья ему нет, что все эти десять ден бабье сердце кровью исходит. Хоть жди, хоть нет, а раньше своего срока море не отпустит…
– А если б он ушел куда?
– Куда ему идтить? Не нами установлено: море – мужикам, земля – бабам. С того живем. Да ты не помысли, что жалюсь я тебе – обе, мы с Дарьицей моей богом не обижены: с людьми в мире и с землей не в раздоре. А что еще человеку надо?
Солнечные зайчики плясали на ветхих стенах сарая, на мокрых грудах сетей. Один по-молодому зажег глаза Феклуше, она зажмурилась, отмахнулась рукой, как от мухи. Улыбнулась Анне. Та не заметила. Смотрела в море, катившее к берегу солнечную рябь, – словно само золото текло из непонятного далека и у берега умирало на камнях, в руках детей и на сетях легкой радужной пеной. Но взамен его оставались у людей бочки с огненной влажной икрой и серебристые рыбьи реки, бьющие из пастей рыбонасосов, и лиственничные дома, пахнущие счастьем.
И только в руках у Анны скользила пустая сеть и дом ее стоял на ничьей земле, и предвечерний ветер в остывшей трубе выдувал из дома счастье. Сулил дорогу.
– Феклуша, милая, а если нет у человека своего места, своей земли, как тогда?
– Не знаю. Не живали мы так. Да и как это – нет? Быть такого не может. Разве что сам не берет.
В пору белых ночей море сердится редко. Анне скоро стало казаться, что оно и вообще не бывает другим. Но однажды на рассвете в окна ударили тугие струи южного ветра. Ветер пах высокими травами Приморья и горечью молодых листьев, и острым коричным запахом розовых болотных ирисов. Он заставлял верить в невозможное…
Но так было недолго. Скоро ветер стих, и пришли тучи. Небо померкло первым, и только потом, словно нехотя, погасло море. Волны его катили к берегу уже не золото, а тяжелый серый свинец. Верха их оделись яркой белой пеной. Откуда-то прилетели птицы с острыми черными крыльями. Они реяли над волнами, как обрывки грозовых туч. Чайки сгрудились возле самой полосы прибоя. Поникла редкая трава на береговом откосе. Все ждали чего-то: тревожно, долго. И наконец пришел шум. Ему не было названия, и шел он оттуда, где море сливалось теперь уже не с небом, а с седою тучей. Он заполнил собою все, и в нем потонули все другие мелкие звуки. Только одного он не смог заглушить – голоса заплакавшей Маринки. Анна бросилась укачивать дочь.
В дверь громко постучали. Обрадованный ветер подхватил клеенку на столе, сдернул с окна занавеску. На пороге, чуть пригнувшись, стоял Тимофей.
– На рыбозаводе беда – море чаны заливает. Помогать надо, – коротко сказал Тимофей. – Пошли, паря!
Никифор исподлобья глянул на гостя, зачем-то поднял и снова поставил кружку на стол.
– Оно верно… надо бы помочь, да только кости у меня с этой непогоды разломило – сил нет. Уж ты извини, друг, не могу я…
Тимофей как-то удивленно, долго глянул ему в лицо и ушел. Все стихло, словно ветер ушел вместе с ним. Никифор сейчас же распрямился, усмехнулся:
– Вот тоже дурака нашли! Так я и пошел им задарма спину гнуть. Да… я вот думаю: пока время не ушло, не податься ли на прииск, в старатели? Тут, видимое дело, проку не жди. Разнепогодится – ищи ее, рыбу-то! А там – был бы фарт, а уж погода ни к чему, кости терпят.
– Никеша, – вдруг глухо сказала Анна. – Никеша! Чем хошь тебя прошу – догони Тимофея. Ведь людям же в глаза глянуть будет стыдно.
– Это каким еще людям? Этим-то?
Ветер стучал в раму, свистел в жестком былье на забытом огороде, сулил дорогу. К новому чужому дому, к новой чужой земле. А над морем туча вдруг лопнула, и хлынул на сизые тяжкие волны золотой водопад. Чайки закружились в нем всплесками немыслимого белого света.
Анна накинула жакетку, покрепче завязала платок.
– Что ж, ты не пойдешь, я пойду. Авось и мои руки лишними не будут.
…Он догнал ее уже возле крайних домов. Схватил за плечи. Анна вырвалась.
– Пусти! Все равно пойду! Не нужны мне твои долгие рубли!
– Ах, уже не нужны стали! Спуталась, видно, с кем-то, пока я в море ходил?! Не с Тимошкой ли этим косым? А? То-то я смотрю: в гости к ним повадилась.
– Не понимаешь ты, не понимаешь, – Анна горестно затрясла головой. – Ведь к людям мы пришли, нас, как родных, приняли, а мы что? Пусти, не мешай мне!
Со всей силой, какая была, оттолкнула его руки, вырвалась, побежала. Он не догонял. Через плечо увидела мельком, что Никифор так и остался стоять, вяло опустив плечи. Ветер ерошил седеющие волосы.
На какую-то секунду Анна приостановилась: как же бросить его такого? Позвать, увести с собой. Оглянулась снова – Никифора уже не было на прежнем месте. Далеко на тропинке парусила под ветром его рубаха. Вот уже и не видно его. Там, где он прошел, только море, берег и ветер, а перед ней почти у самых ног в сумеречном грозовом свете мерцают огни рыбозавода.
…Усталость надвое переломила спину, нет сил поднять голову, оторвать от колен руки. Анна поудобнее прислонилась к груде мокрых сетей – все кругом такое же мокрое, в едкой соленой пене. Тревожно воет сирена катера, мелькают огни. Все равно. Ей уже ничего не хотелось. Только, как в смутном сне, плыли странные обрывки мыслей, образов. Увидела вдруг себя молодой.
…Осенний сахарный ледок похрустывает на лужах, пахнет дымом. Легко и просторно дышится. Стоит у плетня статный парень, она – на шаг не доходя, и между ними, как последняя преграда, ветка рябины в огнистых ягодах. Анна зубами трогает спелые ягоды, и холод их жжет, как чужие губы. Она вздрагивает, смеется, а на нее неотрывно смотрят темные глаза парня, и губы у него яркие, как спелая, схваченная морозом рябина. Он медленно и спокойно отводит в сторону ветку.
А вот парным летним днем Анна окучивает цветущую картошку. Белые и лиловые кудри цветов пахнут вянущим сеном – тонко и горько. От запаха растревоженной ботвы чуть побаливает голова, но ноги легко ступают по теплой родной земле, а высоко в небе звенит и звенит жаворонок. Его не видно, он – только голос радостного летнего дня. А на траве, в тени люлька, где спит Колюнька, первенец… И на душе – тихий покой.
…Но вот видится Анне эта же земля, выжженная солнцем, бесплодная, рассыпавшаяся в серую, горячую пыль. Из этой пыли и могилка сына. Разнесло ее ветром размыло осенними дождями. И нет уже больше под ногами земли – только тряский пол вагона да мокрые валкие пароходные палубы. И летит, сгорает в черном паровозном дыму ее радость, ее молодость, ее счастье.
– Остановите! Остановите! – вскрикивает Анна – так хочется удержать что-то последнее, важное, без чего уж вовсе незачем жить.
Теплые шершавые ладони Дарьицы гладят щеки:
– Угомонись, милая, угомонись. Кого останавливаешь?
– Жизнь… – тихо, не открывая глаз, отвечает Анна.
Вечер первого снега
«Сегодня понедельник. За окном гостиницы беззвучными хлопьями падает снег. В детстве я слышала, как от такого же снега поют деревья чуть слышно. Лучше всех пела большая сосна возле околицы нашего села. Это было очень давно. В совсем другой жизни.
Здесь, на Колыме, деревья не умеют петь. Все отяжелело от снега. Лиственницы встряхиваются и опять стоят прямые и молчаливые, чуть прикрытые последними желтыми хвоинками.
Туч не видно: они слишком низко. Кажется, что все вокруг пронизано серебристо-серым светом и прямо из этого света возникает снег. Он летит отовсюду, он везде. И совершенно неизвестно, когда все это кончится, снова полетят самолеты и я смогу добраться до своего поселка.
Вчера начался октябрь – первый месяц колымской зимы.
В моей сумочке лежит твое письмо. Я не успела на него ответить… А возможно, просто не знаю, что отвечать. Так все это далеко – Москва, мир театральных премьер, чьи-то слова о ком-то и о чем-то.
Ты пишешь, что твое имя на театральной афише уже можно прочесть издали. Значит, ты не забыла, как три года назад мы великодушно лгали друг другу, уверяя, что его отлично видно через улицу? Это был твой дебют. Мы простояли возле афиши до сумерек.
Ты была удивительно хороша в тот вечер. До того, что мне даже не было завидно. Просто я знала: надо уезжать. Я не хочу всю жизнь быть твоей тенью.
Это не было неблагодарностью. Твои родители приютили меня, когда я осталась одна, я любила их, но… я все равно не забывала родной сосны за околицей и верила, что впереди меня ждет другая такая же сосна.
…За окном снег превратился в белый ливень. Отдельных снежинок не видно – сплошной молчаливый слепящий поток. Щедрый первый снег, пахнущий праздником..
Скоро придет вечер. Особенный, единственный в году вечер первого снега. Я всю жизнь верила, что в этот вечер бродит по дорогам счастье.
Ты пишешь, что устала от «современной любви». Мне не дает покоя эта строчка. Как можно устать от любви? И разве она не одинакова во все времена? А может быть, я просто ничего не понимаю в современной жизни и любовь сегодня действительно – усталость, скука, иногда развлечение. Хотела бы я этого для себя? Я не знаю. Но если это правда, лучше мне не надо ничего. Ты, конечно, будешь смеяться надо мной. Скажешь, что я еду на подножке у своего времени, что мои сказки о счастье, бредущем среди метели в вечер первого снега, сегодня не нужны никому. Как хочешь. Но я не могу…»
Наташа положила ручку. Вдруг расхотелось писать дальше. Иначе пришлось бы сказать такое, что трудно доверять словам. Это можно только чувствовать.
За окном по-прежнему стояла мерцающая снежная мгла, и где-то в ее глубине прятался маленький поселок. Там ей жить. Интересно, растут ли сосны на Колыме? Наверное, нет…
Вместо сосны у въезда в поселок стояла могучая лиственница. А чуть дальше двумя цепочками вдоль дороги вытянулись дома. Белые стены слились со снегом, а темные глаза окон с любопытством провожали идущие во трассе машины.
Поселок был совсем лишен привычной замкнутости городских кварталов, но он не был похож и на деревню. Там дома веками сбивались один к одному, как обороняющееся стадо. Здесь они казались случайной группой зевак, выстроившихся вдоль дороги и готовых разбрестись кто куда, как только зрелище кончится. В редких, веточках тальника, уцелевшего на задворках, посвистывал ветер. Было удивительно тихо. Только на другом конце поселка временами возникала музыка. Наташа стояла у края дороги, не зная, куда пойти. Машина, подбросившая ее сюда, давно ушла. Спускались быстрые зимние сумерки. Наташа боязливо оглядывалась: ей столько наговорили о Колыме. Но все было мирно. Медленно разгорались окна домов, за ними беззвучно мелькали тени людей. Мороз крепчал. Наташа так устала и озябла, что даже не услышала скрипа шагов за спиной.
– Это вы кого же тут ждете, девочка?
Наташа обернулась. Перед ней, дымя папиросой, стояла высокая женщина, в куртке и лыжном костюме. Лица не разобрать, лишь гаснет и вновь разгорается, освещая морщинки возле рта, огонек папиросы.
– Я… не жду. Я библиотекарь. Техникум окончила. Теперь буду здесь работать, но я никого не знаю…
– Ну как это – никого? Вот теперь меня знаете – Вера Ивановна Коврова, начальник местного дорожного участка, огромная величина во всех смыслах. А вам надо было позвонить, что едете, мы бы вас встретили. Что же, так и мерзнуть будете? Пойдемте.
Она так решительно взяла в руки Наташин чемодан, что той только и оставалось пойти следом. И стало спокойно. Как в детстве, когда Наташу находила мама и за руку вела домой. И дальше все было совсем так же. Добрые руки размотали платок, сняли пальто, растерли замерзшие пальцы. И чай в большой белой кружке был душистым и обжигающим, как дома, а темное густое варенье из непонятных ягод пахло смородиной.
Наташу уложили на диване под часами с лисой, которая воровато туда-сюда шмыгала глазами. Часы были тоже совсем такие, как дома, только не висели на гире мамины ножницы…
– А сосны здесь есть? – спросила Наташа, не открывая глаз. Вера Ивановна нагнулась над нею, но ничего не ответила. Наверное, подумала, что Наташа спит.
Утро того дня началось обычно. К десяти часам солнце наконец выбралось из-за сопки. Сначала порозовели крыши, затем сугробы возле заборов. Ночью кто-то прошел снежной целиною. Утром следы на снегу стали синими. Поголубела и санная колея возле магазина. Опять будет большой мороз.
Первым в библиотеку, как всегда, пришел «продавщицын» Вовка. Сначала над довольно высоким барьером появилась остроухая, жарко дышащая морда большого черного пса. Потом рядом возникло задранное ухо шапки-ушанки и, наконец, круглое Вовкино лицо.
– Теть Наташ, а ту книгу не принесли?
«Той» книги, конечно, не оказалось, и Вовка, вздохнув, утешился «Робинзоном Крузо». Потом звонил телефон и разные голоса спрашивали:
– Еще не приехал?
Это уже относилось к киномеханику, уехавшему за новым фильмом. Из окна библиотеки Наташа первой видела его возвращение, и через десять минут весь поселок знал, горевать ему или радоваться.
И только после того как звонки прекратились, зашла Наташина соседка, Дина Марковна, прозванная «порядчицей». Всю жизнь эта ленивая, рыхлая женщина грозится «навести порядок» где только можно. На этот раз она обрушилась на больницу:
– Уж я бы навела там порядок! Человек неделю без глаз лежит, а Оки хоть бы газету ему почитали!
– Да о ком вы, Дина Марковна? – спросила Наташа.
– Вот те раз – о ком! Битый час толкую – горняка с прииска привезли. Старый шпур, говорят, в шахте взорвался, породой в лицо хлестнуло. Теперь у парня одного глаза как не бывало, да и второй-то спасут ли, неизвестно… И лежит он один-одинешенек, хоть бы кто к нему приехал, что ли.
Если бы Дину Марковну можно было слушать больше десяти минут, Наташа вряд ли пошла в больницу. Она бы просто постеснялась. Но Дина Марковна явно не собиралась уходить. В конце концов Наташа взяла первые попавшиеся под руку журналы и сказала, что сама пойдет в больницу. Дина Марковна удивленно глянула на нее, промолчала.
На небе светили три солнца. Одно расплывчатое, радужно-рыжее в середине и два – по бокам, как огромные светлые капли, которые никак не могли скатиться с мерцающего серебристого кольца. Нижний край кольца исчезал за сопкой, верхний таял в белесом морозном небе. Снег рассыпался под ногами сухой скрипучей пылью. На реке зеленела и курилась туманом наледь. Стоял конец марта. От снежного света ломило глаза. Может быть, от этого Наташа не сразу рассмотрела человека, лежавшего на кровати. Его словно и не было среди безликой больничной мебели. Потом Наташа поняла, откуда это ощущение: он и старался не быть, уйти, исчезнуть.
Наверное, он был высок и силен, но сейчас его тело не по-живому плотно лежало на кровати. Руки равнодушно вытянуты вдоль одеяла. На лице из-под бинтов пробивалась рыжеватая вьющаяся бородка. Он долго возвращался из своего далека, когда Наташа его окликнула.
– Кто вы? Что вам нужно?
– Я… я Наташа. Библиотекарь. Мне рассказали о вас… вот я и пришла. Ведь вам же скучно лежать все время вот так. Я могу почитать вам что-нибудь, время у меня есть.
– Спасибо… Только мне все это ни к чему. Ведь я не вижу ничего! Не вижу, понимаете вы, что это такое?!
Он кричал. Наташе стало страшно. Просто, чтобы отвлечь его, она спросила:
– А как вас зовут?
Он осекся, точно остановился с разбегу. Прежним далеким и бесцветным голосом ответил:
– Александр… – и больше не сказал ничего.
И все-таки она пришла и на другой день, и на следующий. В больнице скоро привыкли к Наташе, уже не спрашивали, к кому она идет. Только сестры иногда смотрели ей вслед с сожалением. Ей казалось, что в жизни ее ничто не изменилось, все как было. Просто решила помочь человеку – только и всего. Но однажды ее не пустили в палату. Знакомая сестра сказала, что сегодня Александру будут делать вторую операцию. Последнюю.
Придя домой, Наташа долго бродила по комнате, без толку переставляя вещи. Вера Ивановна молча наблюдала за нею. Так уж само собой вышло, что Наташа осталась у нее. Как пришла в тот вечер – озябшая с крутым детским локончиком на лбу, – так и осталась. И теперь уже сама Вера Ивановна не знала бы, как без нее жить.
Наташа взяла стул и все так же, неизвестно зачем, понесла его к окну. Тогда Вера Ивановна сказала:
– Ох, Наталья, смотри! Втюришься ведь в своего подшефного, а что он за человек, мы и не знаем. Может, у него другая есть или семеро по лавке…
Наташа вспылила:
– Да при чем тут это?! Вовсе я не собираюсь в него влюбляться! А если у него жена есть, что ж она его бросила? Приезжала бы…
Вера Ивановна промолчала. Солнечный зайчик на стене отсчитывал минуты. Вот перескочил со стены на край зеркала, вспыхнул маленькой радугой. Наташа зажмурилась. В сердце точно медленно вошла игла, стало нечем дышать: ведь я совсем не хочу, чтобы она была, чтобы она приезжала. Как же быть? Может быть, я не должна туда больше ходить? Наверное, так… Да, так будет лучше.
Она поставила стул на место. Прошлась по комнате, вздохнула:
– Вера Ивановна, а вы не знаете, что о нем врачи говорят?
Наташа выбрала самый интересный рассказ. Во Всяком Случае, журнал с ним уже успели зачитать до того, что отвалилась обложка. Она читала, а глаза то и дело соскальзывали со страниц, останавливаясь на лице Александра. Оно не отражало ничего. А может быть, это просто оттого, что не видно глаз? Ведь без глаз лицо умирает. Нет, он не слышит, не хочет слышать. Наташа замолчала, оборвав на полуслове какую-то длинную фразу. Стало тихо. В коридоре звенели водяные капли. Одна, вторая… десятая. И тогда он чуть повернул голову в ее сторону.
– Вы еще не ушли?
– Нет…
– Вы бы лучше рассказали мне что-нибудь… Не из книг… А то застит, все застит… Земля падает…
Он замолк, мучительно наморщив губы.
Наташа приподнялась:.
– Но… я не знаю, что рассказать!
Он не ответил, и она увидела, что лицо его вновь замерло. Он больше ее не слышал. Она тронула его большую неподвижную руку. Пальцы чуть заметно ответили на пожатие, и Наташа сейчас же отдернула свои, точно обожглась. Но лицо молчало, и она тихо пошла к двери. Капля в коридоре упала в сотый раз.