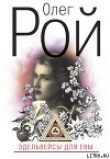Текст книги "О чем разговаривают рыбы"
Автор книги: Ольга Гуссаковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Пока мы разговаривали, почти все женщины разошлись. Две или три, из самых запасливых, бродили вдоль берега, собирая оброненную рыбу. Остальные разорванной цепочкой тянулись вверх по дороге к поселку.
Только тут я вспомнила про Настеньку – так ведь и не узнала, что с ее ногой. Не до того было. Да, наверное, ничего страшного. Нина Ильинична взяла меня под руку:
– Пойдемте ко мне чай пить? Вымоетесь, отдохнете.
Я согласилась. О том, где была все это время Тоня, я просто не подумала.
Дверь мне отворила опрятная старушка. На отцветшем смуглом лице пытливо блестели узкие темные глаза.
– Вам кого? Ладнова? Нету его, не приходил еще. Может, подождете?
Она пошла впереди меня по темному, по-русски пахнущему березовыми вениками коридорчику. Весь этот дом был старинно-русским. Деревянный, из вековых лиственниц, которые, может быть, по одной собирали в бедных здешних лесах первые поселенцы. Выстроили дом и на память о покинутой московщине одели его окна кружевом наличников, витыми столбцами украсили крыльцо.
Теперь от всей могучей рыбацкой семьи осталась в живых одна бабка. Остальных – кого похоронило море, кого война. Чтоб не было скучно, бабка пустила постояльцев. Бегали по горницам дети, и дом радовался жизни.
Комната Андрея Ивановича была угловой. В ней тоже пахло сухим листом, чисто вымытым деревом и немного морем. Ничего лишнего в комнате не было. Во всем – солдатский порядок. Чувствовалось, что в этой комнате вещи привыкли к месту, стали незаметными, потеряли лица.
Почему-то захотелось переставить на полке книги – пусть лежат как попало. Иногда очень полезно нарушить привычный порядок вещей. Но я ничего не тронула.
Мне давно уже хотелось пойти на сейнере в море. Трудно писать о деле, если не видишь его основы. А здесь эта основа была не у причалов рыбозавода, а там, в море, куда каждый день уплывали стаи сейнеров. Я решила побывать на сейнере Ладнова. Вот и предлог для знакомства.
Но он не появлялся. Старушка хозяйка опять заглянула в комнату.
– Может, чайку выпьете со мной? Самовар закипел.
Первый раз на Колыме я услышала это слово – «самовар». Я поняла, что старушка гордится такой редкостью.
Во вмятинах медных самоварных боков сохранилась вся история нелегкого пути его хозяев в неизведанные края. Но самовар выжил.
Варенье из дикой колымской жимолости пахло малиной. Так уж все было устроено в этом доме.
– Простите, но я ведь так и не знаю, как вас звать?
– Бабушка Аграфена. Все так зовут, милая. А я уж, прости меня, дочкой тебя буду звать, мне так привычнее.
За окном то пробегали облака, принося в комнату сумеречные тени, то разъяснивало, и тогда на мятом боку самовара вспыхивало маленькое солнце. Бабушка Аграфена щедро наложила мне варенья на пузырчатое зеленого стекла блюдце.
– Кушай, милая. С ванилью варила. Лучше ни у кого нету. Андрей Иванович и то хвалит, хоть и мужик.
– А вы его давно знаете?
– Да, почитай, с пеленок. Мне ведь годов-то много, не смотри, что я такая поворотливая. Дело давнее, прошлое. Отец-то его женихом мне был.
Я не успела ничего спросить. Бабушка Аграфена, чуть помолчав, заговорила снова:
– Вот нонешние жалуются: то у них не получается да это, а кто бы им мешал? Своим умом живут. А меня и не спросили – выдали за другого, да и все. Семья-то Ладновых пообедняла, а мы в достатке жили. Отцу моему и не показался такой жених, не ко двору, мол. Что ж, так вот и жизнь прожила. А Ладнову не повезло – худо умер. Медведь на сопке заломал. А как умирать стал, позвал меня и говорит: «Было бы мне еще жить, Аграфенушка, никому бы не отдал тебя. Трудно мне помирать: во всей жизни не было радости». Так вот и ушел. А я до сих пор жива.
Бабушка Аграфена вздохнула, сухонькой смуглой рукой тронула самовар, не остыл ли. В темных глазах была нестареющая боль.
– Я вот и Андрею Ивановичу толкую – выбирай по сердцу, а не по людскому слову, да ведь упрям он и обидчив. Весь в отца.
Старушка прислушалась:
– Никак, и он сам жалует?
В коридорчике действительно послышались тяжелые мужские шаги. Заскрипели старые половицы. Дверь отворилась. Загородив собой весь пролет, в дверях стал человек с литым обветренным и упрямым лицом. Особенно выделялись на нем густые и короткие – словно нарисованные брови.
В руках он держал свернутый плащ, в котором шевелилось что-то живое. Прежде чем я сообразила, в чем дело, в комнату мимо его ног проскочила небольшая рыжая собачонка и нервно забегала вокруг стола.
На лице Андрея Ивановича появилось мальчишеское просящее выражение:
– Бабушка Аграфена, ты только не бранись, ладно? Шел вон мимо магазина, а там собачонка эта. Ощенилась она, а мальчишки травят ее. Не понимают, что тоже живая тварь. Ну, я взял их всех. Пусть живут.
Только теперь я заметила, что он под хмельком.
Бабушка Аграфена вздохнула:
– Господи! Да разве с тобой поспоришь? Неси уж в сарай, что мне с тобой делать.
Обернулась ко мне:
– Вот видела, дочка? В доме пять кошек живет, всех он вот так натаскал. А теперь еще и собака щенная. Медведя разве еще привести? Только и осталось. Спьяну-то он добрый, всякую тварь ему жаль.
Андрей Иванович улыбнулся:
– Ладно, бабушка, на людей-то наговаривать – кошек сама привела. И не пьяный я вовсе. Так, вспрыснули малость план – и все. Разве ж можно без этого?
Краем глаза покосился на меня:
– Уж извините, я сейчас вернусь.
Старушка еще повздыхала, но уже легко:
– Ох, беда! Зверинец прямо, а не дом. Горностай ручной в кладовке живет. Вот так постучу в стенку – выбегает.
Андрей Иванович вернулся скоро.
– Бабушка, чаю хочется, страсть.
И по тому, как ласково протянули чашку старые руки, я поняла, как дорог ей, наверное, этот человек.
Он внимательно посмотрел, точно хотел узнать, какое впечатление произвела на меня вся эта сцена. В темных глазах медленно гасли смешинки.
– И надолго вы к нам?
– Еще не знаю…
– Оставайтесь подольше! Разве за два дня море узнаешь? А вам ведь о, море писать. У нас здесь все: и люди и дела – от него. Узнаешь море, тогда и людей, поймешь.
– Вот вы мне его и покажете, ладно? Возьмете на ночной лов?
Мне кажется, такое предложение не слишком обрадовало Андрея Ивановича: в путину посторонний человек на сейнере в тягость. Но он мужественно согласился:
– Что ж, пойдемте. А не укачает?
– Нет. – За это можете не бояться.
– Ну тем лучше.
Бабушка Аграфена закивала головой:
– Посмотри, посмотри, милая, на наше море. Щедрое оно, сколь годов людей кормит. И красивое. Только вроде девки с характером – не всякому свою красоту откроет.
Я заметила, что Андрей Иванович раза два украдкой поглядел на часы.
– Вы, может, торопитесь куда-то?
Он нахмурился:
– Нет. Это я так.
Еще через минуту, передавая ему стакан, бабушка Аграфена дипломатично сказала:
– А, чай, картина-то в клубе скоро начнется?
Он вдруг грохнул кулаком по столу:
– Ну и что – картина начнется?! Наташка, что ли, ждет? Пусть ждет!
Бабушка Аграфена всполохнулась:
– Ты чего? Опомнись!
– Чего – опомнись! Мне жена нужна, а не бабий командир. Тонька вот понимала. А этой неизвестно чего и надо.
Он встал, оглянулся. Видимо, снова вспомнил обо мне. Глухо сказал:
– Извините… – и побрел из комнаты.
Бабушка Аграфена стала убирать со стола. Обиженно гремели чашки.
Я вышла на улицу. Внизу на косе у клуба орал все тот же испорченный репродуктор:
Куда бежишь, тропинка милая,
Куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я,
Уж не воротишь, не вернешь…
Хорошая душевная песня гибла от его жестяного скрежета. Я подумала, что там внизу стоит, наверное, и ждет Наталья. И песня царапает ей душу жестяными когтями, и некому выключить равнодушную тарелку.
За ужином Настенька пронзительно посмотрела на меня:
– Я слышала, вы с Андреем Ивановичем в море идете?
– Да… Договорились сегодня.
С Настенькой мы видимся только за столом. Весь день она в школе. Там начался летний ремонт, поэтому у нас даже в чае вместо сахара мел, а на лице у Настеньки белые веснушки известковых брызг. От этого она выглядит еще моложе и уж вовсе несерьезно.
Сегодня меня целый день не было дома, а сейчас я сразу поняла, что у Настеньки есть ко мне важный разговор.
– Вас, может, будут просить Натальевну с собой взять – вы не берите.
– Кто будет просить? Почему не берите?
Настенька быстро-быстро затеребила уголок скатерти.
– Ну… мать ее… Знаете, рыбаки не любят женщин в море брать. А девчонка давно просится. Одну бы ее не взяли, а с вами могут. Но вы не берите, ладно?
– Совсем не понимаю, почему?
Настенька укоризненно сморщила губы: неужели нельзя без вопросов.
– Потому что я с Тоней дружу. Они с Андреем Ивановичем пожениться собирались, а тут… эта приехала. Нарочно ведь, нарочно она девчонку с ним посылает.
Я вспомнила белую ночь, живые солнечные лучи цветущих рододендронов, вспомнила глаза Натальи.
– Настенька, вы несправедливы. Они же любят друг друга. И никто тут ни в чем не виноват.
– Не виноват?! А Тоня как же?! Дурочка она. Я бы на ее месте давно в партком пошла!
– Не пошли бы и вы. И ей не стоит.
Настенька оставила в покое скатерть и с интересом посмотрела на меня. Злости как не бывало.
– А почему?
– Потому что разбитую посуду как ни клей – все трещины будут. Какая же это семья, если людей палкой друг к другу гнать надо? Я, например, считаю, что таким путем много зла делается. Ведь по-настоящему обиженная и слабая женщина жаловаться никуда не пойдет. А часто ли люди могут отличить настоящее горе от поддельного? Трудное это дело – помочь человеку в любви.
– Так, значит, вы считаете… я не права? И не должна защищать Тоню?
Лицо у Настеньки стало совсем детским, внимательным, готовым поверить.
– Какая же это защита – поддерживать в человеке чувство оскорбленного самолюбия?
Настенька вздохнула легко, поднялась из-за стола.
– Странная вы какая. Другие так не говорили. Ладно. Берите с собой Иринку. Я больше ничего не скажу.
…Но меня никто не просил. На согретой солнцем улице было пусто. Взрослые работали, дети убежали к морю или на сопки. Слишком долго все ждали тепла и солнца. Я пошла вверх – к домику Натальи.
За несколько дней кусты вокруг него разрослись еще гуще, домик совсем спрятался за стеной ольховника и цветущей белой спиреи. А возле дорожки уже выстроились красноватые стрельчатые ростки кипрея – ждали до лета.
Я подошла к двери, постучала. За дверью торопливо прошлепали босые ноги. Она отворилась. На пороге стояла Иринка. По ее глазам я поняла: ждала она не меня.
Иринка нахмурилась и потянула дверь к себе.
– Мамы нету. После приходите.
– Да я и не к маме твоей пришла, а к тебе.
– А зачем? – Иринка все не отпускала двери.
– В море хочу тебя взять с собою.
Дверь распахнулась во всю ширину, и также широко распахнулись глаза девочки.
– Верно? А когда?
– Сегодня.
– Ой!
– Ну так что же? Пригласишь меня хоть в дом войти или нет?
– Идите… – Иринка совсем засмущалась и не знала, что сказать.
Мы вместе вошли в маленькую чистую кухню. Здесь топилась плита и пахло дымом. На окне в консервных банках росли цветы – красная герань, столетник и неожиданные здесь нежные лиловые цветы дикого прострела.
– Это ты тут цветы развела?
– Нет. Это мама. Она их любит. Ей бы только по сопкам ходить. А я море люблю. Я капитаном буду. Ведь можно же девочкам капитанами, да?
– Можно, конечно.
Иринка с трудом передвинула на плите тяжелую кастрюлю.
– Помочь тебе?
– Не… Я сама.
За моей спиной отворилась дверь, пахнуло свежим запахом молодой лиственницы, Я обернулась.
На пороге, согнувшись под низкой притолокой, стоял Андрей Иванович. Он держал ведра с водой. В медвежьих темных глазах его была досада. Смотрел не на меня, на Иринку. Она вдруг быстрым движением взяла меня за руку и потерлась щекой о плечо.
Глаза Андрея Ивановича потеплели.
– Подружились, значит? А я думал…
– Что вы думали?
– Да как сказать? Вы ведь из газеты, а у нас бабы болтать любят – хлебом их не корми.
– А вы боитесь этой болтовни?
– Да нет. Не обо мне речь. – Он выразительно показал глазами на Иринку: нельзя при ней говорить.
Я спросила:
– Можно мне Иринку с собой взять сегодня, не помешаем? Я ведь за этим и пришла.
– Вот это добро! Давно я ей обещал, да все не получалось как-то. – Он виновато опустил глаза.
Иринка вдруг сказала:
– Я за дровами схожу. – И вышла.
– Что же не получалось у вас? – спросила я.
Андрей Иванович сморщился, потер висок.
– Да с матерью ее мы вроде в ссоре. Это я так… девчонке помочь зашел. Наталье не говорите.
– А как же мне Иринку в море взять без ее разрешения?
– Сама поеду, сама! – раздался за моей спиной звонкий голосок Иринки, – И не надо мне никого спрашивать! Дядя Андрей ко мне пришел, верно?
Андрей Иванович молчал, смотрел в окно. Короткие, словно обрубленные брови сошлись к переносице. Потом так же молча взял у Иринки из рук несколько корявых веток стланикового сухостоя. Нагнулся к плите, лицо его побронзовело от огня.
– Верно. К тебе пришел.
Помолчал, глянул на меня искоса. – Так вы с Иринкой приходите. Оденьтесь только теплее. Ночи у нас неласковые.
Сейнеры уходили в предрассветную мглу. Рыбаки знают, на стыке ночи и утра бывает мгновение полной «слепой» тишины. В этот миг рыбьи косяки можно не только шорох обложного осеннего дождя, падающего на воду. Среди обычных голосов моря его уловить трудно. Только увидеть, но и услышать. Шум рыбьего косяка напоминает перед рассветом, когда все затихает, людям слышно, о чем разговаривают рыбы.
Мы, я и Иринка, сидели на бухте каната и ждали. Небо было пасмурным. Серебристый свет белой ночи исчез. Море сразу похолодало и посуровело. Мелкие волны терлись о борта сейнера. Низко стлались полосы тумана. Казалось, что сейнер тащит его за собой на верхушке мачты. Темноты не было, но не было и привычной дневной определенности предметов. Каждый предмет притворялся чем-то другим. Бухта каната – лесным пнем, свернутые сети чем-то напоминали согнувшиеся серые фигуры, а люди – огромных сказочных великанов.
Полоса тумана и туч вдруг лопнула, как туго натянутое полотно, и мы увидели небо. На нем умирали звезды. Их гасил невидимый для нас свет зари.
Иринка прижалась ко мне, стало холодно. Из мглы вынырнула чья-то фигура, знакомый голое спросил:
– Что, женщины, озябли? – Это Андрей Иванович. – Поговорил бы я с вами, да время не то. Тихо надо идти. Море будем слушать. Авось сегодня нам рыбы и расскажут что интересное… Верно, Иринка?
Иринка потянулась к нему:
– А они только тебе расскажут, да, дядя Андрей?
– Да нет, отчего же? Доброму да умному всегда понятно, о чем рыбы говорят. Вот кто плохой, тех верно они не любят. Послушай. Может, и тебе что скажут. Иринка послушно закивала головой. Андрей Иванович ушел. Мы снова остались одни. Все было прежним, но мне показалось, что нам навстречу что-то движется. Неуловимое, невидимое и тревожное.
Это не была полоса света – море было тем же предрассветно-серым, это не был и звук. Это шла тишина. На какое-то мгновение у меня зазвенело в ушах.
Иринка стиснула мою руку озябшими ручонками.
– Слышите? – Ее шепот был громким, как крик. – Они разговаривают!
Я не слышала ничего, кроме вновь возникшего шороха волн. Потом ветер принес откуда-то далекий чаячий переполох. Может быть, там шла рыба, а может, мы подходили к острову, где тысячами жили чайки. Рыбаки ожили. Кто-то чиркнул спичкой. Вдоль борта поплыл огонек папиросы. Чей-то охрипший от тумана голос спросил:
– К «Двум братьям», что ли, пойдем, а капитан? Там, слышь, вчера косяк бродил.
Все стало самым обычным. Сейнер развернулся и лег на другой курс. К нам снова подошел Андреи Иванович. Иринка повисла у него на руке:
– А я слышала! Я все слышала!
Но что она слышала, девочка так и не сумела объяснить Андрей Иванович взял ее на руки и унес в каюту греться. А я пошла на корму, туда, где мелькали огоньки папирос.
У меня тоже были свои дела.
Передо мной лежала короткая и ясная телеграмма. «Немедленно возвращайтесь». В таких случаях полагается собирать вещи и уезжать. Вещи я собрала, их и собирать-то было нечего. Основное – блокноты.
Пухлые журналистские блокноты с обтрепанными краями. В них пряталось многое: цифры, имена, события. Все то, что составляет смысл моей работы. Ведь именно ради этого я приехала сюда, а потом поеду в другое место. Но кое-чего в блокноте не хватало – не было конца жизненной истории, которая занимала меня все это время. Я могла сколько угодно твердить себе, что это не главное, что не за тем я приехала сюда, все равно на душе словно камень лежал. Да и будет ли этот конец и когда?
Я тихонько шла к причалу, от которого отправлялись пассажирские катера. Там на досках, брошенных поперек пустых бочек, уже сидели люди. Ждали. Толстая баба едва удерживала дергающийся визжащий мешок с поросенком. Около коричневого сморщенного старика стоял короб с вяленой рыбой. Молодая женщина бережно прижимала к себе кошелку с яйцами. Все это были торговцы, отправлявшиеся на базар, народ ругательный и скучный. Денек выдался серенький. Пасмурным не назовешь, но и солнца не видно. Оно потонуло где-то среди слоистого тумана. Но было тихо. Метелки лисохвоста на берегу даже не шевелились. А мне обычно нравилось смотреть, как они бегут под ветром переливчатыми волнами старинного шелка. Теперь я уже долго не увижу этого. Будут новые места и встречи, но вот именно этот каменистый берег уйдет из моей жизни навсегда и уже никогда не повторится. От этого было грустно…
Катер еще не пришел. Я оглянулась: где бы пристроиться. Возле мостков качался на тихой воде целый самодельный флот. Лодки и лодчонки, сделанный подчас чуть ли не из пустых бензиновых бочек. Неуклюжие, кургузые, совсем не похожие на стройных речных бегунов, но устойчивые и живучие.
Из одной лодки навстречу мне поднялась тоненькая фигурка.
– Иринка! Ты зачем сюда забралась?
– А просто так… Здесь хорошо. Идите сюда.
Я слезла с мостков в шаткую легонькую лодку и благополучно оказалась на носу рядом с Иринкой.
От лодки пахло рыбой, мазутом и ржавым железом. Стиснутое боками десятков таких же лодок, море вокруг нас казалось ручным и было грязным. На мелком дне блестели консервные банки, битое стекло. Но вдали, где в синем тумане вставала из воды громада острова, море вновь становилось самим собой. Оттуда прилетал ветер, полный странных, ни на что не похожих запахов. В них чудился аромат южных цветов и далекого тропического леса. Кто знает, где он успел побывать, этот ветер?
Иринка завороженно смотрела вдаль. Глаза ее, как волны, меняли цвет – то темнели, то светлели так, что оставался один черный зрачок.
– Что же ты все-таки делаешь тут?
– Ничего… Не хочу дома сидеть – вот и все.
– А разве дома тебе плохо?
Иринка повела плечами:
– Не-е-ет. Только мамка работает, а дядя Андрей к нам перестал ходить. Мне без него скучно. А то раз пришел, так мама его выгнала. А потом плакала. Чудная какая: я же ей сказала, что он ко мне приходил, а не к ней. Все равно плачет. И ругается. Вот я и хожу сюда. Это лодка Жоркиного брата. Я даже знаю, где весла лежат. Хотите, принесу?
– Да нет, скоро катер придет, мне ехать надо.
– Ну во-о-от, ехать! А то бы мы знаете, что сделали? Взяли бы лодку и поплыли далеко-далеко, во-о-он туда!
Иринка показала на синюю громаду острова. В эту минуту облака над островом разошлись, и на него золотым дождем пролился солнечный свет. От этого дикий скалистый утес вдруг превратился в сказочную страну. Мне даже казалось, что на его вершине сквозь синий туман белеет волшебный замок, хоть я и знала, что это всего-навсего нерастаявший снег.
Кто-то окликнул меня по имени. Я оглянулась. На мостках стояла Нина Ильинична. За ее спиной, разводя широкую волну, подходил катер.
– Хорошо, что я вас нашла! Оставайтесь еще на день. Хотите, я письмо вашему редактору напишу? У нас завтра собрание важное – весеннюю путину закончили.
Я обрадовалась: вот и нашлось оправдание, и я остаюсь здесь.
Я хотела позвать Иринку, но она незаметно перебралась в другую лодку, а оттуда – еще дальше. Точно ей хотелось хоть на самую чуточку быть ближе к волшебному острову.
Солнечный дождь пролился и иссяк. Остров стал самой обычной, знакомой воем скалой у выхода из бухты. Там жили одни чайки. Не знаю, что продолжали видеть Иринкины глаза. Мои уже не видели ничего особенного.
Шквальный ветер выгнул дугой лозунг над воротами рыбозавода. День был непогожий. Волны с разбегу бросались на берег. Черную корону окутали сизые тучи. Над мачтами сейнеров беспомощными белыми хлопьями проносились чайки – ветер гнал их в море.
Люди собирались в клуб. Мужчины шли прямо, не кланяясь ветру. Женщины – боком, защищая ладонями лицо. Вместе с ветром летели навстречу жгучие соленые брызги. Шла и я.
Какая-то женщина поравнялась со мной, взяла под руку. Только по быстрым движениям я узнала Нину Ильиничну: лицо она прикрыла пестрой косынкой. Из-под косынки были видны только глаза да две неровных светлых оспинки на переносице.
– К нам идете? Это хорошо. А я думала, погоды испугаетесь, Награды сегодня вручать будем. И сюрприз один вас ждет. Такой материал получите, сразу напечатают. Я же не зря просила вас остаться.
Говорила она весело, но глаза не смеялись. Наверное, от усталости: ведь путина была и за ее плечами.
Собрание началось так же, как испокон века начинаются все собрания – с длиннейшего доклада директора рыбозавода. Говорить он не умел и добросовестно читал заранее написанный текст. Лицо у него было хорошее, сильные обветренные скулы, зоркие глаза. Дело свое этот человек знал, а рассказать о нем просто не мог. Но никто не обижался: другого и не ждали.
Как и на всех собраниях, в зале шла своя тихая жизнь взглядов, незаметных жестов, приглушенной неприязни и открытых симпатий. Низкий зал клуба напоминал склад, только по стенам висели портреты, украшенные пучками дикой зелени. Сладко пахло лиственницей и модными здесь духами «Красная Москва».
Наталью я увидела сразу, как вошла. Она сидела чуть в стороне от всех. Такая же нарядная, как и все, с таким же, как у всех, торжественно-замкнутым лицом. Алой полоской выделялись на лице накрашенные губы. Это старило ее, но это тоже была мода.
Тоню я не видела.
Собрание шло своим чередом. Кончился доклад. Мужчины потянулись на улицу перекурить, но большинство тут же вернулось. На улице невозможно было зажечь спичку, ветер мгновенно срывал и уносил хрупкий огонек.
Женщины курили, не вставая с мест, мужским жестом чиркали спички в ладонях. Стало нечем дышать. Попытались открыть окно, но ветер ворвался в него так яростно, что со стены упал портрет. Окно закрыли.
Когда все снова занимали свои места, я заметила Андрея Ивановича и Тоню. Она села почти напротив меня. Угрожающе спокойная. Глаза спрятала – опустила голову.
Андрей Иванович сразу увидел Наталью – и пошел к ней, но на полдороге замялся. Тоня подняла голову, и я почувствовала, что ее взгляд словно веревкой опутал ему ноги. Он неловко уселся на край скамейки за спиной Натальи. Она не обернулась. Только помада на губах как будто стала ярче.
Так они и сидели. Три человека, скованных одной цепью, и ни у кого не было силы порвать ее.
Теперь слово взяла Нина Ильинична. Она читала длинный список награжденных.
В зале было душно и жарко, а в окна все отчаяннее бился ветер, заглядывали рваные полосы туч. Мне казалось, они садятся на крышу над нашей головой и оттого все труднее дышать, все острее чувство тревоги.
– …значком «Отличник социалистического соревнования» резальщицу разделочного цеха Наталью Гавриловну Смехову.
Я поняла: вот он, сюрприз. И сейчас же хлестнул по нервам голос Тони:
– Это за какие же такие заслуги ее награждать?!
В зале зашумели. В этом шуме я уловила сочувствие. Я знала, за спиной Натальи в эту секунду ширится пустота. И только один человек оставался с ней. Он был рядом, и его не было. Андрей Иванович низко опустил большую темноволосую голову.
Тоня встала и на виду у всех пошла из зала. Шла медленно, глаза полыхали торжеством. На ходу протянула ладонь парню, он отсыпал ей мелких кедровых орешков. На пороге оглянулась, сплюнула шелуху с широких губ:
– За такую работу прежде иначе жаловали!
– А почему и не наградить? Мало ли что она когда-то плохо работала, а теперь кто скажет, что хуже других? – ответил Тоне чей-то молодой звонкий голос.
Тоня молча повернулась, ушла, В зале зашумели, захлопали откидные сиденья. Наталья была уже не одна, она победила, но, наверное, даже не почувствовала этого. Она быстро встала со своего места и пошла – побежала к выходу. Лицо залили слезы. Я пошла за ней.
На пороге меня оттеснило плечо Андрея Ивановича. Он первым кинулся навстречу ветру.
Что с ним было? Может быть, только сейчас понял, что произошло. А скорее, просто любовь оказалась сильней всех условностей.
Он бежал вверх по каменистой улице далеко впереди меня. Ветер теперь дул в спину, но от этого было не легче, его неожиданные удары валили с ног. Я спотыкалась о камни и, наконец, потеряла его из виду.
Вокруг была пустынная, пронизанная ветром улица. Даже окна домов словно зажмурились, прикрытые ставнями. Пробежали куры с растопыренными хвостами. Откуда-то с сопок донесся сдавленный грохот камнепада. И низко-низко, как стаи черных птиц, летели обрывки туч.
Я подумала, что мне незачем идти наверх. Настало время для них: понять друг друга или разойтись. Но как я хотела счастья Наталье. А еще больше – Иринке…
Возвращаться на завод не было смысла. Я повернула домой. Ветер все не унимался, и в просветах между тучами небо алело, как свежая рана…
К ровному шуму ветра за окном прибавился еще какой-то звук. Я прислушалась: стучали в стекло. Настойчиво, тревожно.
Раньше меня к темному окну подбежала Настенька. Открыла форточку. Ветер сейчас же швырнул в нее горсть песка и брызг.
– Вставайте! Беда в поселке! – услышала я чей-то задыхающийся голос. – Ребятишки в море ушли…
– Кто? Какие? – осевшим от испуга голосом спросила Настенька, но я уже знала кто.
Он был так нужен Иринке – прекрасный остров в море, где живут добрые звери и рыбы рассказывают людям обо всем, что есть на свете. Она должна была найти его. Как я не поняла этого еще там, возле старой шхуны. Но почему именно сегодня, именно в такую отчаянную погоду?
Настенька, уже почти одетая, подлетела ко мне.
– Вот! А вы еще защищали эту Наталью! Девчонка пропадает в море, а она и не знает об этом. Найти не могут хорошую мать!
Я точно своими глазами увидела домик возле сопки и Иринку у окна, где давно отцвели прострелы. Она ждала мать. Долго ждала. Но у Натальи было свое горе, своя обида. Он догнал ее, наверное, недалеко от дома. Возможно, Иринка даже видела их в окно. Они ушли, занятые собой, и девочка осталась одна…
Ветер проносил мимо меня тени бегущих людей. Луны не было. В черной пропасти неба резко мигали яркие звезды. И мерно вздрагивала земля от ударов волн невидимого моря.
На пирсе одним живым теплым комом сгрудилась толпа. Тут уже не осталось ни врагов, ни друзей – были просто люди. А перед ними, чуть не хлеща по ногам, бесилось море. Огромное и неодолимое, как в древности.
И так же, как тогда, ветер уносил вдаль жалобный крик невидимой мне женщины:
– Сыно-о-очек мой!
Кто-то зажег электрический фонарик. Луч света скользнул по лицам и на секунду осветил двух женщин у самого края пирса.
Они стояли рядом и бесконечно далеко. Две соперницы. И обе ждали, каждая для себя.
У меня мелькнула мысль: вдруг горе помирит? Бывают же чудеса.
И точно в ответ на эти мысли сквозь шум ветра я услышала голос бабушки Аграфены. Она чуть не кричала мне в ухо:
– Видишь, как стоят? Точно подруги. А я вот помню, как-то две бабы ждали мужика, да одна и оступилась. Ночь темная, кто будет виноват?
Старуха стояла рядом со мной и не отворачивалась от секущего ветра. Даже в темноте я видела, вернее, чувствовала, как остро блестят ее глаза. Чего они не видели за долгий свой век?
Мне стало холодно и страшно. Никогда еще не испытывала я такого чувства полной беззащитности перед всем злом, какое только есть в мире.
– Андрей Иванович как услыхал, – продолжала она, – тут же набрал рыбаков, кто посмелее, да и в море. Сейнер-то чуть у причала не перекинуло. Хоть бы сами живые вернулись.
Луч фонарика вспыхивал и гас. И всякий раз я видела на миг чьи-то глаза, стиснутые руки, напряженную линию плеч. Словно детали одинаковой во все века картины большого человеческого горя.
Время шло, и я не сразу поняла, почему вдруг в общей темноте предметы начали отделяться друг от друга. Сплошной темной массой стояли люди, но впереди них уже ясно обозначались мачты причальных сейнеров. Смутной давящей громадой, выступили из тьмы сопки по берегу. И наконец где-то далеко мелькнула слабая серебристо-туманная полоса. Наступал рассвет.
Ветер стих немного, но море не унималось. Только теперь в бледном немощном свете ненастного утра оно уже перестало быть огромной таинственной силой.
Жестокое северное море в свинцовой броне волн. Грозное, но давно знакомое людям. И почему-то мне стало спокойнее. Может быть, просто оттого, что человеку всегда спокойнее, когда он видит опасность.
Кажется, и у других было такое же чувство. Человек пять-шесть пошли домой, разговаривая о чем-то своем. За ними по одному, по двое потянулись остальные. В жизни поселка бывали и не такие беды.
Только две фигуры у края пирса не обернулись, не тронулись с места. Этим ждать до конца.
Мать Тоника, беременная белокурая женщина, едва стояла на ногах. К ней подошла Нина Ильинична, чуть не силой отвела в сторону, посадила на бухту каната. Села рядом, накрыв ее полой своего плаща. Высокая, худая мать Жорки тронула Наталью за плечо:
– Наташа, ты крикни, если что. Малого пойду кормить. Нельзя ведь…
И потому, что подошла она к Наталье, я поняла, что теперь одна против всех оставалась Тоня.
Так всегда большое горе, как половодье, сметает весь мусор мелких обид и неурядиц. И оно всегда справедливо в своем решении.
Я тоже устроилась рядом с Ниной Ильиничной на той же бухте каната.
Теперь только Наталья и Тоня стояли у края пирса. Осталась еще группа женщин на другом конце пирса. Эти нашли где-то брезент и спрятались под ним. Я не видела, кто там был. Наверное те, чьи мужья или братья ушли на сейнере.
Уже совсем рассвело. Ветер почти стих. Пошел нудный мелкий дождь. Черную корону заволокло серыми дождевыми тучами.
От дождя сразу почернели камни на берегу, поникли кусты. Мир потерял краски. И вместо чувства острой опасности в душу начала закрадываться серая безнадежность. Кого и чего мы ждем? Чудес не бывает.
Эту же мысль я прочла и в никнущей фигуре Тони. Теперь маленькая хрупкая Наталья стала чуть ли не выше ее.
Нина Ильинична обернулась ко мне:
– Знаете, море – странная штука. Я много лет тут прожила, всякое видела. Каждую путину что-нибудь да случится. И вот есть такой необъяснимый закон: часто наперекор всему люди возвращаются, если их очень ждут. Очень! Понимаете? Как-то я слышала удивительные слова о силе веры: бывает, что вера человека – просьба. Но есть люди, чья вера – приказ судьбе. Но таких мало, и это очень трудно – так верить и ждать.