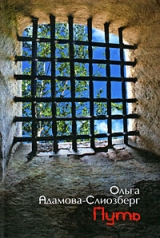
Текст книги "Путь"
Автор книги: Ольга Адамова-Слиозберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Алтунин
К сожалению, я забыла имя этого замечательного человека. Фамилия его была Алтунин, он из Воронежской области. Сначала он работал, кажется, на заготовках кожсырья, а потом перешел на партийную работу. Это был красивый человек, лет сорока, с рыжеватой бородкой, чисто русского типа. Видно, раньше он был очень силен, широкоплечий, крупный. Тридцать восьмой и тридцать девятый годы он был на прииске и там, что называется, «дошел». Ослаб, кашлял, выхаркивал легкие. Руки у него были золотые, его и перевели инструментальщиком в женскую бригаду на стройку в Магадан.
У меня с ним был такой разговор.
– Как началось "это" в 1937 году: тот враг, этот враг, исключаем из партии, подымаем руки – убиваем своих же товарищей.
Сначала я сказался больным, не ходил на партийные собрания, чтобы руку не подымать, а потом вижу, надо что-то делать, так нельзя: партию губим, людей хороших, честных губим. Не верил, что все предатели, я же людей знал хорошо.
Сел как-то вечером, написал заявление в трех экземплярах: одно – в свою партийную организацию, одно – лично Сталину, одно в ЦКК. Пишу, что губим революцию. Может, это у нас местное творчество, вредительство, так это полбеды, а если по всей России – так это контрреволюция.
Написал – всю душу вылил. Показал жене. Она говорит:
– Ты себя губишь, как отправишь это заявление, тебя назавтра же посадят.
А я говорю: пусть посадят, лучше сидеть, чем руку подымать и товарищей губить.
Ну, по ее все и вышло. Подал заявление, а через три дня меня посадили. Живо обработали, десять лет – и на Колыму.
– И вы никогда не жалели, что сделали это?
– Нет, один раз пожалел. Сильный мороз был, послали нас пеньки корчевать в лес. Инструмент был – топоры ржавые, ни лома, ни кайла. Помучились мы с пеньками, еле-еле четыре штуки вытащили. Говорим – ну их к черту, развели костер, пожгли те пеньки. Вечером приходит десятник – ничего не сделали.
Прямо из леса в карцер. А карцер – три квадратных метра и окна без стекол. Печки нет. Бегал я, бегал по этой клетке, и вдруг так мне обидно стало: других сажали, а я сам себя посадил. И что толку, что написал? Все осталось по-прежнему. Сольцу, может, стыдно стало, а Усатому – все равно, его не прошибешь. Сидел бы сейчас с женой, с детьми в теплой комнате за самоваром. Как подумал я это, стал голову бить о стену, чтобы мысли эти не смели ко мне приходить. Так всю ночь бегал по клетке и себя ругал последними словами за то, что пожалел о спокойной жизни.
Алтунин проработал с нами одну зиму. Весной 1940 года он умер в лагерной больнице от туберкулеза.
Игорь Адрианович Хорин
В конце декабря 1939 года нашу бригаду послали на «легкую работу»: мы пилили и кололи дрова во дворе пятиэтажного дома, потом разносили дрова по этажам. Разносили мы дрова по очереди, чтобы хоть немного погреться, а потом снова пилили и кололи, с восьми часов утра до шести вечера, а мороз был около пятидесяти градусов.
В теплых и благоустроенных квартирах жили работники НКВД или договорники. Там почти всегда пахло вкусной едой, иногда духами. Пробегали дети, порой слышалась по радио музыка. А у нас в бараках пахло сушившимися у печи портянками и валенками, слышны были голоса усталых и голодных людей, а порой и страшная ругань забредших в "политический" барак уголовниц. Обитатели уютных квартир боялись с нами общаться, как с зачумленными. Я не помню случая, чтобы мне предложили сесть погреться или дали поесть.
И вдруг мне неслыханно повезло: заболел нормировщик, который начислял зарплату по нарядам. Ко мне подошел начальник конторы и спросил меня, могу ли я начислить зарплату рабочим. (В моем деле числилось, что я – экономист по труду.) Вообще-то это было незаконно, имелось указание для политических: ТТФТ – только тяжелый физический труд. Но горела зарплата и временно пришлось взять з.к. с тяжелой политической статьей.
С наслаждением я вошла в контору, теплую светлую комнату, и села за стол. В конторе работали бытовички, чисто одетые, откормленные. Каждая из них имела "лагерного мужа" из начальства. Они убегали на обед и посредине работы на вольные квартиры, ходили без конвоя, начинали работу в 9 часов, кончали кто когда. Из мужчин я заметила только чертежника. Его звали Игорь Адрианович Хорин. Это был желчный человек 35 лет, с виду больной туберкулезом.
Работы у меня было невероятно много: груду нарядов – надо было пронормировать и расценить за какие-нибудь две недели. Поэтому я не очень замечала, что делается вокруг, работала, не поднимая головы. Очень мне хотелось подольше пробыть в конторе, отдохнуть от мороза, пилки и колки дров, таскания по этажам неподъемных тяжестей. Обратила я внимание на Хорина вот по какому поводу: одна девушка попросила его одолжить ей рубль. Он вышел и через 15 минут подал ей бумажный рубль. Девушка побежала в буфет, но скоро со смехом вернулась: рубль оказался простой бумажкой, артистически подделанной под рубль. Бумажка пошла по рукам, все восхищались искусной подделкой. Игорь гордо улыбался и говорил:
– Это пустяки, то ли я еще могу сделать!
Мне рассказали, что он был знаменитым фальшивомонетчиком, подделывал номера в облигациях на те, которые выиграли. Кроме того, он был замечательным шахматистом, давал сеансы игры на 30 досках, обыгрывал лучших шахматистов Магадана.
Я наслаждалась своей работой и только молила Бога, чтобы нарядчик подольше болел. Омрачало мою жизнь только то, что я кончала работу очень поздно, а идти ночью одной по Магадану с его темными, занесенными снегом улицами было очень страшно.
Надо сказать, женщин на Колыме было мало, кончившие сроки уголовники и бесконвойные заключенные (бытовики и уголовники с легкими статьями), годами живущие без женщин, просто набрасывались на одиноко идущую женщину, как волки на добычу. Однажды меня напугал пьяный повар с парохода, который, угрожая ножом, требовал, чтобы я пошла с ним. Я начала кричать, и его забрал патруль. Я смертельно боялась, и каждый вечер переживала настоящие муки. Как-то я вышла с работы вместе с Хориным и попросила его:
– Пойдемте вместе, я очень боюсь.
– Не маленькая, дойдете, – ответил он и быстро пошел вперед.
После этого, естественно, я говорить с ним не хотела. Однажды я раздобыла томик Лермонтова и в обеденный перерыв его читала. Я заметила острый взгляд Хорина, он смотрел на книгу. Я заперла ее в ящик стола и пошла разговаривать с бригадирами. Вернувшись, я книги не нашла, хотя ящик был заперт. Очень огорченная (книга в лагере – драгоценность), я даже говорить не хотела о своей пропаже, понимала, что с такими квалифицированными ворами не поспоришь. Однако к концу работы книга вновь появилась в ящике, а в книге лежала записка:
"Очень прошу вас простить мою грубость. Мне надо поговорить с вами. Я буду ждать вас у выхода. Хорин". Удивленная и обрадованная находкой, я вышла после работы. Хорин меня ждал. Оказывается, он не знал о существовании Лермонтова и за день много прочел и даже запомнил наизусть. Способности у него были поразительные.
– Расскажите мне про Лермонтова, когда он жил, кем был, – попросил он меня. Когда я ему сказала, что он был убит в 27 лет, Хорин чуть не заплакал.
С этого дня мы ходили домой вместе, и все наши разговоры были о литературе. Я ему читала стихи Блока, Тютчева, Пушкина и Ахматовой. Те, что сохранились в моей памяти. Даже рассказывала целые романы Тургенева, Толстого, Достоевского. Он впитывал все, как иссохшая земля благословенную влагу.
Жизнь он прожил страшную: сын офицера, старший из шести детей. Отца своего он ненавидел за дикую жестокость, превращавшую в ад не только жизнь безответных денщиков, но жены и детей.
Когда мальчику исполнилось 10 лет, его отдали в кадетский корпус в другой город. Несмотря на муштру, тяготившую нервного свободолюбивого мальчика, он даже в каникулы не хотел ехать домой в Казань. В 1917 году отца его буквально разорвали ненавидевшие его солдаты. Мать с пятью младшими детьми уехала за границу, кадетский корпус распустили, и Игорь сделался беспризорником. Ненависть к отцу, обида на мать, бросившую его на произвол судьбы, перешли в любовь к революции. Он пристал к какой-то воинской части. Маленького роста, худенький, он в свои 12–13 лет сходил за десятилетнего. Необыкновенная наблюдательность, память, сообразительность – все делало его незаменимым разведчиком. Он провоевал всю гражданскую войну, а потом заболел тифом и попал на полгода в больницу. Соседом его по больнице был какой-то образованный человек. Он заметил необыкновенные способности мальчика и стал готовить его в университет. За полгода они прошли математику и физику за среднюю школу, но учитель Игоря умер. Перед смертью он дал Игорю письмо к своему товарищу, преподавателю Университета. Выйдя из больницы, Игорь пошел к адресату, тот ему помог поступить в университет на физмат.
Вначале он наслаждался учебой, товарищами, всем строем жизни. Он даже подал заявление о приеме в партию, но какой-то член комиссии, слышавший о его отце, возражал против приема в партию "офицерского" сынка. Взбешенный Игорь, который никогда не отличался выдержкой, запустил в говорившего табуреткой, после чего его исключили из университета. Так окончилась его ученая карьера, которая и длилась-то всего несколько месяцев.
И началась у Игоря новая полоса жизни: преступный мир принял его с распростертыми объятиями. Он подделывал номера облигаций на выигравшие, продавал поддельные бриллианты, показывал сначала настоящие, а при вручении их покупателю мгновенно подменял. Помогало ему обманывать людей еще то, что у него сохранились некоторые манеры юноши из хорошего общества. Он умел себя держать, хорошо одевался, иногда даже вставлял в речь французскую фразу с отличным произношением, усвоенным от матери, воспитанницы Смольного института.
Но при всех его талантах длилась его преступная деятельность недолго. Его арестовали и отправили на Беломорканал. Он мало рассказывал о своей лагерной жизни, но я знаю, что благодаря своей "благополучной" статье и способностям он устроился неплохо, работал чертежником и топографом. Однако глаза у него были зоркие, он видел много жестокости, несправедливости и страдания. Освободившись, он попал в театр на "Аристократов" Погодина. Не могу забыть ярости, с которой он говорил о Погодине:
"Как я жалею, что не встретился с Погодиным! Я набил бы ему морду, чтобы он не наживался на человеческом горе и поменьше врал!"
На Беломорканале он сошелся с девушкой-студенткой. Прожил с нею недолго, но она ему многое дала. Как и я, рассказывала о литературе, читала стихи. Иногда им удавалось раздобыть какую-нибудь книгу. Однажды попался том Маяковского, и Игорь запомнил его весь наизусть. Вышел он из лагеря с профессией чертежника с твердым намерением "завязать" с преступным миром и сделаться писателем.
Он поселился на даче под Ленинградом. Целыми днями читал и писал "Повесть о моей жизни". Никуда он не оформлялся на работу, зарабатывал чертежами. Это показалось весьма подозрительным. С его прошлым затворническая жизнь с книгами и тетрадями представлялась невероятной. Игоря арестовали как тунеядца. Если первый свой арест он считал заслуженным, то второй возмутил его до глубины души. Он рассказывал на следствии, что решил стать образованным человеком и писателем, а ему пришивали какие-то фантастические дела. Ко всему инженер, который давал ему работу, был арестован как враг народа. Все это произошло в Ленинграде после убийства Кирова, в обстановке обостренной подозрительности. Одним словом, он был осужден на 10 лет по статье УД (уголовная деятельность) и отправлен на Колыму. Наряду с озлобленностью и цинизмом в нем была какая-то детская наивность. Не зная другой жизни, кроме жизни лагерников и воров, не зная женщин, кроме проституток (короткая связь на Беломорканале оставила в его душе мимолетный след), он преувеличивал благородство и высокую нравственность интеллигенции. Он иногда спрашивал меня смешные вещи: как мы сидели за столом, во главе ли стола сидели мать и отец, служили ли им дочери, как мой муж делал мне предложение, долго ли я была невестой и т. д. На меня он смотрел снизу вверх, как на какое-то особое, возвышенное существо. Помню один комический случай. Как-то в очередном приступе самоуничижения Игорь начал говорить, что он не имеет права даже стоять близко к такой женщине, как я, и т. п.
– Ну что вы сравниваете меня и себя? – ответила я. – Я росла в прекрасной, благополучной семье, окруженная любовью и лаской. К моим услугам были любые книги, музеи, театры. Если бы я попала в такую жизнь, как ваша, я бы тоже стала воровкой.
Он:
– Нет, вы никогда не могли бы быть воровкой.
– Но почему же? Обязательно была бы!
Он (с раздражением):
– Да вы в первый же день обязательно попались бы!
Вот это верно. Воровке нужны осторожность, зоркость, наблюдательность и много еще качеств, которые у меня полностью отсутствуют.
Не зная, как нужно разговаривать с порядочной женщиной, Игорь относился ко мне с чопорной вежливостью: он никогда не брал меня под руку, никогда не заводил разговора на интимные темы. Только раз заговорил со мной как с женщиной: меня послали за 10 километров от Магадана в поселок Марчекан закрывать наряды. Мне было страшно идти одной, и я попросила Игоря придумать какое– нибудь поручение в Марчекан и проводить меня. По дороге он был мрачен и молчалив. А день был отличный, ярко светило мартовское солнце, небо сияло. Я сказала:
– Ни вертухая, ни собаки, ни выкриков: "Шаг вправо, шаг влево – стреляю". Мы идем, как обыкновенные люди…
Он молчал. Мне даже показалось, что он не слушает меня, занятый своими мыслями. Но вдруг с заблестевшими глазами он сказал:
– А почему же вы меня не боитесь? Ведь я тоже мужчина!
Я ответила с полным убеждением:
– Я не только вас не боюсь, но если бы нужно было послать мою дочь в это путешествие, я попросила бы вас сопровождать и охранять ее.
Он схватил мою руку и поцеловал ее. Мне показалось, что на глазах его блеснули слезы.
Мы по-настоящему дружили с Игорем. Это была единственная светлая страница моей лагерной жизни. Наша дружба была овеяна поэзией горячо любимой нами литературы. Я приобщала его к ней по мере моих сил. Он, гораздо более одаренный, чем я, сразу чувствовал все ценное из того, что я сумела ему рассказать. Однажды я рассказала ему застрявшего в моей памяти с юности "Умирающего лебедя" Бальмонта. Он сморщился, как любитель музыки от фальшивой ноты, и сказал:
– Лучше вспомните еще что-нибудь из Некрасова или Блока. Это мармелад.
Так мы дружили с Игорем целых три месяца. И вдруг все рухнуло. Наш этап 4 апреля 1940 года отправили в тайгу на лесоповал. Неожиданно ночью объявили, что завтра никто на работу не выходит, нас отправляют на этап.
Такова лагерная жизнь.
Ночью я проснулась от стука в окно над моей головой. Это был Игорь. Он проделал отверстие в раме, и я могла с ним поговорить. Он спросил, что он может для меня сделать. Я была поражена, как он мог пробраться в женский лагерь, узнать, где я сплю, сделать дыру в раме. Только лагерник понимает, как это трудно. Очевидно, он пустил в ход все свои связи и деньги (он выигрывал деньги в шахматы) и всю свою ловкость, чтобы проститься со мной. Я попросила его сообщить моим родным, что я долго не буду писать из-за перемены места жительства. Он это исполнил.
Я больше не видела Игоря, но через год я получила от него письмо: он лежал в больнице в последней стадии туберкулеза.
"Я умираю, – писал он, – и хочу вам сказать, что я думаю все время о вас. Вы были последним светлым лучом в моей жизни. Помните ли вы день, когда вы сказали: "Мы идем, как обыкновенные люди". А у меня в душе бушевала мука: ведь то, что так доступно обыкновенным людям, для нас недостижимо, как луна на небе…" Дальше шли стихи.
Это письмо у меня отняли при очередном обыске.
Из стихотворения я запомнила только последнюю строфу:
Я называю Вас своим сердечным другом
Еще за то, что наших жизней лето
Идет к закату за Полярным кругом,
Что и моя и Ваша песня спета.
К письму была приложена приписка его товарища:
"Игорь Адрианович Хорин умер 5 мая 1941 года". Ему было 36 лет.
Мама
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
К.Симонов
У меня болели зубы. Вечером после работы я подошла командиру и попросила отпустить меня в больницу. Командир внимательно посмотрел на меня и изрек:
– Не надо идти, пройдет и так.
Спорить было бесполезно. Я села у печки и начала терпеть. Боль была адская. Я плакала от бессилия, от боли, от обиды. К утру боль начала проходить, но щеку раздул огромный флюс. На утренней поверке командир опять посмотрел и изрек:
– Теперь идите.
Я пошла. Мороз был не сильный, градусов 35, светило солнце, идти было десять километров. Боль прошла. Мне было жарко, да и устала я очень от бессонной ночи, от боли, от слез, от всей своей жизни.
Я решила отдохнуть и легла в сугроб. Сразу сладкое оцепенение охватило меня, я заснула. И увидела в бреду ли, во сне ли мамино лицо, красное от напряжения и гнева.
– Сейчас же вставай! – говорила мама.
– Мамочка, не надо меня будить, мне так хорошо! Хорошо так умереть и больше не мучиться. Мамочка, дай мне умереть!
– Ты умрешь, отдохнешь, а я? Я буду жить с мыслью, что никогда тебя не увижу, что ты погибла в сугробе? Я-то ведь не могу умереть, у меня твои дети на руках!
Я встала и пошла. Все плыло у меня перед глазами.
Через полчаса я без сил опять легла в сугроб и опять увидела мамино лицо, и опять встала и поплелась. Шла я эти десять километров часов пять. Ложилась в сугроб и вставала, потому что неотступно видела мамино лицо.
В больнице я свалилась без памяти с температурой 40,5 и пролежала неделю. Доктор удивлялся, как я прошла в таком состоянии десять километров.
Галя
С Галей Прозоровской мы работали на пару на лесозаготовках. Поначалу она была сильнее и ловчее меня, но постепенно силы ее начали убывать. Она работала все медленнее и медленнее, и мы кончали нашу общую норму (8 кубометров в день на двух человек) все позднее и позднее. Все уже уходили домой, а наш штабель не был еще собран, и двигаться быстрее у нас не было сил.
Я всегда сдавалась первая:
– Бросим, Галя, завтра сложим, я больше не могу. Галя смотрела на меня глазами загнанной лошади и говорила:
– А норма? Переходить на четыреста грамм? (Выполнявшие норму получали 600 граммов хлеба, а не выполнявшие – 400 граммов в день. Эти 200 граммов разницы решали вопрос нашей жизни, потому что на 400 граммов хлеба в день нельзя было жить при работе на пятидесятиградусном морозе.)
– Да… Норма! Ну, поднатужимся. – Мы складывали штабель дров, причем я немилосердно "туфтила", подкладывая внутрь штабеля снег и коряги. Галя меня умоляла:
– Не надо, вдруг поймают. Какой позор! Бывшие члены партии и подкладывают в штабель снег.
Так или иначе, восемь кубометров сложены, и уже совсем темно, а идти домой пять километров. И вот мы пускаемся в обратный путь. Мороз сковывает спину, руки и лицо. Нужно все напряжение воли, чтобы идти, идти часа полтора-два по пустынной лесной дороге, когда каждая нога весит пуд, от слабости и голода трясутся колени, платок, закрывающий лицо, превращается в ледяную заслонку, дышать трудно.
Но впереди теплый барак, горячая похлебка, 200 граммов тяжелого, мокрого и такого вкусного хлеба. Впереди отдых на нарах, дружеские лица, пылающая печь. Итак, мы идем.
Каждый день мы уходим с участка все позже и позже, дорога домой удлиняется, потому что вырубка все дальше отходит от бараков.
Однажды мы с Галей шли молча, еле передвигая ноги, Было смертельно холодно. Луна сияла и, отражаясь в снегах, освещала путь. Мы уже приближались к лагерю, как вдруг Галя с размаху упала на спину и осталась лежать неподвижно.
– Галя, Галя, – тормошила я ее. Я не могла понять, умерла она или без сознания.
Галя лежала, как мешок. Нечего было и думать поднять ее, на это у меня не хватало сил. Я тормошила, толкала ее – никакого ответа. Вынула руку из рукавицы, чтобы пощупать пульс, и мгновенно отморозила руку. Засунула руку за пазуху, не согревается, не чувствует. Еле-еле добилась, что рука начала болеть – значит, оживает. Так я и не поняла, умерла Галя или в обмороке.
Если умерла – подберут и завтра, а сейчас надо идти, а то я тоже замерзну. А если жива? Через час она превратится в кусок льда. Сделать я ничего не могу и решаю уйти, а то замерзнем обе.
Я решительно делаю несколько шагов по дороге, потом возвращаюсь.
– Галя, Галя!
Ответа нет. Что же делать? Машу рукой и опять иду по направлению к дому, и опять возвращаюсь.
– Галочка, Галя!
Ответа нет. И вдруг слышу скрип саней и топот лошади по параллельной дороге, метров двести от нашей. Бегом бегу, кричу, натыкаюсь на пни, падаю, задыхаясь от мороза, крика, бега.
Наконец, я около мужика, везущего навоз.
– Ради Бога, спасите, женщина замерзает!
Он очень недоволен. Он тоже замерз, устал и мечтает о печке, о похлебке, о двухстах граммах вечернего хлеба.
Я умоляю его, я плачу, цепляюсь руками за его бушлат, когда он хочет уехать. Ругаясь, он поворачивает на нашу дорогу, и мы вдвоем взваливаем на мерзлый навоз Галю. Сами идем пешком, потому что лошаденка тоже чуть жива. Минут через пятнадцать мы в бараке, сидим у печи и едим свою баланду, поделившись с нашим спасителем. Он оказывается ленинградским певцом. Мы говорим о театре, о музыке, а очнувшаяся Галя лежит на нарах, согревается, и слезы непрерывно бегут из ее глаз.








