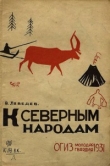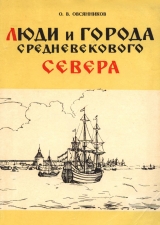
Текст книги "Люди и города средневекового Севера"
Автор книги: Олег Овсянников
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
В самом Каргополе в 80-х годах обострилась борьба между неимущими и имущими слоями каргопольского посада. Об этом свидетельствует челобитная каргопольцев «...жилецких бедных людей на каргопольцев на свою братию на прожиточных людей», поданная в 1583 г. Имущественная дифференциация Каргопольского посада, ярко проявившаяся еще в XVI в., значительно усилилась в XVII в., социальные конфликты начали приобретать особую остроту.
Важные данные о Каргопольском посаде середины XVII в. содержит переписная книга Каргополя 1648 г. 35. По данным этой книги в Каргопольском остроге находилась съезжая изба, воеводский двор, дворы подьячих съезжей избы, пушкарские, а также посадские и бобыльские общим числом 128 дворов с населением 283 человека. На посаде Каргополя располагались таможенная изба, гостиный двор, дворы посадских людей и бобылей, а также церковные и монастырские – всего 430 дворов с населением 1268 человек. Таким образом, численность только мужского населения Каргопольского острога и посада превышала 1500 человек.
Каргопольский посад делился на несколько частей: Красный посад, улицы Каменка, Ивановская, Никольская, Базаиха, Шелковная, Потаниха, переулки Балашов, Ощирин, Фалеевский, переулок от Торговой площади к улице Каменке. Подобное членение посада свидетельствует о развитости посадской топографии, приближении ее к топографии городского типа. Переписная книга 1648 г. дает небольшое число каргопольских ремесленников – это в основном люди, обслуживающие нужды посада: сапожники,
сапожные щвецы, портные швецы, шапошники (9 человек), плотники, оконничник, свечники, кузнецы (11 человек), а также калачник, хлебник. Особый интерес представляют упоминающиеся в переписной книге два иконника – Пронька да Якунька Федоровы.
В первое десятилетие XVII в. над Поморьем стали сгущаться тучи. После неудачных попыток склонить на свою сторону «хозяина Поморья»—Соловецкий монастырь шведские феодалы начали военные действия. Войска бывших «союзников» напали на поморские волости и подступили к Кольскому острогу. Угроза нападения на Поморье с запада становилась все более и более реальной. Об этом красноречиво повествует так называемое письмо Анца Мука (1612 г.) в Заонежские и Оштинские погосты: ...к нам идут из Великого Новгорода ратные немецкие многие люди, и чаем их к себе вскоре и велим итти прямо на вас, а сами ныне, оставя вас в острожки, пойдем воевать и жечь домов ваших.., выевав заонежские погосты и Оштинские, пойдем к Белуозеру и к Каргополю, и прошотчи те города, Белоозер и Каргополь, пойдем в поморские городы...»36. На столь воинственные заявления каргопольцы ответили посланием, полным собственного достоинства. Предлагая не начинать военных действий, сохранить мирные отношения, они в том же послании высказались вполне решительно: «а буде вы, господа, забыв свои души, учнете с нами рознь чинить, и кровь крестьянскую проливати, и на Каргопольские места войною приходить, или какой задор чинити: и мы против вас стоять рады, сколько милосердный Бог помочи даст».
Однако опасность пришла с юга. В начале осени 1612 г. польско-литовские интервенты несколькими отрядами хлынули на Север. В ночь на 22 сентября 1612 г. «воры» подошли к Вологде и «безвесно», изгоном, т. е. с ходу, взяли город. Падение хорошо вооруженной каменной вологодской крепости открыло разбойным отрядам дорогу на Вычегду, на Вагу, Каргополь и далее в Поморье. Несмотря на то, что «воров» уже ждали к Каргополю (здесь осенью 1612 г. был построен острог, имеющий огнестрельный «наряд»), несмотря на то, что сведения о передвижении отрядов противника рассылались в разные концы Поморья, нападение на город было неожиданным. «В нынешнем в 121 году, декабря в 12 день с пятницы против субботы, в ночи за два часа до свету, польские и литовские люди и русские воры пришли в Каргополь на посад, и которые посадские люди в ту пору были на посаде, для своих хлебных нужд, а в острог не поспели и тех людей оне всех посекли, а иных в полон погнали, а на свету приступили с щиты к острогу накрепко...» 37 —отписывали каргопольцы в Белоозеро о появлении неприятеля под стенами Каргопольской крепости.
Попытки взять город штурмом окончились полной неудачей для «воровских людей». Отказавшись от дальнейшей осады острога, они сожгли дотла каргопольский посад и пошли в Каргопольский уезд.
К сожалению, не сохранилось данных о том, как выглядел первый Каргопольский острог, в последующее время замененный более мощными дерево-земляными укреплениями – деревян¬
ным «городом». Определить точно, когда был поставлен деревянный «город» вместо старого острога, пока трудно. Известно, однако, что вопрос этот был поднят в 1630 г., когда острог обветшал и от него остался один вал – «острожная осыпь, где старой острог был»38. В том же 1630 г. в Каргополь прибыл князь Дмитрий Сентов, на которого была возложена обязанность построить новое укрепление в Каргополе при помощи всех людей, живущих в уезде (посадских, крестьян, служилых и т. д.). В 1686 г. по царскому указу Каргопольюкий «город» был «переписан»39. Подобные переписи составлялись со скрупулезной тщательностью. Являясь по существу одной из форм управления в бюрократическом аппарате феодального государства, они представляют ценный исторический источник, дающий характеристику того или иного города.
«Роспись» Каргопольского «города» 1686 г. не дает подробного описания всех объектов, но представляет значительный интерес. «Город» деревянный рубленый, имел по стенам 9 башен – 3 воротные, 6 глухих. Две башни были рублены «осьмериком». На башнях располагались лишь 3 орудий, остальные «6 пищалей заржавели, станки и колеса поломались». Кроме того, в Приказной избе хранились 97 пищалей стрелецких ручных, «а у тех пищалей ложа и замки перепорчены и переломаны, а иных и замков нет». Далее роспись перечисляет имеющиеся запасы пороха, ядер, дроби.
Уже в начале XVIII в. деревянные укрепления в Каргополе пришли в негодность. Это очевидно из «росписи», составленной в апреле 1714 г., когда обернкомендант князь П. И. КасаткинРостовский принимал у стольника и коменданта П. В. Коробьина «...город Каргополь и городовые ключи, и в городе наряд, и Великого Государя в казне порох и свинец, и ядра, и пушки, и всякие пушечные запасы, и пищали, и приказную палату, и книги...» 40.
Каргопольский «город» по «росписи» 1714 г., деревянный, рубленый, имел по стенам 9 башен. Две башни, Троицкая и Воскресенская, «рублены семериком», имели по двое проходных ворот. Остальные башни «города», четвероугольные, одна из них также имела двое ворот. Протяженность городовой стены была около 300 сажен. Вооружены были лишь воротные башни: Троицкая 3 пушками, причем у одной «в стрельбу дульный конец с вершком аршин слишком оторвало», Воскресенская – 2 пушками и воротная четырехугольная башня – 1 железной пушкой. «Роспись» фиксирует довольно плачевное состояние всего каргопольского

«наряда». В казенном каменном погребе хранились еще три пищали затинные в целых станках и четвертая в ломаном, а пятая вообще без станка. Здесь же находились 95 пищалей стрелецких ручных и 4 старых мушкета, из этого оружия у 91 пищали «ложи и замки перепорчены и переломаны, а у иных замков нет». В 1713 г. 34 пищали по указу Петра I были починены и снабжены новыми ложами. Документ подчеркивает, что «город строение давних годов, башни строены шатровые, и те башни и городовая стена крыта тесом...
«Роспись» каргопольского «деревянного города» дает исчерпывающую картину состояния крепости на Онеге в начале XVIII в. и по существу помогает нам представить, какой она была в XVII в.
Казалось бы, кроме этого «словесного портрета», от памятника ничего не осталось, но это не совсем так. В фондах Каргопольского районного музея хранилась икона, которая недавно была расчищена реставраторами. Икона «Борне и Глеб с видом горящего Каргополя» вероятнее всего принадлежала кисти северного мастера-иконописца, хорошо знакомого с Каргополем. Время написания иконы, определявшееся началом XVIII в., можно уточнить – икона написана после пожара 18 мая 1731 г., во время которого и погибла крепость.
На иконе изображена часть города и окружающая его стена с башнями. Вероятнее всего, художник нарисовал юго-восточную часть крепости – вид со стороны р. Онеги, хотя сама Онега и не попала на холст.
Стены города деревянные, бревенчатые, рубленные тарасами – отчетливо видны границы отдельных срубов-тарас, покрытые тесом с фигурной обработкой концов.
На фасаде стен, обращенных к зрителю, видны бойницы, расположенные в два яруса. С верхней галереи стен по две бойницы на каждую тарасу и по одной бойнице нижнего горизонта – подошвенный бой.
На изображении видны четыре башни, из них две восьмигранные и две четырехугольные. В «росписи» 1686 г. указано, что среди башен «две башни рублены осьмериком». Название этих восьмигранных башен дает нам «роспись» 1714 г. – это Троицкая и Воскресенская. Обе башни имели «двои ворот проходные» в каждой. На изображении ворота восьмигранных башен полукруглые. Все башни рублены из бревен горизонтальными венцами, шатры их покрыты тесом и заканчиваются смотровой вышкой, венчающейся «яблоком» и прапорцем (флажком). Бойницы в башнях располагаются в три яруса: нижний (подошвенный), средний и верхний.
Изображая постройки внутри «города», иконописец не ставил себе целью показать все, что там находилось, а лишь сооружения, связанные с поразившим его событием. Поэтому он нарисовал не весь «город», а ту часть, откуда начался пожар. Огнем охвачены богатые деревянные хоромы. Низ их глухой, вверху же большие окна. Здание имело, по всей вероятности, трехчастный план, столь характерный для древнерусских гражданских строений XVII в. В сени второго этажа поднимались по деревянному крыльцу «на отлете» (перпендикулярно к фасаду постройки). Скупое оформление основной части здания, не имеющего ничего, кроме одного этажа, стоящего на подклети, при необычайно богатом, торжественном крыльце наводит на мысль, что это не жилые хоромы, а административное здание ,возможно, приказная изба.
Центральная группа людей, изображенная на иконе, выходит из одноглавой каменной церкви. Слева от храма виден верх деревянной рубленой колокольни – типичной северорусской, крытой тесовым шатром.
В правой верхней части «города» изображен богатый архитектурный комплекс. Интересующее нас здание стоит внутри солидной ограды. Оно каменное, высокое. Низ постройки глухой, в нем, очевидно, размещались обширные складские помещения. Судя по тому, насколько высоко поднимается здание над землей, под ним были еще и погреба. Верхний этаж занимали обширные палаты, хорошо освещенные большими окнами с прямоугольными верхами. Обычно такие помещения в жилых каменных древнерусских зданиях этой поры служили для приема гостей. Над каменными палатами возвышается еще одна часть здания, без сомнения, деревянная. Скорее всего там были хоромы с сенями и горницами. Деревянный верх, палаты и сход крыльца покрыты тесом.
В целом изображенный комплекс с высокой рубленой оградой, каменными палатами и деревянным верхом является, по всей видимости, «двором» богатого, а может быть, даже высокопоставленного человека – воеводы или, позднее, коменданта.
Таким образом, архитектурная композиция на каргопольской иконе является ценным источником для изучения не только северного оборонного зодчества, но и северного домостроительства XVII—начала XVIII вв.
События «смутного» времени нанесли большой ущерб как торговле и ремеслам, так и сельскому хозяйству Каргополья. Достаточно сказать, что в 1619 г. по челобитью каргопольцев и турчасовцев в Каргонольском уезде от «приходу литовских людей» запустели многие земли, а число убывших <в связи с военными действиями людей составляло 773 человека. Посевы были потравлены, скот прирезан, лошади уведены. В связи с уменьшившимся количеством дворов каргопольцы просили прислать писца, чтобы новое обложение было приведено в соответствие с количеством жителей.
Значение каргонольских укреплений к концу XVII в. падает. Если в 1616 г. в Каргополе находилось 160 стрельцов и 9 пушкарей, то в 1648 г. стрельцы в переписной книге не упоминаются вообще, а пушкарей всего 4. «Роспись» 1714 г. уже перечисляет большинство пушек не на башнях «города», а лежащими в погребе, причем многие, как это было и в 1686 г., сломаны, к стрельбе не годны.
Значение Каргополя как крупного торгового центра Заонежья также уменьшается. Об этом свидетельствует Переписная книга Каргополя начала XVIII в. (не ранее 1712 г.). «Всего в городе и на посаде 21 церковь, в том числе 4 церкви каменных, церковь в недостройке каменная ж, 16 деревянных, приказная изба каменная, казенная палатка, комендантский двор, Гостиный двор, кружечний двор, таможня, земская изба, табачная изба; ...посадских людей жилых тяглых 20, малотяглых 147 дворов, нищенских 99 дворов, вдовьи; нищенских же 56 дворов, подьяческих 13 дворов, монастырских 4 подворья, церковничьих поповских 43 двора, сторожевых приказной палаты и тюремных и земской избы 4 двора, солдацких 23 двора, пустых посадских 217 дворов да 36 изб, да 13 мест, 3 печища, солдацких 2 двора, монастырских 2 подворья, церковних 1 двор, 3 избы да 1 место» 41. Переписная книга фиксирует резкое сокращение населения Каргопольского посада в начале XVIII в. Пустует более половины посадских дворов, много дворов нищенских, вдовьих и малотяглых.
Особенно важно отметить то, что к моменту переписи в Каргополе находилось всего 23 «солдацких» двора и два двора «солдацких» пустых. Каргополь уже утратил свое значение одного из крупных оборонительных пунктов Поморья.
Правда, в начале XIX в. Каргополь на некоторое время восстановил свое значение крупного торгового пункта Севера. «Окружной город Каргополь... при судоходной реке Онеге, впадающей в залив Северного моря, сообщает жителям своим всю удобность производить внутренний и заграничный торг через УстьОнегский порт... Обывательское жило в сем городе после бывшего в 1766-м году сильного пожара возобновлено, и прямыми улицами регулярно построено...» – читаем мы в описании Олонецкого наместничества42. Среди жителей города, насчитывавших в начале XIX в. немногим более 3000 человек, было 70 ремесленников (9 серебряников, 5 кузнецов, 3 медника, 3 сапожника, 11 портных, 1 иконописец и др.).
Крепостные сооружения Каргополя существовали до начала XIX в. в виде четырехугольного редута 440 сажен в окружности, обнесенного с трех сторон валом и рвом, с четвертой защищенного Онегой. У местного населения он был известен под названием Городок.
Городище Каргополя сохранилось и до наших дней под именем «Вал-ушки». В 1959 г. оно было нами осмотрено и обмеряно. «Валушки» находятся в северной части города. В плане они представляют собой почти правильный четырехугольник. Восточная и западная сторона 210 и 215 м, южная имеет протяженность 250 м. На северо-восточной стороне, обращенной к
р. Онеге, вала и рва не прослеживается. Возможно, он был смыт водами реки или подвергся разрушению во время какихлибо землеустроительных работ.
СЕВЕРНЫЙ АРСЕНАЛ

 начале XVII в. над городами, посадами и селениями Русского Севера бушевали военные грозы. Сопротивление отрядам польско-литовских интервентов и русских «воров» оказывали не только крупные северные центры – вся территория Поморья покрылась сетью острожков и засек. Для северян было единодушным стремление выступить «заодно» против насильников. На крупнейших водных магистралях возрождались укрепления – городки, заброшенные в XV в. Укрепления возникали не только по грамотам воевод, но строились стихийно, по местной инициативе – «миром», и защищали их «мужики» с копьями, рогатинами и «со всяким боем». Военная гроза начала XVII в. и тревожная обстановка на протяжении всего столетия привели к большой концентрации тяжелого вооружения на Севере. Однако создание северного «арсенала» произошло не сразу.
начале XVII в. над городами, посадами и селениями Русского Севера бушевали военные грозы. Сопротивление отрядам польско-литовских интервентов и русских «воров» оказывали не только крупные северные центры – вся территория Поморья покрылась сетью острожков и засек. Для северян было единодушным стремление выступить «заодно» против насильников. На крупнейших водных магистралях возрождались укрепления – городки, заброшенные в XV в. Укрепления возникали не только по грамотам воевод, но строились стихийно, по местной инициативе – «миром», и защищали их «мужики» с копьями, рогатинами и «со всяким боем». Военная гроза начала XVII в. и тревожная обстановка на протяжении всего столетия привели к большой концентрации тяжелого вооружения на Севере. Однако создание северного «арсенала» произошло не сразу.
Укрепление северных рубежей и постройка ряда крепостей на беломорском побережье повлекли за собой присылку огнестрельного «наряда» из центральных областей. До 1593 г. Москва направила только в Соловецкий «город» 25 пушек, 110 ручниц, 1590 ядер, 199 пудов пороха и 92 пуда свинца43.
Производство огнестрельного оружия на месте, на Севере, не получило широкого распространения, хотя известно, что в 1611 г. в Сумском остроге «кузнец самопальник» Сава сковал 5 самопалов с замками и с трезубцами в казну Соловецкого монастыря, а кроме того, 5 станков к самопалам. В 1603—1613 гг. в Соловецком монастыре ковались такие виды огнестрельных орудий, стреляющих «дробом», как тюфяки.
Развитие беломорской торговли способствовало превращению северных морских «ворот» страны в крупного поставщика военного снаряжения не только для нужд северных крепостей, но и для государства.
При этом следует отметить, что правительство участвовало не только в единичных сделках с иноземными купцами, а стре-

милось установить постоянную связь со своими иностранными торговыми агентами 44.
В 1660—1661 гг. велись переговоры с гостем города Любека (Любека) Яганом фон Горном о поставке меди и пушек, которые «ему (Горну) поставить все у Архангельского города». В эти же годы осуществлялись переговоры с иностранным гостем Иваном Гебдоном, который не только поставлял к Архангельску пушки, зелье и принадлежности ручного огнестрельного оружия, но и уговорился вербовать за границей иноземных специалистов—«полковников и иных
начальных людей, инженеров, и огнестрельного, и гранатных и серебряных и золотого и резного и иных всяких дел мастеров». ['^J Все доставляемые в Архангельск «припасы»
v в обязательном порядке через Вологду и
Ярославль поступали в Москву.
Правительство стремилось познакомиться с новейшими достижениями европейской военной техники, расширить собственное производство. В 1667 г. в «наказной памяти» гостю Аверкию Кирилову, назначенному на Двину для взимания таможенных и кабацких сборов, указывалось: «А пушечные всякие запасы, зелье и свинец и серу и селитру веле великой государь русским людям у немец покупать повольно, а заказу о пушечных запасех торговым людям не чинить, и привозить те пушечные запасы к Москве». Во второй половине XVII в. (1672 г.) к услугам иностранных агентов прибегает Соловецкий монастырь: «...да они же де строят три города, Соловецкий город, Сумской острог, Кемский городок, и покупают пушки, и пищали и всякие пушечные наряды». Тревожная обстановка на Беломорье заставляла местные власти постоянно заботиться об усилении пушечного «наряда» северных крепостей.
В 1680 г. двинской воевода Богдан Ордин-Нащокин отписывал царю о покупке у голландского купца Гартмана 1000 пудов в 330 бочках пороху для Архангельска и Холмогор, так как«... у Архангельского города и на Холмогорах наличного пороху пуд», и «без пороху, государь, у Архангельского города и на Холмогорах быть опасно».
 Крупные поставки иностранного оружия для русской армии у Архангельского города зафиксированы на протяжении последних десятилетий XVII в. В 1681 г. царская грамота предписывала двинскому воеводе князю Никите Урусову принять у датского фактора Андрея Бутенанта фон Розентота по подряду «...2611 служб рейтарского ружья, карабины с крюки и с перевязьми, а пистоли с ольстры половина с медного, другая с железного оправами». Полученное оружие в сопровождении выборных целовальников надлежало сразу же отправить в Вологду. В данном случае речь идет о поставке полных комплектов стрелкового оружия, что можно связать с происходящей реорганизацией русской армии, с появлением полков иноземного строя. Крупный контракт на поставку свинца у Архангельского города был заключен в 1685 г. с «торговым иноземцем» Ильей Табертом. Деньги Таберт должен был получить в то время, как он тот свинец «поставит сполна». Покупая крупные партии свинца у иноземцев во время Архангельской ярмарки, правительство получало крупную экономическую выгоду. На Московском рынке пуд свинца стоил 26 алтын 4 деньги за пуд и 8 руб. за берковец, а в Архангельске 17 алтын 2 деньги и 5 руб. с полтиной за берковец. Учитывая стоимость длительной транспортировки товара, он обходился лишь по 24 алтына 4 деньги за пуд и 6 руб. 6 алтын 4 деньги за берковец. Экономическая выгода была налицо.
Крупные поставки иностранного оружия для русской армии у Архангельского города зафиксированы на протяжении последних десятилетий XVII в. В 1681 г. царская грамота предписывала двинскому воеводе князю Никите Урусову принять у датского фактора Андрея Бутенанта фон Розентота по подряду «...2611 служб рейтарского ружья, карабины с крюки и с перевязьми, а пистоли с ольстры половина с медного, другая с железного оправами». Полученное оружие в сопровождении выборных целовальников надлежало сразу же отправить в Вологду. В данном случае речь идет о поставке полных комплектов стрелкового оружия, что можно связать с происходящей реорганизацией русской армии, с появлением полков иноземного строя. Крупный контракт на поставку свинца у Архангельского города был заключен в 1685 г. с «торговым иноземцем» Ильей Табертом. Деньги Таберт должен был получить в то время, как он тот свинец «поставит сполна». Покупая крупные партии свинца у иноземцев во время Архангельской ярмарки, правительство получало крупную экономическую выгоду. На Московском рынке пуд свинца стоил 26 алтын 4 деньги за пуд и 8 руб. за берковец, а в Архангельске 17 алтын 2 деньги и 5 руб. с полтиной за берковец. Учитывая стоимость длительной транспортировки товара, он обходился лишь по 24 алтына 4 деньги за пуд и 6 руб. 6 алтын 4 деньги за берковец. Экономическая выгода была налицо.
В 1690 г. была сделана попытка заключить торговую сделку с «Республикой соединенных голландских земель» о покупке и вывозе беспошлинно в Россию к Архангельскому городу 2000 карабинов и пистолей.
Упоминаемый уже голландский купец Даниил Гартман подрядился к 1695 г. поставить к Архангельску 3000 мушкетов, «немецких добрых с оправою и с шкоцкими (шотландскими) замками»45.
Поступало оружие с севера и в начале XVIII в., когда русская архмия, в связи с военными действиями против северных соседей, испытывала в нем особенно острую необходимость.

Так, царская грамота 1705 г. строго предписывала «свинец, который остался у города Архангельского у иноземцев и у русских людей от прошлогодней ярмарки, и который будет в привозе, вновь взять на великого государя по настоящей цене» (куплено было 6136 пудо® 36 фунтов)46.
В XVII в. для расширения производства огнестрельного оружия была сделана попытка использовать местных ремесленников в различных районах страны. В эти центры рассылались образцы, по которым следовало ковать замки для стрелкового оружия. Заказ распределялся обычно среди замочных мастеров, знакомых с тонкостями слесарной работы. Был такой заказ размещен и среди двинских замочников. Работа оружейников требовала от «замочников» более высокой специализации. В грамоте 1680 г., посланной на Двину, писалось, что было «велено делать в Москве... и на тульских железных заводах завесные стволы, а замков к тем стволам московские замочные мастера делать не успевают», но замки, сделанные по заказу на Двине и в Новгороде, «деланы худо, не против нашего великого государя указа и образцовых замков»47. Выход был найден: в той же грамоте велено было послать двинских «замочных мастеров» в Москву для освоения тонкого ремесла оружейника.
Однако не надо забывать, что север дал немало первоклассных оружейных мастеров, таких, например, как «кузнецы ствольного дела» вологжане Яков Львов, Иван Москвитин, Карп Прокопцев, Гурей и Потап Федоровы, Исак и Кузьма Ивановы, Константин Зиновьев.
Укрепление северных рубежей, возведение военно-оборонительных сооружений привело к сосредоточению на Русском Севере значительного военного потенциала.
Рассмотрим вооружение некоторых северных городов в первой половине XVII в.
Из 35 орудийных стволов, имеющихся в Архангельском «городе» в 1622—1624 гг., боеспособными были 32, из них 6 медных, остальные железные. Из общего количества орудий 6 записаны как «немецкие», что свидетельствует о том, что закупка иноземного вооружения уже шла полным ходом. Характеризуя калибр пушек, следует отметить, что большинство из них было средних: от 3 до 12 гривенок ядро, а две пушечки дробовые. В Холмогорском остроге по переписи 1622—1624 гг. также преобладали средние калибры (3—6 гривенок ядро). Две пушечки были дробовые, скорострельные, 5 пищалей затонных железных, из остальных 5 медных пищалей и 9 железных. К сожалению, документы не дают сведений, какие орудия «немецкие», а какие отечественного производства.
Писцовая книга 1622—1624 гг. указывает в Архангельске пушкарских дворов 6, дворов затонщиков 12. В Холмогорах в это время упоминается лишь один пушкарский двор. Пожалуй, это можно объяснить лишь тем, что комплектование артиллерийской прислуги к моменту «письма» во вновь построенном остроге еще не было завершено.
По данным П. Смирнова, в 1628 г. в Архангельске было уже 10 пушкарей и 20 затинщиков, а в 1650 г. 11 пушкарей. Правда, М. Богословский называет несколько иное число для Архангельска 1620 г. – 34 пушкаря48. Число это для первой четверти XVII в. несколько завышено. Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей и затинщиков осенью 1682 г. дает точную цифру: «...бьют челом холопы ваши Архангельского города и Холмогорские пушкари и затинщики Алешка Пругавин с товарищи, тридцать один человек...»49. Почти десятилетняя осада Соловецкого монастыря, кстати малоуспешная, привела в движение северную артиллерию. В той же челобитной 1682 г. пушкари и затинщики жалуются, что «... были в прошлых годех на службе с воеводою с Иваном Мещериковым по Соловецким монастырем с пушками». Были забраны пушки даже из Онежского крестного монастыря (5 стволов). Как распределялась впоследствии северная артиллерия, одно время сконцентрированная под стенами Соловецкого Кремля?
Некоторые данные дает Опись военным снарядам в Архангельске и Холмогорах в 1683 г. В описи указывается. незначительное число орудийных стволов – 3 в Холмогорах и 10 в Архангельске, что, безусловно, связано с «соловецким сидением». Об этом же говорит и состав орудий в Холмогорах: оставлены громоздкие, неудобные в транспортировке орудия XVI и начала XVII вв. (вес 19 и 30 пудов). В Архангельском «городе», наряду с вполне современными пищалями (покупки 1675 г.), находились орудия 1567, 1615, 1636 гг., все очень громоздкие. Особенно примечательны орудия с подписью мастера Богдана. Богдан – видный русский «пушечный литец», который отлил 16 орудий, причем 9 из них находились на Севере (Архангельск, Холмогоры, Соловки). В Соловецкой крепости находилось в 1668—1676 гг. пять пушек с подписью мастера Богдана, одна из них называлась «Урывок Богдана». Известны орудия Богдана в Смоленске и пищаль 1563 г., откопанная в б. Виленской губернии.
К XVI в. относится еще одна пищаль – сделана она в 1566 г. мастером Кашпиром. Мастер Кашпир Ганусов – иноземец на русской службе, который прибыл в Россию в начале XVI в. и изготовил довольно значительное число орудий – известно 10 стволов, подписанных этим именем (3 в XVII в. были в Холмогорах, 1—в Архангельске в XVIII в.). Одно орудие Кашпира было в составе артиллерии крепости КяриллоБелозерского монастыря в XVII в.
Наличие незначительного количества орудий, сделанных в
XVI в., позволяет рассматривать их как первые партии огнестрельного «наряда», которым снабжался Север в конце XVI– начале XVII вв. Стремление усилить обороноспособность южных и западных границ Московского государства привело к тому, что на северные рубежи в 1626 —1647 гг. Пушечный двор не поставил ни одного ствола из вновь выпускаемых. Именно поэтому в арсенале Архангельска и Холмогор встречаются орудия начала XVII в. (мастера Кондрата Михайлова), а также инозехМные орудия с русскими приписями (иногда и по-латыни). Наличие на севере отечественных орудий выпуска XVI – начала
XVII в. и иноземных – «немецких» привело к большой разнокалиберности. Между тем, для русского пушечного производства второй половины XVII в. характерно стремление к производству типового вооружения, уменьшению количества калибров.
Исчерпывающие сведения о пушечном наряде Архангельска, Холмогор и Новодвинской крепости дает Росписный список двинского стольника и воеводы Василия Ржевского, датированный 2 февраля 1702 г.50.
Согласно этим данным, «всего в Архангельском городе наряду 22 пушки, в том числе 7 пушек медных, да 12 железных, да 3 пушки скорострельных железных», 15 пищалей железных и 2 медных (обе негодные). К этому числу следует прибавить присланные из Холмогор 7 пушек медных и железных. Таким образом, Архангельск располагал зимой 1702 г. 44 стволами орудий, способных вести активный огонь. Однако это еще не все. На Малой Двине, в Новодвинской крепости находилось 26 пушек (24 железных и 2 медных) и один медный манжер (мортира). Кроме того, на яхте, которая была построена для Петра I у Архангельского «города», имелось 8 медных пушек.
В оружейную казну поступили и те 10 железных пушек, которые были сняты с захваченных на Двине шведских фрегата и галлета в 1701 г. Еще ранее из Новгородского Приказа было «взято для опасения неприятельских шведских людей торговых аглицких и голланских кораблей 3 пушки железных...».
Таким образом, у Архангельского «города», в Новодвинской крепости, на государевой яхте пушек, снятых с завоеванных «свейских» (шведских), а также и торговых кораблей, было 100 «да манжер медный». В эту цифру не входят затинные пищали. Можно считать, что в низовьях Двины было сконцентрировано около 125 орудийных стволов (пушек и пищалей). Даже для XVIII в. эта цифра была более чем солидной, однако реальная огневая мощь северной артиллерии была значительно ослаблена из-за отсутствия ядер нужных калибров.
ПОМОРСКИЕ ГЕФЕСТЫ

 бработка металлов в средневековой Руси составляла основу городской и посадской экономики. Среди железоделательных районов русского государства в XVI в., наряду с Великим Устюгом, видное место занимали Холмогоры. Развитие обработки железа на севере Руси было связано с развитием судоходства и соляными промыслами. Уже в середине XVI в. Холмогоры превратились в крупный рынок изделий железоделательного ремесла, там продавались и покупались значительные партии железа-сырья и изделия из него – различных сортов гвозди, скобы, ральники, сошники, бытовые вещи. С попыткой получить достаточно прочную местную сырьевую базу связана деятельность Строгановых на притоке Ваги р. Судроме, где в 1577 г. Яков Строганов получил право «дуть железо и домницы делать и лес сечи около тех болот» 51.
бработка металлов в средневековой Руси составляла основу городской и посадской экономики. Среди железоделательных районов русского государства в XVI в., наряду с Великим Устюгом, видное место занимали Холмогоры. Развитие обработки железа на севере Руси было связано с развитием судоходства и соляными промыслами. Уже в середине XVI в. Холмогоры превратились в крупный рынок изделий железоделательного ремесла, там продавались и покупались значительные партии железа-сырья и изделия из него – различных сортов гвозди, скобы, ральники, сошники, бытовые вещи. С попыткой получить достаточно прочную местную сырьевую базу связана деятельность Строгановых на притоке Ваги р. Судроме, где в 1577 г. Яков Строганов получил право «дуть железо и домницы делать и лес сечи около тех болот» 51.
В конце XVI—XVII вв. расширилось производство болотного железа в Белослудском стане. Белослудское железо стало

Железный топор XIV в., рыболовные крючки, ключи и светцы – XVII в.
основным сырьем для ремесленного Устюга Великого, Соли Вычегодской и Тотьмы. Местного железа все-таки не хватало, поэтому на протяжении второй половины XVI—XVII вв. ввозилось значительное количество иностранного железа.
Множество железных предметов, обнаруженных на Холмогорских посадах, свидетельствует о больших масштабах обработки металла. Несомненно, для этого, наряду с привозом железа, нужна была пусть небольшая, но местная сырьевая база. На Падракурье было найдено несколько десятков железных криц (весом от 2,5 до 9 кг). Форма некоторых из них указывала на то, что они выплавлялись в глиняных сосудах. Выплавка железа в глиняных горшках не являлась редкостью в средневековом городе. Известно, что московские кузнецы тоже часто выплавляли железо в глиняных сосудах. Однако кричное железо на Холмогорах производилось в таком количестве, что удовлетворяло не только местные нужды, но и вывозилось в другие местности. В 1679—1680 гг. на рынок Устюга привозили кричное железо «холмогорцы Михайло да Таврило Стефановых дети Москвина» (35 пудов) и Иван Гусев (70 пудов)52.