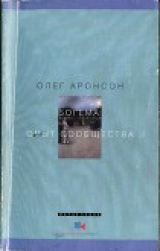
Текст книги "Богема: Опыт сообщества"
Автор книги: Олег Аронсон
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Собственность и присвоение
Возможно, что ни одна фраза так ни была созвучна времени, как та, что появляется на самых первых страницах трактата Пьера Жозефа Прудона «Что такое собственность?»: La propriété c'est le vol. Собственность – это кража.
Эта формулировка лишь выглядит парадоксальной, но только в том виде, в каком она высказана и доказывается Прудоном. Смысл фразы неизбежно прочитывается через привнесенный временем ценностный и моральный момент, когда собственность священна (и не важно частная она или общая), а воровство противозаконно. Если мы рассматриваем эту фразу как социально – экономический тезис, то ее интерпретация неизбежно примешивает к возможной экономической логике и господствующую политику морали: все, что ты имеешь, кроме своего тела, ты у кого – то украл. Не случайно Прудон так долго и тщательно описывает разные способы присвоения вещей и денег, показывая в каждом из них момент кражи. Не случайно, пытаясь обойти буржуазную экономику воровства, он приходит к совершенно абсурдной и несостоятельной в данном типе экономики, идее «дарового кредита». Прудон не может отрешиться от морального аспекта воровства, но попытка преодолеть аморальность экономики неожиданно приводит его к логике дара, которая, фактически, является экономической логикой мира, где действуют не индивидуализированные субъекты, и не социальные группы, и не классы, борющиеся друг с другом, а сообщества (общности, неподвластные ни праву, ни моральному закону). Сообщество тем и отличается от общества, что логика его поведения, действия производит мораль, а не пользуется ею. Так происходит потому, что это не логика приоритета собственного я, которое готово к бесконечному присвоению, а потому ограничено правом, а логика иная, в которой сама идея собственности отсутствует, поскольку сообщество устанавливается через абсолютный приоритет другого, данный в эффективности существования, а не предписанный моральным законом.
Кража – это не просто присвоение того, что принадлежит кому – то другому, а нечто более общее, выходящее за рамки только экономического и юридического права. В каком – то смысле кража отрицает священность (записанную в праве) собственности. Но кража не есть присвоение. Это – неприсвоенное несобственное. И в этом смысле кража лишь обеспечивает циркуляцию предметов в обществе, обнаруживая специфическую первобытную логику обмена, продолжающую действовать в мире современной экономики подспудно, и проявляющуюся в неустранимости преступлений, несмотря на священность заповедей.
В одной из цыганских притч говорится о том, что по пути на Голгофу, цыган украл гвоздь, которым должны были прибивать к кресту тело Христа. И бог позволил цыганам немножко воровать.
Здесь бог становится участником обмена, входит в коммуникацию как субъект экономики обмена, дарящий цыгану право на то, что тот и так совершает, получая взамен любовь (и веру), ставящие под сомнение его заповеди. Кажется, что в этой логике никакая из сторон не выигрывает. Успех здесь в обнаруживаемой общности, становящейся источником возможного морального действия. Богу важно показать, что казавшееся кражей – поступок для другого, цыгану важно уверовать в это.
Георг Зиммель говорит об обмене как первичной форме социальной жизни. Обмен – пространство не индивидуальное, а межиндивидуальное. В обмене нет и не может быть равенства. Вместе с утверждением капитализма обмен стал пониматься чисто экономически и был сведен к меновой стоимости. Однако, рассматривая его вне категорий стоимости, мы можем обнаружить в обмене как первичном коммуникативном жесте нечто иное, а именно – логику дара. В этой логике, которая была в свое время детально проанализирована Марселем Моссом, экономика – не движение капитала, а движение предметов (характерный пример – потлач у индейских племен); она считается архаичной, но только потому, что вытеснена на периферию расчетом, здравым смыслом и экономикой денег, непосредственно связанных уже с идеями собственности. Но эта логика реанимируется заново, когда мы пытаемся проследить опыт существования богемы. Кажется, что изначальная бедность уже не предполагает возможность дарения, а уж тем более возможность траты. Кажется, что деньги и дар несовместимы как экономические категории. И действительно логика денег такова, что акт дарения в современном мире уже не носит характер экономический и становится актом моральным. И кража, в данном случае, лишь оборотная сторона дара. И то, и другое находятся вне экономики потребления, вне экономики, ориентированной на собственность. И дар, И кража, в каждом случае по – своему, утверждают ценность отказа от собственного, в пользу несобственного, отказа от присвоения в пользу, отсвоения (говоря хайдеггеровским языком), отказа «я» в пользу другого. Такова неразрывность этики и экономики общности.
Прудон, осуждающий одновременно и собственность и общность, возражает Руссо, для которого общность ассоциировалась с равенством. Он пишет: «Общность есть неравенство, но в совершенно ином смысле, чем собственность. Собственность ведет к эксплуатации слабого сильным, общность же – к эксплуатации сильного слабым». Однако здесь вряд ли проходит такая сильно упрощенная гегелевская схема диалектики раба и господина, когда в своей неотделимости друг от друга, в своей зависимости друг от друга, они меняются местами, и господин оказывается зависимым от самой системы господства, т. е. оказывается невольным рабом раба. Раб же в своем труде реализует тот опыт, который должен привести его к той или иной форме господства, но господство это всегда потенциальное, отложенное. Слабый не может эксплуатировать сильного именно потому, что он слаб, а для эксплуатации требуется именно количественно преобладающая сила. Сила слабого в хитрости, в умении приспосабливаться к режиму действия господствующих сил, и ускользать из – под их влияния.
Неравенство, выводимое из общности, такая же иллюзия, как и равенство, ибо неравенство предшествует общности и в каком – то смысле является его условием. Да, можно согласиться с тем, что в общности слабый «эксплуатирует» сильного, что очень наглядно демонстрирует пример с богемой, предлагающей себя на рынке и «продающей» всегда не то, что покупается. Но это такая эксплуатация, которая не приносит никаких результатов ни тому, ни другому, кроме как позволяет сильному периодически сталкиваться с непонятными для него и презираемыми им ценностями слабости.
Можно сказать, что если общество – это определенная организация социальных сил, ставших, фактически, политическими (кланов, наций, профессиональных групп, классов и т. д.), то общность – это постоянно обнаруживаемая в социуме лакуна политики, то место, где она еще не установила свой регламент. В общности сильный теряет свою силу, поскольку он перестает принадлежать к определенной группе, оказываясь в каком – то смысле десоциализированным, заложником прото – социальных жестов, желания или веры. Эксплуатация ли это? Скорее, это приостановка режима присвоения даже тем, кто убежден в наличии у него собственности.
Богема – лишь одно из многих незримых сообществ, которые сопротивляются собственности. Его особенность заключается в том, что она умудряется «выйти на сцену», прочертить свою границу сцены, разыграть ситуацию обмена, приводящую логику потребления к абсурду. И это сообщество постоянно реагирует на иные прото – социальные жесты, формирующие иные сообщества, проявиться которым гораздо труднее. Пример одного из таких сообществ – женщины.
Устойчивый стереотип буржуазного века, что мужчина и женщина связаны друг с другом, как производство и потребление вполне недвусмысленно стоит за словами Прудона «мужчина одарен силой действия, а женщина – силой очарования», феминизация общества начинается с того, что «действие» и «очарование» теряют свои устойчивые половые характеристики. Богема бездействует, пребывая в праздности и иллюзиях, и вся логика ее социального существования заключается в том, что она устанавливает в отношении себя некоторые правила восприятия, которые можно назвать, именно очарованием, или «работой очарования».
Но примерно то же самое происходит с женщинами. Проститутка меняет свой статус. Из чистого объекта мужского потребления она становится участником развлечения, соблазнения, общения. Она вдруг оказывается «действующей», постоянно заявляя о себе (с помощью нарядов и кокетства), постепенно превращаясь в роскошь. Это уже не полная невзгод жизнь Флоретты из «Отверженных», а судьба бальзаковских героинь «Блеска и нищеты куртизанок», «Дамы с камелиями» Дюма – сына или «Травиаты» Верди. В этих и многих других произведениях все еще сильна традиция романтического оплакивания женской доли, но очевидно, что здесь женщина становится уже чем – то иным. Она уже не собственность, она не вещь, а, скорее, роскошь, куда вкладываются деньги. А роскошь – это то, что нельзя присвоить в полной мере, поскольку она обладает неким неприсваиваемым избытком, не связанным только с деньгами, что, кстати, и привлекает так к ней собственников.
В роскоши есть тот момент избыточности, который удачно описывается в логике не потребления, а дара. Роскошь в качестве объекта потребления бессмысленна, она требует демонстрации. Также роскошь нельзя рассматривать как вложение денег (это обычно слишком неустойчивая, ситуативная, временная ценность). Так женщина начинает свой путь освобождения. И начинается этот путь с того, что мужчина обнаруживает в ней некий неприсваиваемый избыток, любовь или дружбу. Женщина теперь участвует в общности наравне с другими представителями богемы, интригующими буржуазию своими бессмысленными и роскошными жестами, позами, осанкой.
Именно поэтому проститутка постепенно уступает место куртизанке, а куртизанки уже выходят в свет, начиная не просто зарабатывать деньги, а участвовать в превращении денег в капитал. Конечно, потребление при этом не приостанавливается, но теперь женщина становится субъектом экономического процесса, располагаясь в межиндивидуальном пространстве обмена. Такова неожиданная роль капитала в судьбе женщин. Ведь капитал, как попытался показать Маркс, это как раз то, через что удается соединить собственность и общность, он – «коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете только совместной деятельностью всех членов общества» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии).
И женщина будучи десоцивализированной, и получив возможность выйти на рынок капитала, начинает вести себя по правилам богемы, что точно подмечает Тард в «Социальной логике»:
«Самая прискорбная сторона цивилизованной жизни заключается в том, что она, к несчастью, прекрасно умеет подделывать дружбу или любовь и распространяет эти подделки. Но даже и тут поступает согласно с социальной логикой. Огромное расстояние отделяет небольшое число любезных людей или красивых женщин, которые могут внушить любовь или дружбу, от того неизмеримого числа людей, которые чувствуют потребность и в том и в другом. С этой точки зрения любовь является особенно обильным источником всяких раздоров; она распространяет в среде общества противоположные и противоречивые чувства, сильные желания, наталкивающиеся на непобедимые сопротивления, чувства обожания, превращающиеся в чувства презрения. Кокетство с теми призрачными надеждами, которое оно порождает, кажется как бы нарочно изобретенным для установления равенства, хотя бы только кажущегося, между этим предложением и чувством любви, столь горестно несоизмеримыми друг с другом. Отсюда – его столь быстрый прогресс благодаря городской и цивилизованной жизни».
Кокетство лишь часть того спектакля, в котором участвуют женщины и богема. Само возникновение этого театра симуляций, где пересекаются деньги и чистый межиндивидуальный обмен дарами, говорит нам об общности. И все это зрелище формируется общностью. В этом смысле не может быть «общества зрелища» – это всего лишь поверхностный политический эффект того социально радостного единства, того веселого и иллюзорного сообщничества, которое всегда ощущается сферой общественной политики как угроза (государству, ценностям, нравственности). Поэтому ловится каждый момент экстазиса этой неоформленной общности и превращается социальной логикой в зрелище. Так женщина становится куртизанкой или гризеткой, так любовь заменяется кокетством, так действие заменяется позой, и, в конце концов, так богемность становится модной, поскольку именно в богемной бедности заключен тот ex – stasis свободной общности, который должен быть превращен в зрелище, представ в романтизированном, романизированном, оперном виде.
Поза и фотография
Вторая Империя, богема, фланер – образы, которые понадобились Беньямину, чтобы подступиться к фигуре Бодлера. Но есть еще один момент, не связанный напрямую с историческими реалиями эпохи, который заслуживает особого внимания, когда мы обращаемся к Бодлеру и когда хотим через этот персонаж прояснить что – то в разнообразных вариантах представления богемы, – это нечто, напоминающее подражательный инстинкт, склонность к имитации, некая новая форма мимесиса, которая обнаруживает себя в его творчестве, и которая плохо соотносима с поэтическим мимесисом.
Творчество Бодлера не очень – то обширно. Собственно, сборник «Цветы зла» есть, по сути, единственное его произведение. Все остальное не несет в себе той «литературной претензии», которая является одним из важных факторов появления произведения. Но творчество Бодлера выходит за рамки произведения. Можно даже сказать, что если «Цветы зла» отдают дань литературе, то остальные его тексты (переводы Эдгара По, книги об опиуме и гашише, статьи о живописи и дневники) представляются продолжением самой его жизни. Его особенный, во многом придуманный дендизм представляет собой обратное движение – от жизни к творчеству. Это создает совершенно особый образ поэта. Он слишком естественен (до неприличия) в стихах, и его стремление к реальности настолько велико, что даже литературная романтическая форма уходит на второй план, но, в то же время, вся жизнь его предельно искусственна, формализована дендизмом и подменена жизнью всегда иной (наркотическое опьянение – один из ее вариантов). Этот зазор между искусством и жизнью (между абстракцией и реальностью), в котором располагается Бодлер, тем очевидней, что реальность перепоручена литературе, живописи, музыке, а мир становится нагромождением нереализованных иллюзий («поступок», «революция», «любовь», «семья» и т. д.).
«Опьянение это число», – пишет Бодлер. То есть опьянение – реализуемая абстракция (или – иллюзия), поскольку она умножает мир, вводит дополнительный мир, приобретающий статус реального. Здесь поведение только технология («дендизм»), секс только с проституткой, одиночество только в толпе, ясность только в опьянении… Это антиплатонический мир «соответствий», в котором неизвестно, где подобие, а где образец. Историки литературы утверждают, что именно этот мир – предтеча будущего литературного символизма. Возможно. Однако у Бодлера нет выбора в пользу символа, как нет выбора и в пользу «реальности». Он отказывается и от того, и от другого, но только наша интерпретация способна расставить силовые отношения в этой схеме. Промежуточное состояние – динамическое соответствие, процесс имитации (литературной или жизненной формы) или мимикрии, а не ее результат, перевод как идеальный способ самовыражения, энергия индивидуального скрытая под чужим именем (например, По), или за чужой манерой поведения (например, Браммель), а если уж и есть авторство («Цветы зла»), то оно причиняет только страдания. Никакого признания, никакого успеха, только поражение, только падение. Сартр пишет: «Жить – значит падать; настоящее – результат падения; выбор Бодлера состоит в том, чтобы пережить свою связь с прошлым, испытав угрызения совести и чувство раскаяния…» И в другом месте: «…Он пытается оправдать свою неспособность к действию ссылками на уже виденное, уже сделанное, на непоправимое».
Действие непоправимо. Оно лишает Бодлера настоящего, то есть того единственного момента, в который он существует. Действие подчинено социальной механике, участие в которой неминуемо устанавливает приоритет в системе соответствий. Действие (даже революционное) обречено на то, чтобы стать потребимым. Непотребимо противоречие, момент раскоординированности формы, момент, когда представление (поэтический образ) не справляется с объектом. Жизнь и поэзия Бодлера – стремление к такому состоянию. Стремление выдержать позу, зафиксировать точку, в которой мир собран, но должен быть разрушен в следующий момент. Любое действие непоправимо.
История Бодлера превращается в историю несчастий, пока мы видим в его жизни только историю. Однако другой взгляд таков: Бодлер – это серия поз, каждая из которых есть акт пассивного сопротивления, фиксация только настоящего (максимальной поляризации воспоминания и ожидания), то есть самой реальности.
Обратим внимание на крайне негативное отношение Бодлера к фотографии: «В своем идолопоклонстве толпа создала достойный себя и соответствующий своей природе идеал <…> Некий мстительный бог выполнил пожелание толпы. Ее мессией стал изобретатель Даггер. И тогда публика решила: «Поскольку фотография надежно гарантирует желанную точность (нашлись дураки, которые верят в это!), то ясно, что фотография и есть наивысшее искусство». И тут же все это скопище мерзких обывателей ринулось, подобно Нарциссу, разглядывать свои заурядные физиономии, запечатленные на металле». Раздражение Бодлера неудивительно. Фотографическая техника порабощает последнее прибежище искусства – само мимолетное, неопределенное настоящее. Фотография пытается оприходовать даже позу. Она включает настоящее в историю, мгновенно делая его прошлым. Фотографическое изображение оказывается конкурентом Бодлера в претензии на овладение реальностью. Она предлагает свой вариант соответствия, где изображение и жизнь уже неотличимы, где сокрыто авторство, где толпа (бодлеровская иллюзия общности) обретает инструмент самопрезентации.
Толпа с приходом фотографии перестает быть для богемы конспиративным пространством, в котором она одновременно невидима и самоопознаваема. Это пространство становится прозрачным, производство репродукций реальности намекает на возможность проникновения внешнего наблюдателя в искусство позы, скрывающей тайну сопротивления, тайну, открытую только для посвященных.
Одной из таких «тайн» остается весьма своеобразный дендизм Бодлера. С одной стороны, это, несомненно, некая идеология элегантной жизни, со всеми характерными для этой идеологии атрибутами («богатство», «праздность, «бесцельность», «пресыщенность», «неопределенный статус»). Но, с другой, Бодлер отдает себе отчет (в отличие от Бальзака) в том, что элегантность денди это труд пассивного протеста. Этот протест воплощен в холодности позы, «которая порождена твердой решимостью не давать власти никаким чувствам; в них (в денди – О. А.) угадывается скрытый огонь, который мог бы, но не хочет излучать свет» (Бодлер).
Такое понимание дендизма несет на себе отпечаток трагической героики, более характерный для самого Бодлера, нежели для какого – либо дендизма из когда – либо существовавших.
«Его одежда играет ту же роль для глаз, что и ложь для ушей. <…> Уже тот факт, что он ощущает множество обращенных на него взглядов, заставляет его солидаризироваться с собственными лживыми выдумками. Он видит, он узнает себя в глазах других и, погруженный в атмосферу ирреальности, наслаждается своим воображаемым протестом. Вот почему лекарство оказывается еще хуже, чем болезнь: Бодлер боится, что его увидят, и потому лезет всем на глаза… <…> Он не зарабатывает себе на жизнь трудом, а это значит, что деньги, на которые он живет, не являются вознаграждением за какой – либо объективно оцениваемый социальный труд, но зависят главным образом от суждений, которые о нем складываются. Между тем его изначальный выбор самого себя как раз и предполагает постоянное и повышенное внимание к чужому мнению. Он знает, что его видят, ощущает неотрывно направленные на него взгляды; он хочет нравиться и в то же время не нравиться; любой его жест рассчитан "на публику"» (Ж. – П. Сартр. Бодлер).
Исходя из рассмотрения Бодлера как поэта, причем – французского поэта XIX века, то есть с некоторым необходимым культом психической болезни, Сартр видит в его дендизме «компенсаторное сновидение». Если же мы рассматриваем некоторую структуру, которая описывается именем «Бодлер», то дендизм предстает как еще один вариант умножения мира, умножения, превращающего сам мир в иллюзию. «Я» и «другой» существуют в этом мире на равных правах. Между ними нет различия, нет первенства «я», выстраивающего по собственному закону «другого», но нет и Другого, которому «я» должно соответствовать. Это не просто раздвоение «я», как иногда описывают мир шизофреника или наркомана, в этом раздвоении связь не менее важна чем разрыв. Асоциальность Бодлера не может быть понята вне рассмотрения внутреннего неисполнимого желания быть в обществе: «быть другим» для него равносильно быть – с–другим. В этом корни имитационных мотивов, от откровенного плагиата из Эдгара По (см. статью Поля Валери «Положение Бодлера») до дендизма и наркомании, заставляющих его терять свое имя, свою сущность, но обретать состояние перехода, момент чистой видимости, позу.
Такое понимание позы соотносится с фотографической концепцией Ролана Барта («Camera lucida»), рассматривающего позу как задержку, момент неподвижности, дающий возможность разглядеть. Эта моментальная задержка (всегда съедаемая повседневностью) – протоэлемент фотографической экспозиции. Отдание себя (дарение) взгляду камеры, стремление быть потребленным этим механическим глазом, обнажает подобную направленность вовне, к взгляду оценивающему и ловящему позу, ту иллюзию, которую продает богема. Подобную же подмену Бодлер усматривает и в опьянении гашишем, когда сознание начинает действовать с механикой фотоаппарата, фиксируя только пунктумы, и открывая общность в том, что эти твои частные иллюзии разделяемые другими:
«Эта веселость, все более мучительная и душераздирающая, эта тревожная радость, это предболезненное состояние длится, как правило, очень короткое время. Вскоре связь между мыслями становится такой зыбкой, а путеводная нить ваших рассуждений такой тонкой, что только ваши соучастники способны вас понять. Впрочем, это никак нельзя проверить: им может казаться, что они понимают вас, и эта иллюзия взаимна. Эти безумные взрывы хохота кажутся настоящим помешательством или, по меньшей мере, истерикой каждому, кто не испытывает вашего состояния. Более того, рассудительность, здравый смысл и нормальный ход мыслей осторожного наблюдателя, воздержавшегося от опьянения, смешит и забавляет вас как своего рода слабоумие. Роли перевернуты» (Ш. Бодлер. Искусственные рай).
Именно «поза» (серия экспозиций) заставляет увидеть в творчестве Бодлера не просто литературу, но литературу становящаяся фотографией, письмом иллюзий. Проскальзывающие позы (как фотографические снимки) – фрагменты, осколки времени, которые соединить друг с другом не удается не потеряв главного. Главное – в переходе от одного момента к другому, в том движении, которое сохраняет те позы, которые мы можем принять только случайно. Это замедление дается опьянением, гашишем и фотографией.
Тот же Ролан Барт будет именно так описывать фигуры любви именно как моменты перехода от одного культурного знака к другому, при этом сами знаки любви оказываются опустошены культурой, литературой, поэзией, и только в этом напряжении перехода, в имманентности межличностного контакта, когда ты отказываешься от присвоения знака, когда ощущаешь невозможность присвоения самого этого чувства, только тогда ты оказываешься способен к любви, к этому постоянному и устойчивому аффекту общности, к эротизму, где желание превышает любую возможную потребность.








